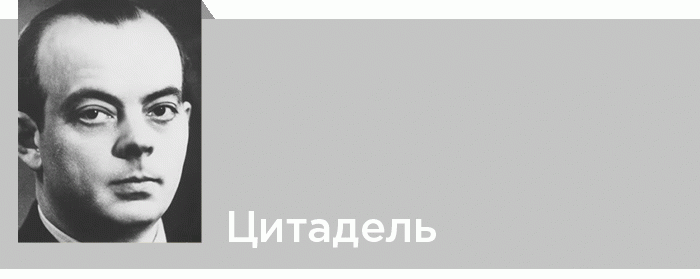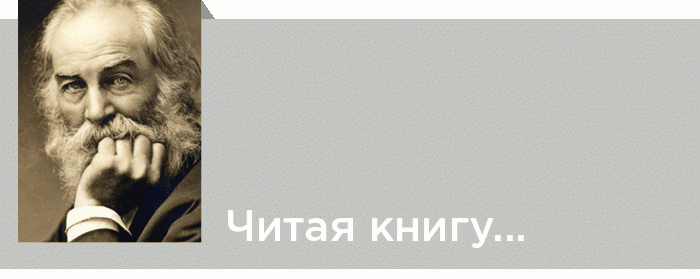Демократия Уолта Уитмена

«Я принимаю Реальность без всяких
оговорок и вопросов...
Женщины, пригодные к зачатию, отныне
станут рожать от меня более крупных и
смышленых детей. (То, что я вливаю в
них сегодня, станет самой горделивой
республикой».)[1]
(«Песня о себе»)
Возрождение интереса к Уолту Уитмену в большой степени связано с признанием того, что он является самым могучим и вдохновенным демократическим поэтом Америки. Поэтому для нас особенно важно сейчас понять до конца, что Уитмен подразумевал под демократией, которую он столь горячо восславил в «Листьях травы». Не брал ли он за образец своей демократии буржуазное общество прошлого века, в котором жил? Что он понимал под индивидуализмом? Был ли он просто-напросто идеалистом и романтиком? Как он мыслил себе единство целого и отдельного? Ответы на все эти вопросы должны дать ключ к более глубокому пониманию того, какое значение Уитмен имеет для нашей эпохи.
Как и все большие поэты, Уитмен стремился выразить свои идеи в поэтической форме. Однако в своих прозаических произведениях он постарался изложить их в более систематическом и логически последовательном виде. Так что было бы полезно попристальнее вчитаться в его многочисленные предисловия к «Листьям травы», заметки, лекции и эссе, среди которых особое место занимают «Демократические дали». Пытаясь полнее выявить взгляды Уитмена, мы не ограничимся двумя-тремя цитатами, а предоставим поэту право самому изложить свои мысли как можно подробнее, насколько это позволит объем нашей небольшой статьи.
Прежде чем обратиться к его программному определению сущности и задач демократии, мы бы хотели решить вопрос, в какой степени и в каком смысле Уитмен был «индивидуалистом», «эгоистом» и романтиком». Достаточно бросить даже поверхностный взгляд на произведения Уитмена—и мы убедимся, что понятия «индивидуализм» и «эгоизм» обозначают у него все, что угодно, но только не себялюбие или безответственность, не тягу к личной выгоде или безоглядное стремление властвовать. Он неизменно употреблял эти слова в том
[1] Здесь и далее перевод К. Чуковского.
самом смысле, в каком мы сегодня употребляем слова «индивидуальность» или «личность», обозначающие наиболее зрелую и здоровую ступень развития человека как члена общества. Он всегда * отвергал узкое значение этих слов и настаивал на том, что отдельная индивидуальность—ничто в отрыве от массы. «Устремленность ввысь, желание достичь исключительного и привилегированного положения» были для него «помыслами самого общего свойства»; в то же время «вождь ради своего же величия и благополучия должен сохранять союз с массами: это так же необходимо, как и взаимное согласие... Так возникает великое понятие Солидарность». Смысл этого высказывания едва ли неясен. Уитменовская великая личность, «вождь», скорее напоминает Авраама Линкольна, чем какого-нибудь «грубого индивидуалиста» с крепко стиснутыми зубами или топающего ногой грозного диктатора. Подлинная индивидуальность, другими словами, оказывается у Уитмена диалектическим единством противоположностей.
«Основополагающая идея уникальности человека, индивидуализм, будет вытекать даже из ей противоречащих предпосылок. Необходимо постоянно учитывать и принимать во внимание, способствуя его формированию, массовый, или всеобщий, характер. Лишь из него... вырастает его противоположность, лишь он порождает условия для возникновения индивидуализма. Это две противоположности, но наша задача заключается в их примирении».
Чтобы не создалось впечатления, будто эта мысль, выражающая диалектический подход Уитмена к проблеме взаимосвязи единичного и общего, является у него случайной, приведем еще один Отрывок:
«Последнее, и главное, положение [демократии][2]—опора на человека как такового, на его врожденные и получившие полное развитие способности, исключающая какое-либо обращение к суевериям. Идея абсолютного индивидуализма есть, в сущности, то, что пронизывает насквозь и обусловливает весь характер идеи общего».
И еще:
«С демократией, в основе которой лежит обязательный принцип уравнивания, усреднения, с необходимостью смыкается другой принцип, столь же обязательный и теснейшим образом связанный с первым, хотя и противоположный ему (в том же смысле, в каком противоположны мужской и женский пол)... противоречащий ему и даже вступающий с ним в борьбу, но, парадоксальным образом, не имеющий без него никакого смысла... Этот второй принцип—индивидуальность... личность, словом, персонализм».
И конечно же, совсем не случайно первые две строки первого стихотворения его демократического эпоса «Листья травы» звучат так:
Одного я пою, всякую простую отдельную личность,
И все же демократическое слово твержу, слово “En Masse”
В самом деле, в Предисловии к «Листьям травы» издания 1872 года он говорит, что его книга «является по своему замыслу песнью великой собирательной демократической личности, мужчины
[2] Здесь и далее в квадратных скобках добавления автора статьи.— Прим, перев.
или женщины. И, оставаясь верным своему замыслу и желая развить его далее, я предполагаю воссоздать в песнях этой книги (если я когда-нибудь завершу ее) глубинный, более или менее внятный голос целостной, неразделимой, уникальной, огромной и собирательной, наэлектризованной демократической нации».
Диалектическое единство личности и массы—вот суть всей его концепции. Не только его книга как единое целое, но и каждое отдельное стихотворение, как, например «Песня о себе», будут (и были!) совершенно непонятны и неверно истолкованы, если мы не примем во внимание, что его вера в эгоизм как форму полного расцвета демократической личности, уходящей своими корнями в демократическую общность, частью которой она является, не противоречила, но, напротив, величественно выражала устремления масс. «Я вмещаю в себе множество разных людей»—это необходимо понять и в таком смысле: «Множество разных людей вмещает меня в себе или выражают себя через меня».
Назвать Уитмена «эгоистом-индивидуалистом XIX века» было бы вопиющим недоразумением, но мы бы совершили еще большую глупость, поместив его в один ряд с поэтами-романтиками Прошлого столетия. Здесь опять будет полезно обратиться к его Прозе. Отличительной особенностью руссоистского романтизма является убежденность в уникальности и самоценности индивидуальной души, в абсолютной свободе индивидуальной воли. Правоверный романтик не признает для себя никаких ограничений. С его точки зрения, человек, будучи в сущности своей богоподобен, обнаруживает препятствия для осуществления своей совершенной природы, возводимые «неестественными» условиями' его существования в обществе. Поэтому романтик и становится заклятым, врагом общества, которое он, впрочем, способен подчинить себе или над которым он может «возвыситься», будь только на то его Воля.
Но так обстоит дело в теории. На практике же с романтиком происходит вот что. Убеждение в своей уникальности и абсолютной свободе воли постоянно приходит в столкновение с жизненными обстоятельствами, и ради сохранения своих иллюзий он бежит от реальности и создает себе собственный воображаемый мирок. На исходе романтизма он уже предстает перед нами отчаявшимся пессимистом, который ненавидит людей за их несовершенства, либо предается своим грезам, находясь в полной изоляции, либо страдает параноической манией собственного величия. В каждом случае он слепо сражается с теми общественными силами, которые могли бы сокрушить основы социального зла, ибо эти силы одновременно угрожают разрушить и его иллюзорный мир.
Только при искажении действительного содержания романтической доктрины или же при грубо ошибочном истолкований смысла уитменовского творчества может увенчаться успехом попытка втиснуть Уитмена в прокрустово ложе романтизма. Мы уже убедились, что для него индивидуальность не абсолютное, но диалектическое единство. И самый характер, и все помыслы его «совершенной» личности полностью совпадали с характером К помыслами масс. А о своих человеческих недостатках он говорил с такой непосредственностью, какую не обнаружишь даже у простого смертного. Ни один из когда-либо живших поэтов не был так далек от мании величия. И никто не воспел так темпераментно «обыденное», «конкретное», «привычное». На-тысячу ладов он повторял, что «в конце концов главное значение в стране имеет лишь средний человек». Он неустанно защищал интересы масс, «трудового народа, мужчин и женщин», «фермеров и механиков» Америки и столь же неустанно обнажал пороки системы экономической эксплуатации. Никто из его современников, за исключением разве что Линкольна, его идеального героя, не любил простых людей—весь народ в целом и каждого его отдельного представителя—так, как он.
Он вдохновлял и восславлял бунтарей и революционеров, выступавших против феодализма и реакции во все времена, в любой стране. Что же касается пресловутого вопроса о свободе воли и необходимости, то мы обнаружим, что его позиция оказывается ближе диалектическим воззрениям Энгельса, чем метафизике Руссо. Уитмен писал: «Как бы странно это не показалось, мы обретаем свободу лишь в том случае, если знаем Закон, которому мы должны подчиняться... Недалекие люди почитают за свободу независимость от всех законов, от всех сдерживающих сил. Мудрые же, напротив, видят в ней могучий Закон Законов—именно, сочетание и взаимосвязь. сознательной воли, являющейся частично индивидуальным законом, с теми универсальными, вечными, неосознаваемыми законами, которые существуют вместе со Временем на протяжении всей историй, которые гарантируют бессмертие, наделяют моральным принципом весь сущий мир и даруют человеческой жизни ее высокое достоинство».
Энгельс в «Анти-Дюринге» выразил эту же мысль так: «Не в воображаемой независимости от законов природы заключается свобода, а в познании этих законов и в основанной на этом знании возможности планомерно заставлять законы природы действовать для определенных целей»[3].
Конечно, Уитмен творил в эпоху литературного романтизма и не мог не испытать его влияния. Он часто использовал его характерный язык для переосмысления, видоизменения или опровержения понятий романтизма. Можно не без основания сказать, что, как и Гегель, он поставил диалектику на голову. Можно, далее, сказать, что демократия, которую он воспел так энергично в своих поэмах, всего лишь розовая мечта. Но ведь он сам это вполне осознавал! «Осуществление демократии в самом полном смысле слова целиком относится к будущему». Америку «ожидает далеко не заурядная судьба. Соединенным Штатам суждено либо посрамить всю пышность истории феодализма, либо же потерпеть самое сокрушительное поражение». То, что он превозносил и возвеличивал в «Листьях травы», было только первыми признаками, первыми ростками, исходным человеческим материалом для будущего расцвета демократии. «Я считаю, что наша Америка сегодня во многом представляет собой необъятное изобилие материала, более разнообразного, лучшего (и худшего тоже), нежели все ранее существовавшее,—вполне пригодного для того, чтобы в конечном счете возвести из него гигантскую идеальную нацию будущего, которая просуществует в веках...»
[3] Маркс К. и Энгельс Ф. Сон., т. 20, с. 116.
Он никогда не закрывал глаза ни на проявления зла, которое несло с собой господство системы laissez-faire XIX века, ни на «сердечную пустоту» американских правящих классов:
«Ужасное зрелище... Испорченность деловых кругов в нашей стране не меньше, чем принято думать, но неизмеримо больше. Общественные учреждения... кроме судебного, изъедены взяточничеством и злоупотреблениями всякого- рода. Суд начинает заражаться тем же. В крупных городах процветает благопристойный, а порою и открытый грабеж и разбой... В бизнесе (всепожирающее новое слово «бизнес») существует только одна цель—любыми средствами добиться барыша».
Но даже несмотря на все бесчинства власть имущих, он чувствовал, что его неизменный оптимизм оправдан, ибо «за кулисами этого нелепого фарса, поставленного у всех на виду, где-то в глубине, на заднем плане, можно разглядеть колоссальные труды и подлинные ценности, которые рано или поздно, когда наступит срок, выйдут из-за кулис на авансцену».
Другими словами, «уродливые картины американской политической и общественной жизни, наблюдаемые повсеместно,—это всего только временные явления... сорняки, которые неизбежно взрастают на плодородной почве,—далеко не главный и не долговечный ее урожай».
Современные политиканы и полководцы, эти однодневки, никоим образом; утверждал он, не могут считаться представителями молодой демократии: «Наиболее полное проявление гения Соединенных Штатов мы видим не в их государственных деятелях и законодателях, не в их послах, писателях и изобретателях; мы не обнаружим его в колледжах, церквах или гостиных, ни даже в газетах, но всегда—в простом народе юга, севера, запада, востока, всех штатов, всей нашей необъятной земли».
Он писал, что видел, как на его глазах «миллионы крепких и смелых фермеров и мастеровых превращаются в беспомощный ломкий тростник в руках. сравнительно немногочисленной кучки политиканов». «Печальные, серьезные, глубокие истины. Но есть другие, еще более глубокие истины, которые преобладают над первыми и, так сказать, противостоят им. Над всеми политиканами, над их большими и малыми шайками, над их наглостью и хитрыми уловками, над самыми сильными партиями возвышается власть, может быть, покуда еще дремлющая, но всегда держащая наготове свои приговоры, которые она приведет в исполнение с суровой неумолимостью, как только приспеет время».
Тогда, разумеется, демократическое общество переживало еще пору своего отрочества, и его подлинный характер не успел выкристаллизоваться. Его и нельзя было считать достигшим зрелости до тех пор, пока оно «не сформировало, не привело в систему и победно не утвердило, в своих же собственных интересах и с невиданным успехом, новую землю и нового человека».
Нельзя сказать, что у Уитмена было примитивное представление об историко-эволюционном процессе. Для него демократия не абстрактное и вечное добро, а конечная цель развития человечества, кульминация «всего исторического развития». Он готов признать полезность и неизбежность для своего исторического времени других форм общественного устройства. «Америка без пренебрежения относится к прошлому, не отвергая того, что этим прошлым в самых разнообразных формах было создано — политические теории, разделение общества на касты, учения старых религий; она невозмутимо соглашается с тем, что формы жизни, которые сослужили свою службу, переходят в новые формы современной жизни... что они были наиболее приемлемыми для своего времени, что их опыт перейдет к здоровому и крепкому поколению, которое грядет, и что она [демократия] будет наиболее приемлемой формой жизни для своей эпохи». Он понимал, что демократия развивалась и будет развиваться не только благодаря «моральным силам», но и благодаря «торговле, финансам, машинам, средствам сообщения». Он соглашался с теорией, утверждавшей, что «единственно надежной основой—и также, помимо прочего, sine qua non[4] — подлинной процветающей цивилизации является гарантированная возможность неограниченного производства продуктов питания и предоставления одежды и жилища для каждого... и только тогда будут созданы все условия для развития эстетических и интеллектуальных способностей».
Остановить обладающий «суровой неумолимостью» процесс социального развития «так же невозможно, как и задержать морской прилив или земной шар, несущийся по своей орбите». И как только демократия достигнет своей зрелости, она поставит своей целью непременно воплотить в жизнь учение о том, что «человек, живущий в здоровых условиях полной свободы, может и должен стать законом, сводом законов, для самого себя, не только осуществляя контроль над собой, но и сообразуясь с интересами других людей, как и всего государства, и что, подобно другим учениям, созданным в прошлом, и будучи необходимым порождением своего времени, сыгравшим значительную роль в жизни наций, это учение, как показывает жизнь нашего нынешнего цивилизованного мира, является единственно возможным и достойным стать путеводной программой, причем результаты ее осуществления, столь же надежные, как и те, которые мы получаем вследствие действия раз навсегда установленных законов Природы, не заставят себя ожидать».
Эти строки показывают, насколько глубоким был уитменовский реализм и как в то же время был еще силен в нем романтический идеализм. Мысль, что человек может стать законом для самого себя,—разве это не отрицание романтической аксиомы, гласящей, что человек—уникальная и свободная душа, которая изначально является своим собственным законодателем! Это также означает признание ограниченности человека и призыв к его совершенствованию — а не провозглашение этого совершенства чем-то изначальным—и превращению его в высокоразвитую демократическую «масс-индивидуальность». Человек идет к совершенству «в своих же собственных интересах» и в соответствии с законами природы, а не вопреки им. Однако обратим внимание на то, что эта программа предполагает развитие от, а не к конечной цели. Такова логика свойственного Уитмену гегельянского мышления. Он отправляется от конечной цели и подвергает критике наличную действительность за ее
[4] Непременным условием (лат.).
несоответствие последней, высшей, стадии развития. В свою очередь Маркс, который поставил диалектику с головы на ноги материализма, начал с научного анализа объективной действительности, ее прошлого и настоящего («История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов»[5]) и индуктивным путем пришел к формулировке конечной цели. Маркс постоянно делает акцент на роли объективных условий и на ближайших задачах; Уитмен же, исходя из своего представления о том, какими мы должны стать, удовольствовался лишь туманными рассуждениями о «суровой неумолимости» социального развития, о «колоссальных трудах», о покуда еще дремлющей власти, которая держит свои приговоры наготове... В том, что он сосредоточивал свое внимание на неизбежно идеальном будущем, игнорируя насущные конкретные цели, Уитмен может быть с полным основанием назван романтиком и идеалистом. Но, охарактеризовав его так и не более, мы едва ли постигнем его подлинное величие. Ведь здесь важно уже то, что он говорит с нами с такой предельной честностью, которая вдохновляет нас на активное действие в неизмеримо большей степени, нежели трезвые научные выкладки и доказательства.
Мы не можем требовать от поэта быть политическим экономистом. Наука и поэзия говорят на разных языках, хотя их истины тождественны. Кстати сказать, Уитмен настаивал на политическом значении своего творчества. Он прямо говорил, что «Листья травы» в целом создавались как «выступление радикала», а «особый смысл цикла «Аир благовонный» заключается главным образом в его политическом звучании». Если человек способен зажечь в нас эмоциональный порыв к преобразованию общественного уклада, должны ли мы требовать от него еще и скрупулезного исследования механизма этого преобразования, которое должно произойти? Не достаточно ли того, что, став великим поэтом демократии, Уитмен стал вместе с тем и первым великим поэтом социализма?
Вся история становления демократии, полагал Уитмен, распадается на три основных этапа. «На первой стадии были выработаны и обнародованы основные политические права, предоставлявшиеся огромным массам людей, в сущности, всем людям... не представителям каких-то определенных классов, но человеку вообще, и этот правопорядок был зафиксирован сначала в тексте Декларации независимости, а потом и в тексте федеральной Конституции, со всеми многочисленными поправками, возникавшими с течением времени; его воплощением является структура Государственных учреждений каждого штата и система всеобщего избирательного права; и все эти права обладают глубокой значимостью не только сами по себе, но и в том, что они, распространяясь и внедряясь в повседневную жизнь, должны были способствовать возникновению и упрочению сотен других, столь же демократических прав». Политическая зрелость, о чем свидетельствует этот отрывок, поразительна. Уитмен подчеркивает ни больше ни меньше как то, что основополагающие для демократии права были «выработаны», «обнародованы», «распространялись» и «внедрялись». И прежде чем демократия достигнет апогея своего
[5] Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 4, с. 424.
развития, должны возникнуть «сотни других, столь же демократических, прав». Заметим также, как безоговорочно он принял Декларацию независимости и как он особенно настойчиво указывал на важность введения новых поправок к Конституции. Без всякого риска мы можем утверждать, что он никогда бы не согласился с Конституцией, в которой отсутствовал бы Билль о правах и поправки о запрещении рабства.
Уитмен считал, что эта стадия, на которой произошло провозглашение основных принципов, фактически завершилась с окончанием Гражданской войны, с отменой рабства и освобождением человека от феодальной зависимости. Хотя, конечно, предстояло развить демократические завоевания вглубь и вширь. «Вторая стадия имеет своей целью обеспечить материальное преуспеяние, рост богатств, увеличение производства, внедрение облегчающих труд машин, добычу железа, выращивание хлопка, строительство местных, в каждом штате, и трансконтинентальных железных дорог, развитие средств связи и торговли со всеми странами, постройку пароходов, разработку полезных ископаемых, всеобщее трудообеспечение, возведение огромных городов, выпуск дешевых предметов домашнего обихода, организацию многочисленных технических школ, печатание книг, газет, бумажных денег и т. п.». Уитмен думал, что здесь, в области экономической жизни, существовавшая демократия находилась на пути к зениту. «Я нимало не сомневаюсь в предполагаемом у нас... материальном успехе». В его время—чего нельзя сказать сегодня— еще резко бросалось в глаза различие между относительно высоким жизненным уровнем американского народа и бедственным положением народных масс в Европе; поэтому ему казалось, что необходимо только «выработать более универсальную систему владения собственностью, учредить общие гомстеды, повысить всеобщее благосостояние — и добиться гибкого и всеобъемлющего распределения богатств». Он не замечал, что массовое производство уже сокрушило джефферсоновский идеал свободного частного предпринимательства в процессе быстрого роста средств производства. Он настойчиво повторял, что, «по словам Сисмонди, подлинное процветание нации достигается не за счет увеличения богатств одного класса; его можно достичь лишь тогда, когда большинство людей имеют возможность, платя небольшой налог, владеть собственным домом и землей. Вероятно, это будет и не самое лучшее зрелище, но зато самая лучшая реальность». Но он, безусловно, не мог не знать об укреплении в Америке привилегированного класса богачей. Он предупреждал: «В современных условиях среди любых опасностей для наций нет опасности более серьезной, чем существование больших групп людей, отгороженных от остального общества высокой стеной. Они не обладают никакими привилегиями, они унижены, растоптаны, их попросту не принимают в расчет».
Время шло, и существование этого класса стало беспокоить его так сильно, что он уже задавал себе вопрос, не превратится ли Америка в конце концов, подобно европейским «феодальным» государствам, в страну величайшего социального неравенства и несправедливости. Заостряя внимание на «богатстве цивилизованного мира, столь резко контрастирующем с его бедностью», он восклицал: «Богачу необходимо иметь крепкие кулаки. Сегодня в Европе богатство растет в основном благодаря олицетворяемому им насилию, вероломству, жадности, убийствам и другим преступлениям. Так продолжалось сотни лет и так будет впредь; и у нас в Америке все происходит точно так же (пока, возможно, не в столь чудовищных формах или, во всяком случае, не столь заметно — ибо мы ведь и существуем недолго,— но мы, кажется, стараемся изо всех сил наверстать упущенное)». Он испытывал живейшее отвращение к «лихорадочному азарту, с каким делаются деньги», к процветанию «постыдного обжорства в то самое время, когда другие голодают». Он выступал против политики тарифной «протекции» не только из принципа (а это очень важное свидетельство его практического реализма), но видя перед собой конкретные факты, свидетельствующие о том, что всю «добычу» получали «немногие избранные», «вульгарная аристократия» банкиров и политиканов, а не «массы», не «трудящиеся мужчины и женщины». Его заметки по этому вопросу были написаны в то время, когда уже утвердили свое господство магнаты-грабители. Классовая борьба обострилась настолько, что уже вряд ли кто-нибудь мог пройти мимо нее, и менее всего — Уитмен, который, начиная еще со своих первых шагов в журналистике в бруклинском «Игл», часто писал об этом на страницах многих газет, причем всегда выступал на стороне рабочих. Теперь, впрочем, в его словарь начал проникать характерный для рабочего движения язык, когда он писал о своих растущих сомнениях в «невиданном успехе» демократии в сфере американской экономики. «Американская революция 1776 года была попросту гигантской забастовкой, которая успешно завершилась удовлетворением ее самого насущного тогда требования, но все еще предстоит решить, было ли эго подлинным успехом. Французская революция стала забастовкой в высшем смысле слова, забастовкой ужасной и беспощадной, против многовекового грабежа, против бесчестного распределения богатств, против жадного всевластия кучки роскошествовавших, которым противостояла огромная масса рабочего люда, прозябавшего в нищете. Если Соединенные Штаты, по примеру других стран Старого Света, тоже собираются породить массу бедного, отчаявшегося, неудовлетворенного, бродяжничающего, полуголодного народа, что мы наблюдаем на протяжении последних нескольких лет, тогда наш республиканский эксперимент, невзирая на весь его внешний блеск, является в своих глубинных основаниях болезнетворным предприятием». Возможно, думал Уитмен, современная ему республика не была наилучшей формой государственного устройства для осуществления демократии. Однако, по его мнению, не могло быть и речи о движении вспять, об отступлении, о возврате к устаревшему социальному миропорядку. Необходимо идти только вперед. Вопрос заключался не в том, что лучше — «монархизировать» или «демократизировать». Современная обстановка в мире совершенно ясно требовала «более широкой демократизации общественных институтов», и только один-единственный вопрос имел важность: «как, в какой степени должна осуществиться эта демократизация». Как теперь ясно, он не мог этого вполне осознать до тех пор, пока Тробел не разъяснил ему, старику, что «более широкая демократизация общественных институтов» в конечном-то итоге означает их превращение в социалистические. И все же, даже не будучи «знаком с основами политической экономии», он делал четкое различие между двумя противоположными классами, видел их борьбу; он непреклонно стоял на позициях надежды, силы духа, прогресса.
Третья, последняя, стадия вызревания демократии, этого его любимейшего детища, предполагала в той или иной степени одновременное: 1) слияние всех наций в единое демократическое братство, 2) появление высокоразвитых демократических личностей, 3) возникновение «особого духа выразительности» в литературе, искусстве, науке, родственного великой демократии, которую этот дух призван воплотить. В его понимании это были три аспекта единого процесса. Высокоразвитая демократическая личность, убежденная в прямой зависимости ее собственного благосостояния от благосостояния всего народа, не могла бы порождать ничего, кроме «космических» созданий демократического духа, который в силу своего непревзойденного превосходства над всеми другими формами социального устройства должен непременно распространить свое влияние на все человечество, превратив его в огромное демократическое братство и осуществив «ослепительную, заветную мечту всех времен!» — «восславляя демократию, эту столь пленительную цель, за то, что лишь одна она может объединить все нации, всех людей, так непохожих друг на друга и живущих в разных уголках света, в братство, в одну семью. Это ли не древняя, но всегда современная мечта земли, создание ее старейших и самых юных, ее преданнейших философов и поэтов...— превращение всех народов в товарищей, в побратимов». Очевидно, что, даже сформулированная в характерных для Уитмена выражениях, цель его демократии — «новая земля и новый человек» — совпадает с целями современного международного социализма.
Можно предположить, что и сегодня американские писатели могут во многом ориентироваться на культурную программу Уитмена. Мы видим, насколько близкими уитменовским оказываются наши собственные задачи- и наши воззрения. Ибо он требовал «...проекта культуры, не предназначенной для какого-то одного класса, или для гостиных, или для университетских аудиторий, но учитывающей особенности практической жизни у нас на Западе, не остающейся равнодушной ни к ферме, ни к рубанку, ни к труду рабочих и инженеров... она не должна оставаться в узких рамках, которые делают ее непонятной для масс».
Он был непримиримым врагом идей «искусства для искусства», «башни из слоновой кости» и «той современной эстетической заразы, которую один мой друг, большой шутник, называет заразой красоты». Поэзия демократии должна иметь своей задачей «вдохновлять и сподвигать, а не определять и завершать». «Мужчина или женщина должны видеть в великой поэме не завершение, а, скорее, начинание... Душа [великого поэта], как и сама Природа, выражает себя в действии».
«Во все времена старания создателей высокой поэзии, государств, религий, литератур были и будут—и наше время не исключение—в основе своей одинаковы: направлять помыслы людей прочь от постоянных заблуждений и болезненных абстракций, к бесценному, обыденному, к божественно и изначально конкретному».
«Новая выдающаяся плеяда творцов», говорил он, даст жизнь «еще более блистательным картинам, поспособствует небывалому расцвету языков, песен, опер, ораторий, лекций, архитектуры» — не ради искусства как такового, но ради «преобразования и демократизации общества». Произведения искусства будут, видимо, подвергаться прежде всего проверке на совершенство технического исполнения; затем, если они с успехом выдержат это испытание и им будет присвоена категория «первоклассных произведений», их станут «строго и пристрастно испытывать на прочность их этических оснований и на способность распространять, причем всегда косвенным путем, высокие эстетические принципы, на способность даровать свободу, вдохновлять, увлекать». Вот почему в своем собственном творчестве он заботился более о том, чтобы его «песни подвигали на смелые дерзания и способствовали формированию сильного характера и воспитанию физически крепких и выносливых люд ей-атлетов, а не блистали изысканными рифмами, которыми ласкают слух в гостиных».
Зрелая демократическая поэзия должна воспевать не «приятные прогулки по подстриженным газонам, цветочные клумбы и соловьиное пение», столь близкое сердцу английских поэтов, а «весь мир, проникать взором в его геологическую историю, в космические дали, объять огонь и снег, устремляясь в бесконечные пространства». Ни один аспект жизни, ни одна область знания не будет чужда этой поэзии. «Точные и прикладные науки являются не средством проверки гениальности великих поэтов, но лишь их опорой и источником вдохновения». Поэзия будущего должна «вдохновляться достижениями науки, самой современностью» й выразить «безгласные, но вечно живые и деятельные, всепроникающие стремления нашей [демократической] страны, ее непреклонную волю, проникаясь духом, который ей свойствен». Она должна превзойти самые выдающиеся героические эпопеи прошлого и затмить феодальную роскошь произведений поэтов-елизаветинцев.
В сравнении с этими предвидениями современная ему литература являла собой жалкое зрелище. Образование, нравы, литература, говорил Уитмен, все еще пронизаны «духом феодализма, кастовости, верности отжившим церковным традициям». Среди поэтов «определенного сорта» «многие элегантны, многие учены и все чрезвычайно приятны». Но они по большей части оказывались «денди и нудными людьми», которые «угнетают нас тонкими салонными чувствами, дамскими зонтиками... Они вечно хнычут и поют, гоняясь за каким-нибудь недоноском мечты и вечно заняты худосочной любовью с худосочными женщинами».
Короче говоря, это все были поэты типично романтического склада, и степень уитменовского презрения к ним показывает, сколь глубокой была пропасть, отделявшая его от романтической традиции. В американской художественной литературе той поры Уитмен не мог обнаружить «ни одного великого литературного произведения, ни одного великого писателя». Это иногда доводило его до отчаяния. «Неужели этих жеманных карликов можно назвать поэтами Америки? Неужели эти грошовые, худосочные штучки, эти стекляшки, выдающие себя за драгоценные камни, можно назвать американским искусством, американской драмой, критикой, поэзией? Мне кажется, что с западных горных вершин я слышу презрительный хохот Гения этих Штатов».
Тот, кого он слышал, в действительности был он сам. Он повторял вновь и вновь, что демократическое искусство должно с корнем вырвать ядовитые цветы феодализма. Однако ни Шекспир демократической поэзии, ни тем более «выдающаяся плеяда творцов» не появлялись на американском горизонте'. Что ж, тогда он решил сам стать их предтечей. Уитмен никогда не претендовал на то, чтобы считаться единовластным «вселенским бардом» будущего общества. Он был лишь первым — не идеальным образцом для рабского копирования, но только первопроходцем,— «зачинателем», как он сам себя называл, чьи открытия оказались, безусловно, самыми плодотворными во всей литературной истории.
Хотя он творил в эпоху романтизма и идеализма, он вышел далеко за их рамки. Когда его острый, пророческий взор обнаруживал пороки современного общества, так разительно отличавшегося от его ослепительного идеала, он не впадал в уныние, не затворялся в башне из слоновой кости, не превращался в циничного мизантропа, проклинавшего человеческую доброту. Напротив, он с вниманием слушал то, что говорил ему Тробел о научном социализме. Но увы, было уже слишком поздно. К этому времени он стал полупарализованным стариком. Его творческий путь был завершен. Впрочем, там, где это новое совпадало с его личными симпатиями и интересами, оно делало более ясными его собственные мысли: «Америка...— как бесчисленная масса людей — это огромная, волнующаяся, подающая столько надежд армия трудящихся. Множество суровых тружеников нашего мира—вот надежда, единственная надежда, плодотворная надежда нашей демократии».
Поддавшись влиянию Тробела, он почти принял, пусть только на словах, марксизм: «Иногда я думаю, я даже почти уверен, что социализму принадлежит будущее». Но вместе с тем: «Я пытаюсь тем или иным способом забыть о нем... Иногда мне вовсе не хочется об этом думать». Его колебания можно понять! Для Уитмена принять нерасторжимую целостность научного социализма неминуемо означало бы признать несостоятельными возвышенно-идеальные интонации и выражения, отличавшие все им созданное. Он был стар. И ему недоставало сил начать все заново: опять, с прежним оптимизмом, обратиться к воспеванию «ферм и рубанков» и сделать мучительное признание, что его «осуществимое братство всех людей», эта его всемирная бесклассовая демократия немыслима без последней смертельной схватки с «феодализмом», Это было теперь слишком тяжелым бременем для его угасающих сил. Он не хотел об этом думать.
Как-то Тробел прямо спросил его, не думает ли он, что класс, который грабит трудящихся, когда-нибудь добровольно откажется от награбленного. Уитмен ответил: «Боюсь, что нет. Боюсь, людям придется силой завоевать право владеть плодами своего труда». Это скорее неохотное и вынужденное согласие, нежели твердое признание необходимости. Тробел старался подбодрить его, называя его, с некоторой долей преувеличения, «законченным революционером». И Уитмену эти слова были приятны, хотя и не могли обмануть его. То ли из-за своего незнакомства с теорией, то ли из-за отсутствия непосредственного контакта с современным ему марксистским движением Уитмен никогда глубоко не понимал идей социализма и не скрывал этого. Короче говоря, он был наиболее ярким сторонником и выразителем переходного периода в американской литературной традиции от идеализма нашей революционно-буржуазной демократии к материализму нашей будущей революционно-пролетарской демократии. Его идеи могли быть сформулированы на языке, характерном для первого периода, но его симпатии и цели полностью принадлежали ко второму.
В этом и заключается его неотъемлемое право требовать от нас, чтобы мы отнеслись к нему самым серьезным образом.
ЛАРС ЛОРЕНС
1938 г.
Произведения
Критика