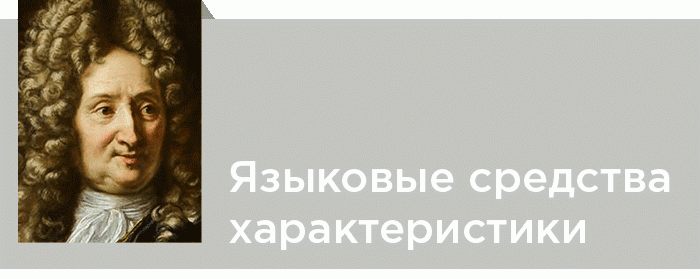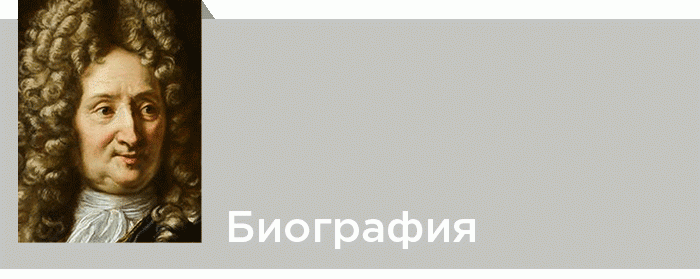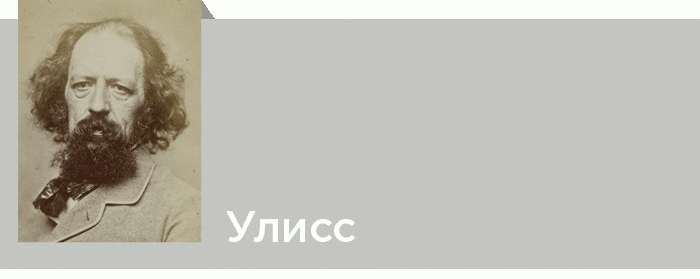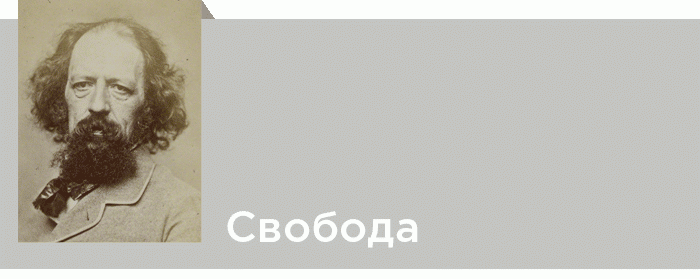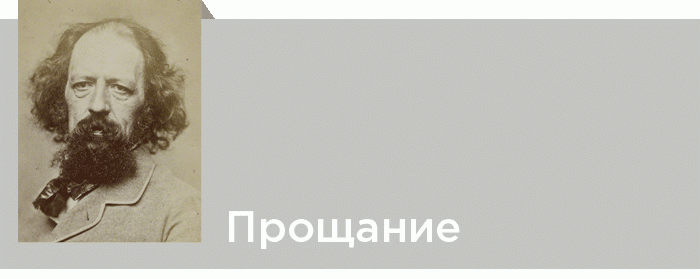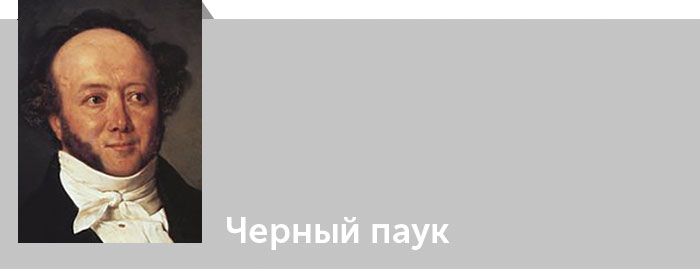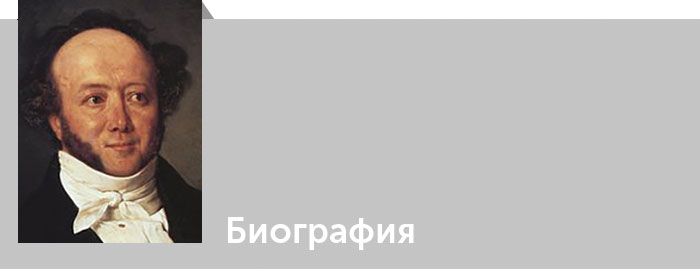«Характеры» Лабрюйера (Творческая история)

Т.Г. Хатисова
Первое издание книги Лабрюйера «Характеры Теофраста, перевод с греческого, и Характеры, или Нравы нынешнего века» вышло в
В первое издание Лабрюйер включил 418 характеров, и они служили как бы дополнением, к книге Теофраста. В девятом издании «Характеры» Теофраста, по-прежнему занимающие первое место в книге, становятся по существу приложением к оригинальной части Лабрюйера, которая насчитывает 1120 характеров.
Произведение Лабрюйера в его окончательной редакции имеет значительно более богатое и интересное содержание, нежели в нервом издании. Ему соответствует и более зрелое искусство писателя, его «точный, сжатый и нервный стиль» (Вольтер).
Изучение творческой истории «Характеров» началось лишь в XIX в. Научные издания «Характеров» Лабрюйера, такие, как издание Валькенаера (1845 и 1861), издания Детайера (1854), Шасана (1876) и первое из изданий Сервуа в серии «Великие писатели Франции» (1865-1878), многочисленные статьи по общим и частным темам творчества Лабрюйера подготовили появление первых научных монографий. Среди них особый интерес представляет книга Ланжа «Лабрюйер — критик общественных условий и институтов». В XX в. наряду с новыми дополненными изданиями Сервуа появляются издания Бенда (1935 и 1951), Монгредиена (1954) и Гапарона (1962). Среди последних монографий, посвященных творчеству Лабрюйера, следует отметить книгу Г. Мишо «Лабрюйер» и книгу Г. Ришара «Лабрюйер и его „Характеры”».
Основная трудность, с которой столкнулись исследователи Лабрюйера, — это отсутствие рукописей писателя и крайняя скудость сведений о его биографии и, в частности, творческой биографии. Анализ девяти изданий «Характеров» до настоящего времени остается наиболее верным способом изучить творческий процесс Лабрюйера, проследить движение его мысли не только после выхода в свет, первого издания, но и в какой-то степени до его появления.
Среди различных аспектов творческой истории «Характеров» особое место занимает вопрос об отношении Лабрюйера к Теофрасту. До начала XX в. тема «Лабрюйер — Теофраст» не представляла, казалось, сложной проблемы. Согласно признанию самого Лабрюйера и свидетельствам современников он создал свою книгу «в школе Теофраста».
Толчком к пересмотру этой концепции послужила работа эллиниста О. Наварра над новым переводом Теофраста (1920). Обратившись к своему знаменитому предшественнику по переводу Теофраста, Наварр нашел у него много погрешностей. Так возник вопрос о Лабрюйере-эллинисте. Окончательное суждение о качестве перевода Лабрюйера и его знании древнегреческого языка принадлежит ученику Наварра — Казелю:
Перевод Лабрюйера, который заслужил в XVII в. похвалу Менажа как «прекрасный, безукоризненно французский и свидетельствующий о превосходном знании греческого языка», на самом деле был сделан наспех, небрежно и в большей своей части не с греческого оригинала, а с латинского перевода 1612 г.
Это коренным образом меняло представления о процессе создания книги Лабрюйера. В декларируемом Лабрюйером отношении к Теофрасту увидели некую мистификацию общественного мнения. Лабрюйеру понадобился древнегреческий писатель как своеобразный античный «патрон» лишь тогда, когда его книга была полностью подготовлена. Приводились причины обращения Лабрюйера к Теофрасту: в период, когда во французской литературе разгорелся спор о древних и новых авторах, т. е. когда Ш. Перро, Б. де Фонтенель и их сторонники поставили под сомнение основные принципы классицистической эстетики, Лабрюйер — сторонник доктрины Буало — не мог выпустить свою книгу, не связав ее с античной традицией. К тому же описание нравов современного ему общества носило настолько ярко выраженный сатирический характер, что Лабрюйер опасался выпустить книгу, не защитив ее от нападок современников освященной высшим обществом классической традицией. Стремление скрыть уязвимые стороны своей книги за апробированным текстом Теофраста заставило Лабрюйера прибегнуть даже к типографскому приему: текст Теофраста был напечатан крупным шрифтом, текст Лабрюйера — мелким. Эти своеобразные «меры предосторожности», принятые Лабрюйером, привели исследователей к выводу, что все характеры, включая наиболее сатирические, были созданы одновременно. Споры по этим вопросам, не дали серьезных научных результатов, если не считать того, что Теофраста перестали рассматривать как единственного предшественника Лабрюйера, а историю создания «Характеров» не отождествляли более с историей их изданий.
Отзывы современников о книге Лабрюйера знакомят нас с некоторыми аспектами ее творческой истории. Первые отклики на «Характеры» появились до их выхода в свет. В письме к Расину от 19 мая
Далеко не все литераторы приняли произведение Лабрюйера столь благожелательно. Сатира Лабрюйера на «двор и город» не могла не вызвать реакции; к тому же она, коснулась, и ряда писателей и журналистов, которые не замедлили отомстить дерзкому критику. Враждебное отношение к Лабрюйеру с особой силой сказалось при избрании его в члены Французской Академии. В ответном слове на речь, произнесенную Лабрюйером по случаю его избрания, председатель, декан Академии Шарпантье, провел сравнение между Лабрюйером и его предшественником — Теофрастом: «Теофраст рассуждал как философ — он говорил лишь о всеобщем; вы спустились к частностям. Вы нарисовали ваши портреты с натуры. Теофраст создал свои на основе общей идеи. В ваших портретах есть сходство с определенными лицами, и подчас их можно угадать. Портреты Теофраста не похожи ни на кого в частности, они похожи на человека. В этом причина того, что сходство сохранится навеки. Ваши портреты внушают опасение, что со временем, когда их нельзя будет сравнивать с оригиналами, они потеряют частицу своей живости и блеска».
Определение, которое дал Шарпантье двум противоположным методам портретного искусства, выражало, хотя и в крайне упрощенной форме, точку зрения, которую разделяли многие теоретики классицизма. В какой-то мере она была свойственна и Лабрюйеру, не без труда преодолевавшему понимание типического как общечеловеческого. В опубликованном в 8-м издании книги предисловии к речи, произнесенной при вступлении в Академию, Лабрюйер не ответил Шарпантье. Но он дал блестящий ответ на анонимный пасквиль, принадлежавший перу Тома Корнеля и Донно де Визе. Статья этих заядлых врагов Лабрюйера появилась в июле
Возвращаясь к откликам на книгу Лабрюйера, следует отметить, что в то время как большинство критиков связывало его с именем Теофраста, писатели, воспринимавшие «Характеры» вне литературных споров о методе портретного искусства и сатиры, не ассоциировали творчество Лабрюйера с творчеством древнегреческого писателя. В периодическом издании «История трудов ученых», выходящем в Голландии, Б. де Боваль восторженно приветствовал первое издание книги Лабрюйера. Его поразили «редкая независимость ума» и «благородная отвага» писателя.
В письме от 29 октября
В различном подходе к изучению генезиса его творчества известную роль сыграл сам Лабрюйер, так как в его «Слове о Теофрасте», которым открывается книга и которое содержит восхваление античного мудреца, заключалась некая сознательная или бессознательная мистификация. Апология творчества Теофраста, при сдержанной, лаконичной характеристике Паскаля и Ларошфуко, убеждала читателя в том, что «Характеры были созданы под влиянием античного писателя. С другой стороны, диспропорция между сравнительно небольшим количеством характеров, написанных в духе Теофраста, и множеством высказываний Монтеня, Паскаля, Ларошфуко и других писателей XVI-XVII вв., включенных в первые издания книги, говорила о другом. Причиной создавшегося противоречия было, как нам кажется, то, что в «Слове о Теофрасте», задуманном как теоретическое введение, нашли выражение идеи автора различных периодов. Характеризуя «золотую книгу» Теофраста, этот шедевр «аттического вкуса», Лабрюйер подчеркивает, что она была продиктована желанием греческого мудреца «улучшить нравы», «исправить человека». Именно это импонировало Лабрюйеру в период, когда рождался его замысел моралистической книги. К тому же жанр «Характеров» давал широкий простор и для художественного творчества.
В преисполненном восхищения описании древних Афин звучит не до конца высказанное сравнение жизни свободных людей в Афинах с существованием большей части подданных французского короля. Это сравнение — плод длительных размышлений над исторической судьбой своего народа — связано и с моральной и философской проблемой возникновения человеческих пороков. Поиски ответа на вопрос о том, что является причиной дурных склонностей человека — извечные законы человеческой природы или условия жизни, заставили Лабрюйера обратиться к античным и французским авторам. Следы этих чтений в виде заимствованных мыслей мы и находим в первых изданиях книги. Они образуют вместе с несколькими характерами наиболее глубокий пласт.
Период напряженных и, по-видимому, длительных поисков был одновременно и периодом формирования творческого метода Лабрюйера. Пройдя большую школу у французских моралистов, он, однако, не нашел ни у Паскаля, который стремился «подчинить метафизику религии» и «воспитать в человеке христианина», ни у Ларошфуко, который стремился свести к себялюбию все человеческие страсти, ответа на вопрос о первопричинах зла, не нашел в их творчестве и той силы морального воздействия, которую ему как моралисту нужно было обрести. Именно поэтому он остается верен Теофрасту, хотя метод греческого писателя-моралиста не удовлетворяет его полностью. В своем «Слове о Теофрасте» Лабрюйер подчеркивает то новое, что он стремится внести в изучение и изображение человека и его характера. Это «новое» свидетельствует о значительной дистанции, которая отделяет его от греческого старца и которую, не изменяя своему апологетическому тону по отношению к Теофрасту, он подчеркивает сам. В большей степени, нежели Теофраст, он хотел «проникнуть во внутренний мир человека, изучить недостатки его ума и раскрыть тайники его сердца». Его «Характеры», «показывая вначале мысли, чувства и побуждения людей, вскрывают первопричины их пороков и слабостей, помогают легко предвидеть все то, что они будут способны говорить и делать, научают более не удивляться тысячам дурных и легкомысленных поступков, которыми наполнена их жизнь».
После выхода в свет первых изданий «Характеров» Лабрюйер столкнулся с необходимостью объяснить не только общую моральную и эстетическую концепцию своей книги, но и принципы построения литературного портрета и характера, которые занимали в ней большое место. Эта необходимость была вызвана, во-первых, появлением первых рукописных ключей, составители которых пытались подставить реальные прототипы под вымышленные греческие, римские и французские имена, и, во-вторых, разгоревшейся вокруг книги Лабрюйера полемикой и, в частности, выступлением в газете «Mercure Galant» Тома Корнеля и Донно де Визе.
В предисловии к речи, произнесенной при вступлении в Академию, Лабрюйер горячо протестует прежде всего против того, что составители ключей (clefs) и критики ре увидели в его книге ничего, кроме «портретов и характеров». Они «просмотрели все-суждения и размышления, которых так много, что они составляют почти всю книгу». Но особенно возмущает его сам принцип составления ключей, «поток которых наводнил город и достигнет вскоре двора». Принцип этот в корне противоречит его методу создания характера. «Действительно, — пишет он, — я рисовал с натуры, но я не всегда стремился нарисовать то или другое лицо в моей книге, о „нравах” ... Я поставил себе более трудную цель и пошел дальше: я брал какую-нибудь черту у одного человека, вторую у другого и из этих различных черт, которые могли быть приданы одному лицу, я рисовал правдоподобный характер».
Лабрюйер писал эти строки в
Общая композиция книги сохраняется во всех девяти изданиях. Названия глав, кроме одного (о котором будет сказано ниже), не меняются. Лабрюйер исключает из своей книги лишь несколько пассажей. Его исправления носят стилистический характер. Главную роль в изменении содержания книги играют многочисленные дополнения. Именно они определяют новое, соотношение частей и придают книге в целом новое звучание.
Анализ первой главы «Характеров» — «О творениях человеческого разума» убеждает, нас в том, что литературная концепция Лабрюйера и его взгляды на творчество современных ему писателей были тщательно продуманы. Однако мысль Лабрюйера продолжала интенсивно работать и после выхода в свет первых изданий книги, т. е. тогда, когда он приобщился в большей степени, нежели раньше, к литературной жизни своей эпохи. В четвертое издание Лабрюйер включает отрывок, который является своего рода синтезом его размышлений о назначении философа, моралиста и писателя. «Философ проводит всю жизнь в наблюдениях за людьми и, не щадя себя, старается распознать их пороки и слабости. Излагая свой мысли, он порою ищет для них отточенную форму, — но не авторское тщеславие движет им при этом, а желание показать открывшуюся, ему истину в таком свете, чтобы она поразила умы».
Описанию нравов, литераторов и читающей публики Лабрюйер посвящает ряд афоризмов, литературных портретов и мыслей, которые он последовательно включает в новые издания. Чертами трусости, подлости и зависти наделяет он как деятелей литературы, так и их литературных судей.
Мысль о том, что писатель и ученый не нужны высшему обществу и что против них ополчаются власть имущие, находит свое развитие в ряде изданий. Говоря об одном из «прекраснейших творений словесности» — трагедии Корнеля «Сид», Лабрюйер подчеркивает, что она «оказалась сильнее политики, сильнее властей, тщетно пытавшихся ее уничтожить». С еще большим возмущением и одновременно презрением говорит Лабрюйер об отношении богачей к науке и искусству: «Каким гонениям подверглись бы мысли, книги и авторы их, если бы они зависели от богачей... Нельзя не признать, что настоящее — за богачами; зато будущее — удел добродетели и таланта. Гомер был, есть и будет, а мытарей-откупщиков уже нет... Что ждет после смерти разных Фоконне? Будут ли они жить в веках так же долго, как Декарт, который родился французом, а умер в Швеции?». Этот отрывок, включенный Лабрюйером не в главу «О творениях человеческого разума», а в главу «О житейских благах», интересен и тем, что он является одним из ярких примеров эволюции художественного метода Лабрюйера. Рассматривая вопросы, связанные с литературой, критикой и эстетикой, он все смелее и решительнее переносит их из изолированной сферы искусства в широкую сферу общественной жизни.
Основное место в первой главе занимают мысли об эстетике и истории классицизма. Суждения Лабрюйера по всем этим вопросам очень близки к идеям Буало в «Поэтическом искусстве». Вслед за крупнейшим теоретиком, французской литературы XVII в. он утверждает, что классицизм одержал победу над искусством, навязанным столетиями варварства французскому народу: «Сколько протекло веков, прежде чем люди прониклись вкусами древних и вернулись к простоте и естественности в науках и искусстве!». В последующих изданиях тон Лабрюйера несколько меняется. В тот же 15-й пассаж, посвященный защите основных положений классицистической эстетики, Лабрюйер включает слова: «Чтобы достичь совершенства в словесности и — хотя это очень трудно — превзойти древних, нужно начинать с подражания им». С уважением говорит он о тех писателях, которые «облагораживают искусство и расширяют его пределы, если последние оказываются стеснительными для высокого и прекрасного, идут одни, без спутников, и всегда вперед и в гору, уверенные в себе, поощряемые пользой, которую приносит иногда отступление от правил». Не отказываясь от принципов классицистической эстетики, он пытается расширить их понимание и главным образом исключить всякого рода нетерпимость к новому и даже к новаторскому! Наиболее безошибочным критерием в оценке литературного произведения он считает моральный. Следует добавить, что в этот период моральное в его представлении совпадало с общественно полезным. «Если книга возвышает душу, вселяя в нее мужество и благородные порывы, судите ее только по этим чувствам: она создана рукой мастера».
Изменения во взглядах Лабрюйера сказываются и на его отношении к писателям XVI и XVII вв. К превосходным маленьким этюдам, посвященным творчеству Корнеля, Расина и других писателей, он присоединяет краткие оценки поэтов и писателей, которые несколько расходятся с оценками, данными Буало. В пятое издание включаются два отрывка, посвященные Ронсару. Один из них написан в духе Буало, во втором звучит признание, хотя и не безоговорочное, Ронсара, творчество которого, по мнению Лабрюйера, способствовало появлению великих поэтов. Там же он говорит об огромном таланте Рабле, которого считает, однако, писателем, лишенным вкуса.
Начиная с четвертого издания на страницах «Характеров» появляется имя Мольера. Упрекая Мольера в некоторой простонародности языка и грубости слога, Лабрюйер признает его превосходным; комедиографом: «Какой пыл и непосредственность, какое неистощимое веселье, какие образы, какое умение воссоздать нравы людей и высмеять глупость!». В пятом издании Лабрюйер ставит имя Мольера рядом с именем Лафонтена в несколько неожиданном контексте. Полемизируя против распространенного среди «государственных мужей» отношения к людям, владеющим греческим и латинским языками, как к «философам», не способным к практической деятельности, Лабрюйер гневно вопрошает: «Предположим, что французский язык разделит участь греческого и латинского и на нем перестанут говорить; неужели и тогда объявят педантом того, кто будет читать Мольера и Лафонтена?». Нельзя не признать, что в данном контексте имена Мольера и Лафонтена приобретают особую значимость.
Литературные портреты Лафонтена даны в шестом, издании в главе «О суждениях» и в. речи, произнесенной Лабрюйером 'при вступлении во Французскую Академию. Лабрюйер считает Лафонтена подлинным поэтом и настоящим рассказчиком: «У него говорят даже камни, деревья и бессловесные животные; его сочинения — сама легкость, изящество, сама естественность и тонкость». Лабрюйера поражает то искусство, с которым Лафонтен в своих маленьких рассказах о животных внушает человеку любовь к добродетели. Он превзошел, с точки зрения Лабрюйера, писателей, которые служили ему образцом. В свою очередь он стал образцовым писателем, которому трудно подражать. На страницах «Характеров» можно найти и образы, и множество мыслей, почерпнутых в творениях прославленных создателей комедии и басни XVII в. Мольер и Лафонтен были близки Лабрюйеру как писатели, любившие и понимавшие французский народ; они были дороги ему и как создатели нового, глубоко современного искусства сатиры.. По их пути пошел Лабрюйер, сохраняя, однако, чувство пиетета и любви к Буало. Он всегда ценил в нем не только выдающегося теоретика и эрудированного и тонкого критика, но и поэта-сатирика, который даже в то, что он заимствовал из античной литературы, вкладывал много нового и оригинального.
Для уяснения эволюции философских и общественных взглядов Лабрюйера особенно важна глава XI — «О человеке». В эту главу, как отмечалось выше, Лабрюйер включил много мыслей, заимствованных из произведений античных авторов и французских писателей XVI-XVII вв. Эта глава тесно связана с главами II — «О достоинствах человека», IV — «О сердце» и отдельными пассажами из других разделов книги. Использование мыслей античных и французских авторов в первых четырех (отчасти пятом) изданиях носит специфический характер. Заимствованные Лабрюйером идеи выражают глубоко пессимистический взгляд на человека и его природу. Этот взгляд был в какой-то мере близок Лабрюйеру в период, когда в результате наблюдений над людьми им овладели тяжелые раздумья и он поставил под сомнение возможность исправить человека, освободить его от присущих ему пороков. В произведениях Монтеня, Ларошфуко, Паскаля, Мольера Лабрюйер искал ответ на мучившие его вопросы. Именно поэтому мысли разных по своим философским и литературным взглядам писателей, взятые вне контекста, кажутся столь похожими в «Характерах» Лабрюйера.
В последующих изданиях подражание различным авторам приобретает иной характер. Многогранным становится облик Монтеня на страницах книги Лабрюйера, с помощью автора «Опытов» он расширяет и обогащает сатирические приемы; умно и оригинально использует Лабрюйер «Максимы» Ларошфуко; глубже раскрываются мысли Паскаля, и, наконец, яснее, нежели в первых изданиях, обозначается глубокая внутренняя связь Лабрюйера с Мольером и Лафонтеном.
Пессимистическая концепция Лабрюйера в первых четырех изданиях особенно сильна: «Стоит ли возмущаться тем, что люди черствы, неблагодарны, несправедливы, надменны, себялюбивы и равнодушны к ближнему? Такими они родились, такова их природа, и не мириться с этим — все равно, что негодовать, зачем камень падает, а пламя тянется вверх». Та же мысль об извечных свойствах человеческой натуры звучит и в следующем отрывке: «В одном отношении люди отличаются редким постоянством, отступая от него, лишь когда дело касается мелочей: меняется все — одежда, язык, манеры, понятия о приличии, порою даже вкусы, но человек всегда зол, неколебим в своих порочных наклонностях и равнодушен к добродетели». Вслед за Монтенем он говорит о том, что «жизнь коротка и безотрадна: она вся уходит на ожидание. Мы откладываем отдых и радости на будущее, часто на то время, когда уже утрачиваем лучшее, что имеем, — здоровье и молодость». У Ларошфуко черпает он наблюдения над человеческими пороками и мысль о том, что хорошие поступки подчас не связаны с добрыми намерениями: «Из тщеславия или ради приличия мы ведем себя так же и совершаем те же поступки, что и повинуясь склонности или чувству долга». Подобно Паскалю он с горечью восклицает: «Мы ищем счастья вне нас, во мнении людей, которых считаем льстивыми, неискренними, несправедливыми, преисполненными зависти, капризов, предубеждений. Какая нелепость!».
Но мысль Лабрюйера напряженно ищет просвета. Не все же люди порочны. Путь личного самосовершенствования возможен. Существует и истинная дружба, хотя «прелесть, которая таится в ней, непостижима заурядным людям». Есть и люди высокой морали, но они слишком редки. «Герой и великий человек, вместе взятые, не стоят одного истинно нравственного человека». Так же как в «Слове о Теофрасте», в этой главе ставится вопрос о первопричинах возникновения пороков: «Бывают пороки, которыми мы никому не обязаны, ибо они заложены в нас от природы и усугублены привычкой; бывают и такие, которые мы приобретаем, хотя они нам не присущи. Иной человек родится приветливым, отзывчивым, услужливым, но под воздействием тех, с кем живет и от кого зависит, скоро изменяет своим склонностям и даже своей натуре...». Весь этот отрывок, в особенности если сопоставить его с рассуждением на аналогичную тему в предисловии, звучит скорее как раздумье, нежели утверждение. Но идея, заключенная в нем, оказывается плодотворной, и Лабрюйер неоднократно возвращается к ней.
В последующих изданиях взгляды Лабрюйера на добродетель и порок и соответственно на добро и зло в обществе претерпевают значительную эволюцию. В этих изданиях Лабрюйер вступает в своеобразную полемику с Ларошфуко. Так, максиме Ларошфуко «Наши добродетели — это чаще всего искусно переряженные пороки», служащей эпиграфом к его книге, Лабрюйер противопоставляет более оптимистическое утверждение: «Нет такого порока, который не рядился бы под какую-нибудь добродетель или не прибегал бы к ее помощи».
Однако полемически заостренные против философии пессимизма изречения довольно быстро исчезают со страниц «Характеров». Лабрюйер отказывается от такого рода, переосмысления моральных изречений Ларошфуко и других моралистов, по-видимому, потому, что оно неизбежно должно было принять абстрактный, метафизический характер.
В рассматриваемых нами изданиях акцент переносится с допроса о сущности человёческой натуры на вопрос о том, кто является носителем порока в обществе и какие силы препятствуют развитию нравственного начала. Понятие добродетели расширяется: ее критерием Лабрюйер считает пользу, которую она приносит обществу. В этом отношении очень интересна своеобразная маленькая утопия, включенная в седьмое издание. Утопичной в ней оказывается идея о том, что нравственное начало может победить в обществе: «Пусть уважают тебя за то, что заложено в тебе самом, а не подарено случаем, или пусть вовсе не уважают, — вот бесценная и спасительная в жизни истина. Она полезна людям, не занимающим высокого положения, но наделенным добродетелями и умом, ибо, руководствуясь ею, они станут хозяевами своей судьбы и покоя. Но для сильных мира сего эта истина опасна: она уменьшит число их приспешников, вернее, рабов; пошатнет их власть, а значит, собьет с них спесь, так как отныне им почти нечем будет гордиться, разве что изысканностью соусов и роскошью выездов...» Она вызовет лишь одно серьезное неудобство, «которое заключается в том, что им придется завещать своим наследникам меньше богатств и больше хороших примеров».
Этот маленький утопический этюд исполнен глубокого смысла. В нем, как и прежде, Лабрюйер утверждает, что нравственные люди не находят признания и не ценятся по заслугам. Существенно новой в этом отрывке является, однако, не эта мысль, а обобщающая ряд наблюдений идея о том, что подлинная человеческая мораль находится в глубоком противоречии с писаными и неписаными законами общества. От победы нравственного начала в государстве неизбежно проиграли бы богачи, знать, царедворцы, чиновники. Таким образом, собственно моральная проблема смыкается в этой утопии с проблемой социальной.
Вопросам религии и ее связи с моралью, церкви и ее роли в воспитании человека Лабрюйер посвящает две последние главы «Характеров» — «О церковном красноречии» и «О вольнодумца».
В научной литературе о Лабрюйере глава «О вольнодумцах» вызвала много разноречивых суждений. В предисловии к речи, произнесенной при вступлении во Французскую Академию, Лабрюйер, отвечая на злобные выпады своих критиков, определил содержание, место и функцию шестнадцатой главы «Характеров»: «Пятнадцать глав из шестнадцати, составляющих книгу, раскрывают фальшь и нелепость того, что подчас привязывает человека, возбуждает его страсти; их задача — разрушить все, что воздвигается для того, чтобы сначала ослабить, а затем уничтожить в человеке веру в бога. Таким образом, эти главы лишь подготовляют читателя к последней, шестнадцатой главе, в которой атакуется и, быть может, небезрезультатно атеизм».
Цитируя заявление Лабрюйера, сделанное в
Нельзя не признать убедительными аргументы французских критиков, доказывающих, что определение, данное Лабрюйером в
В этюде, посвященном одному из новых изданий «Характеров», Сент-Бев пишет: «Искренне верующий, хотя подчас и непоследовательный в своих христианских идеях, Лабрюйер... уже принадлежал к тем рационалистам, неокартезианцам, эклектикам, которые значительно позже будут исповедовать в большей степени интеллектуальные религиозные убеждения, нежели простую веру. Но что бы ни думали о глубокой основе его воззрений, можно безошибочно заметить, что наиболее высокое острие его идей, направленных к небу, есть не что иное, как второй после его похвалы монарху громоотвод». Точку зрения Сент-Бева на Лабрюйера как на предшественника просветителей разделили многие критики, хотя крылатое выражение Сент-Бева и показалось некоторым из них художественным преувеличением.
Диаметрально противоположное определение места Лабрюйера в истории общественной мысли дано в «Истории французской Литературы XVII века» А. Адама. «Большинство критиков, — пишет он, — приветствуют или ненавидят в Лабрюйере предшественника „философов”. А между тем он целиком вырос на традиции христианских моралистов». И несколькими строками ниже: «Будучи чрезвычайно далеким от того, чтобы стать предшественником „философов”, Лабрюйер не вышел за рамки программы религиозной партии с ее иллюзиями и наивностями». Точка зрения Сент-Бева, так же как и концепция А. Адама, имеет под собой определенную почву, и речь идет не о том, чтобы отбросить одну из них, а о том, чтобы проверить их путем анализа творческой эволюции Лабрюйера.
Шестнадцатой главе «О вольнодумцах» предшествует глава «О церковном красноречии», в которой достаточно отчетливо выражены взгляды Лабрюйера на церковь и ее роль в воспитании человека. Основная мысль Лабрюйера, сформулированная уже в первом издании, заключается в том, что христианская проповедь перестала выполнять свое назначение — воспитывать в человеке высокие моральные качества. Причину Лабрюйер видит в том, что проповедники отнюдь не стремятся к тому, чтобы «толковать народу слово божье». Они превратили свои проповеди в искусные ораторские выступления, рассчитанные на высшее общество. «Красноречие царит ныне даже у подножья алтаря, там, где свершаются таинства; миряне судят проповедников, бранят их или одобряют, но они равно холодны и к той проповеди, которая им по вкусу, и к той, которой они недовольны. Оратор одним нравится, другим нет, но в обоих случаях он никого не исправляет, ибо и не пытается никого исправить».
Глава «О церковном красноречии» претерпела по сравнению с другими главами книги небольшие изменения. Отдельные добавления к последним изданиям свидетельствуют об усилении сатирической тенденции. Очень интересен в этом отношении небольшой рассказ об одном проповеднике, который приготовился толковать евангелие в расчете на присутствие «одного-единственного лица». Узнав о том, что король не придет, он настолько растерялся, что предпочел уступить место другому «проповеднику, которому ничего не оставалось, как в наспех составленной речи вознести хвалу господу».
Церковь служит монархии, а не человечеству. Священнослужителем движет корысть, а не стремление принести пользу. Проповедником делается тот, кому нужен бенефиций. Таковы выводы, к которым приходит Лабрюйер в результате своих наблюдений над проповедниками и их деятельностью.
Вопрос об эволюции религиозных воззрений Лабрюйера сложнее, нежели вопрос об отношении его к проповедникам. Религиозные взгляды Лабрюйера теснейшим образом связаны с его восприятием крупнейших достижений науки XVI-XVII вв. и, в частности, естественной науки, с его пониманием философии и этики. Всем этим вопросам Лабрюйер посвящает последнюю главу своей книги — «О вольнодумцах».
Глава «О вольнодумцах» — едва ли не самая сложная часть книги. Она была задумана как философское и морально-этическое опровержение французского либертинажа. Опровергая философские положения Гассенди, Лабрюйер оперирует не только философскими понятиями, но и примерами, взятыми из жизни окружающей его общественной среды. Факты, приводимые Лабрюйером, свидетельствуют о том, что он не, видел и не знал никакого другого либертинажа, кроме аристократического. С горечью говорит Лабрюйер о людях, которые, состоя «в настоящем рабстве у вельмож, разделяют их вольномыслие и до смерти несут на себе его иго, невзирая на свои познания и вопреки своей совести». «Атеизма не существует, — пишет он. — У вельмож, которых чаще всего в нем подозревают, слишком ленивый ум, чтобы решать, есть бог или нет...». Именно поэтому, стоит таким людям «заболеть и опухнуть от водянки, как они бросают наложницу и начинают верить в творца». Аристократический либертинаж, с точки зрения Лабрюйера, приводит не к атеизму, а к циничному безбожию, не к утверждению морали, а к полному аморализму. Среди, рассуждений Лабрюйера, в которых он касается вопросов либертинажа, нет ни одного, посвященного непосредственно этическим проблемам в учении Гассенди. Невозможно предположить, что Лабрюйер не знал или сознательно игнорировал эту часть учения Гассенди, оказавшую столь значительное влияние на мировоззрение и творчество Мольера и Лафонтена. По-видимому, «принцип» личного эгоистического наслаждения, царивший в беспринципном высшем обществе, заставил Лабрюйера обратить большее внимание не на проблему счастья — основную в учении Гассенди, а на проблему личного и общественного долга. В христианском учении Лабрюйер пытался найти моральные законы, в соответствии с которыми отношения между людьми из несправедливых превратились бы в справедливые. Однако путей к установлению гармоничного общества Лабрюйер не находит, и развитие моралистической темы в главе «О вольнодумцах» довольно быстро обрывается. «Если на одной стороне сосредоточены власть, наслаждения, праздность, а на другой — покорность, заботы, нищета, то в этом повинна только людская злоба, а не бог, ибо если бы так распорядился бог, он не был бы богом».
В этом отрывке все поставлено под вопрос: божественное отношение Лабрюйера ко двору Людовика XIV было сложным. Он говорит о нем в личном плане и философском, как моралист и как сатирик. «Если смотреть на королевский двор с точки зрения жителей провинции, он представляет собой изумительное зрелище. Стоит познакомиться с ним, — и он теряет все свое очарование, как картина, когда к ней подходишь слишком близко». В этой реакции на придворную жизнь нашло выражение разочарование самого автора и одновременно стремление писателя-моралиста внушить трезвое отношение ко двору, блеск которого не только дурманил сознание провинциалов и парижан, но и вызывал манию подражания у коронованных и некоронованных правителей Европы. В последние издания Лабрюйер включил максимы, в которых философское содержание превалирует над моралистическим: «Кто видел двор, тот видел все, что есть в мире самого прекрасного, изысканного и пышного; кто, повидав двор, презирает его, тот презирает и мир».
В различных изданиях «Характеров» Лабрюйер создает некую общественную и правовую схему французского общества XVII в. Феодальные отношения выступают в ней в идеализированном и подчас сублимированном виде. Согласно этой схеме, в которой идея разумного государства играет уже известную роль, в обществе распределены не только права, но и обязанности. Король обязан заботиться о своих подданных и в первую очередь о наиболее слабых, т. е. наиболее бедных, Вельможи должны служить королю, быть его мудрыми советниками и т. д. Эта схема играет роль некоего критерия, с помощью которого Лабрюйер анализирует поведение царедворцев, вельмож, прелатов церкви, проповедников, чиновников.
Итог, к которому пришел Лабрюйер, был страшен. Двор — это средоточие пороков. Едва ли не самым опасным из них является раболепие. Порожденное деспотизмом, оно порождает деспотизм: «Люди согласны быть рабами в одном месте, чтобы чувствовать себя господами в другом». Двор извращает представления о чести и долге. Гордость аристократа превращается в спесь, которая с одинаковой легкостью толкает людей на благородный риск и на любую подлость ради высокого назначения или ничтожной милости монарха. Получение должности не пробуждает ни чувства долга, ни чувства ответственности. «Человек перестает руководствоваться разумом и здравым смыслом.., сообразуясь отныне лишь со своим местом и саном».
Говоря о развращенности придворных кругов, Лабрюйер анализирует главным образом те пороки, которые наносят наибольшей ущерб людям, обществу, государству. В последних изданиях эта тенденция чрезвычайно усиливается. Внимание Лабрюйера привлекают пороки и явления, связанные с моральной и социальной деградацией высших кругов общества во главе с наиболее родовитой знатью. Ведущими темами в главах «О дворе», «О вельможах», «О некоторых обычаях», «О моде» становятся паразитизм и ханжество.
Вельможи «признают совершенство только за собой ... как нечто присущее им по праву рождения», но «единственная заслуга, принадлежащая им, — это большие владения и длинный ряд предков».
В силу моральной и политической деградации аристократия не только потеряла способность «служить монарху и государству», но и превратилась в пособника деспотизма. Широкое распространение ханжества в высших кругах общества Лабрюйер считает показателем того, что гранды растеряли свои убеждения, вкусы, все вплоть до пристрастия к либертинажу, а «на что только не пойдет придворный, чтобы возвыситься, если ради этого он готов притвориться благочестивым.
В своем отношении к буржуазии аристократия, по мнению Лабрюйера, столь же беспринципна, сколь и политически близорука. Сословие, призванное руководить общественной и политической жизнью страны, оказывается бессильным перед властью золота. Богатство настолько меняет характер отношений в обществе, что Лабрюйер, не колеблясь, утверждает: «Настоящее за богачами». В новом соотношении сил он не видит никакого движения вперед. Напротив, моральное лицо разбогатевшей буржуазии внушает ему глубокое отвращение и страх за судьбу государства. Главы «О житейских благах» и «О некоторых обычаях» содержат ряд блестящих характеристик разбогатевших и лезущих во дворянство мещан, откупщиков и финансистов.
В первых изданиях этих глав речь идет главным образом о моральном облике людей, которые ради накопления и приумножения состояния «жертвуют» честью и совестью. «Таких людей, — пишет Лабрюйер, — не назовешь ни отцами, ни гражданами, ни друзьями, ни христианами. Они, пожалуй, даже не люди. Зато у них есть деньги». Но уже в первом издании появляется характер Сосия — типичного парвеню, который с помощью грязных дел добивается богатства и положения в обществе. «Он купил должность и таким путем стал человеком благородным. Ему оставалось только сделаться добродетельным: звание церковного старосты совершило и это чудо».
Отношение Лабрюйера к народу и к монархии позволяет точнее определить эволюцию его политических взглядов. Проблемы народа и монархии имеют глубокую внутреннюю связь в «Характерах». Поведение людей, принадлежащих к разным сословиям и различным профессиям, оценивается Лабрюйером в зависимости от того, какую пользу они приносят государству и каково их отношение к наиболее обездоленной части французской наций — народу.
В «Характерах» Лабрюйера суждений о народе сравнительно немного, но они оригинальны, и обнаружить идейную или литературную преемственность трудно. Лабрюйер не описывает нравы низших слоев общества, его интересует вопрос о положении народа, о его правах и обязанностях, о его судьбе в абсолютистском государстве. Мысли о народе присутствуют во всех главах, но даже в наиболее сатирических по своему характеру описаниях, портретах, размышлениях или афоризмах они не приобретают иронического звучания.
Не ставя под сомнение неизбежность социального неравенства и подчиненного положения тружеников в обществе, Лабрюйер не может примириться с тем, что он называет нарушением гармонии, т. е. с чрезмерным различием в положении и состоянии людей. Он подчеркивает вопиющий контраст между положением вельмож, священнослужителей, откупщиков, финансистов и участью основной массы бесправного населения Франции. Откупщик волен подписать «после долгого обеда, раздувшего ему живот.., бумагу, которая оставит без хлеба целую провинцию». «Пышущий здоровьем юноша — сеньор целого аббатства и обладатель десятка других бенефиций: он купается в золоте, а рядом семьям ста двадцати бедняков нечем обогреться зимой, нечем прикрыть наготу и порою даже нечего есть». Наглая роскошь тех, кто призван быть духовным или светским руководителем народа, порочна, она порождает наряду с унизительной нищетой горькое чувство несправедливости. Поэтому Лабрюйер считает, что поставить вопрос о том, правильно ли распределены преимущества и обязанности в обществе, может и вельможа, и богач, «но решить его может только бедняк». Эта идея, подсказанная Лабрюйеру этическими соображениями, получает в дальнейшем политическое звучание. Интересна в этом отношении эволюция характера некоего Эргаста. В четвертом изданий главы «О житейских благах» Эргаст — типичный феодал, злоупотребляющий своим привилегированным положением. В восьмом издании главы «О монархе или о государстве» паразитизм утопающего в роскоши Эргаста делает его ненужным государству. «Можно ли принимать в расчет частное лицо там, где речь идет о выгоде и пользе всего общества». Поскольку Эргаст является «частным лицом» (le particulier), «народ не считает своим долгом приумножать благосостояние Эргаста».
Возмущение Лабрюйера чудовищной эксплуатацией тружеников земли нашло наиболее сильное выражение в получившем широкую известность описании французской деревни. «Порою на полях мы видим каких-то диких животных мужского и женского пола: грязные, землисто-бледные, иссушенные солнцем, они склоняются над землей, копая, и перекапывая ее с несокрушимым упрямством; они наделены членораздельной речью и, выпрямляясь, являют нашим глазам человеческий облик; это и в самом деле люди. На ночь они прячутся в логова, где утоляют голод ржаным хлебом, водой и кореньями. Они избавляют других людей от необходимости пахать, сеять и снимать урожай и заслуживают этим права не остаться без хлеба, который посеяли». Спустя столетие революционная Франция услышала в словах Лабрюйера призыв к борьбе против рабского труда и нечеловеческих условий жизни французского крестьянства.
Лабрюйер ясно осознал и выразил свою социальную ориентацию. В известном сравнении между вельможами и народом он отдает предпочтение народу. «У народа мало ума, у вельмож — души; у первого — хорошие задатки и нет лоска, у вторых — все показное и нет ничего, кроме лоска. Если меня спросят, с кем я предпочитаю быть, я не колеблясь, отвечу: с народом». Лабрюйер яснее, чем многие его великие современники, увидел ту пропасть, которая образовалась между имущими и неимущими, между третьим и «четвертым» сословиями. Но исторически прогрессивной роли третьего сословия в целом и буржуазии в частности Лабрюйер не понял. Социальная основа для теории общественного прогресса у него оказалась слишком узкой. «Настоящее принадлежит богачам, будущее — добродетели». Добродетельными в «Характерах» Лабрюйера являются народ и мудрецы.
Отношение Лабрюйера к народу сказалось на системе образов. Образ крестьянина у Лабрюйера глубоко трагичен. В нем нет ничего напоминающего образы крестьян в средневековых фарсах и фаблио, в итальянской комедии масок и в пьесах Мольера. Лишь немногие басни Лафонтена близки исполненным глубокого пафоса отрывкам, написанным Лабрюйером, в защиту крестьянства.
Характер слуги у Лабрюйера также не имеет ничего общего с характером мольеровского слуги, и это объясняется прежде всего тем, что господином Сосия был, по-видимому, не Клеант, а один из тех откупщиков, в зловещем образе которого можно угадать черты Тюркаре.
Глава «О монархе или о государстве», принадлежащая, по выражению Ришара, к триптиху Версаля, является выражением политических воззрений Лабрюйера и в силу этого связана не только с главами «О дворе» и «О вельможах», но и со многими другими. Ее название претерпело интересные изменения. В первом издании она называлась «О монархе», в четвертом — «О монархе и о государстве», начиная с шестого издания утвердилось заглавие «О монархе или о государстве». Смысл этих изменений ясен. В условиях деспотического правления Людовика XIV, провозгласившего «Государство — это я», Лабрюйер все глубже осознавал различие между интересами монарха и его подданных. «Все процветает в стране, где никто не делает различия между интересами государства и государя». Подтекст этого высказывания не вызывал сомнения ни у современников, ни у позднейших исследователей Лабрюйера.
Вряд ли можно рассматривать главу «О монархе» в первом издании исключительно как похвалу Людовику XIV. Прав, по нашему мнению, Ришар в своем утверждении, что под покровом панегирика Людовику XIV Лабрюйер внес значительные оговорки не только в оценку правления короля, но и в теорию абсолютной монархии.
Первое, в чем проявляется критика монархии, — это в неприятии той роли, которую играют в ней фаворит, министр, вельможа. Вершители судеб народа, они меньше всего заботятся о его благе. Мысль о том, что монархия в руках недостойных людей, развивается в последующих изданиях. Так, в восьмое издание Лабрюйер включает следующее размышление: «Самая тонкая и благовидная приманка, на которую ловят вельмож их управляющие, а королей — их министры, состоит в настойчивых советах постоянно приобретать и обогащаться. Какое мудрое наставление!..». Развращенность высших слоев общества становится угрозой для всего государства.
В последнем отрывке главы Лабрюйер рисует идеальный образ короля. Этот образ мало похож на Людовика XIV. Расхождение между идеальным правителем и реальным прототипом подчеркивается не только содержанием, но и формой, которую автор выбирает для «характера» короля. Начиная его словами: «В каких только дарах небес не нуждается мудрый правитель!», — Лабрюйер как бы указывает на то, что это не портрет, а собирательный образ идеального правителя. Это подтверждают и заключительные слова: «Все эти изумительные добродетели представляются мне неотъемлемыми призраками государя. Правда, они редко соединены в одном лице: для этого нужно слишком многое...».
В последних изданиях критика монархии значительно усиливается. В форме размышлений о неких королях и министрах Лабрюйер ставит под сомнение внутреннюю и внешнюю политику Людовика XIV. С его точки зрения, король и министры слишком пренебрегают нуждами государства и, следовательно, отказываются от того, что «составляет существенную особенность мудрого правления», Разорительные войны становятся настоящим бедствием. «В самом деле, возрастают ли безопасность и благоденствие народа только от того, что государь раздвигает границы своей страны, превращая вражеские владения в провинции своего королевства?..» Напротив, народ живет «под гнетом печали, тревог и нищеты». В годы войны и в мирное время он совершенно беззащитен и, что Лабрюйеру представляется особенно тревожным, не огражден законами от посягательств вельмож, от злоупотреблений откупщиков, чиновников, судей. Монарх, утопающий в роскоши, не выполняет своих обязательств, между ним и народом образовалась, непроходимая пропасть.
Тревога за судьбу французского народа, за судьбу Франции приводит Лабрюйера к трагическому итогу. «У подданных деспота нет родины...», — пишет он в седьмом издании. Такого рода суждения делают Лабрюйера не только одним из первых создателей оппозиционной по отношению к монархии Людовика XIV литературы, но и предшественником, хотя и далеким, французских просветителей XVIII в., главным образом Монтескье и Дидро.
Л-ра: Вопросы творческой истории литературного произведения. – Ленинград, 1964. – С. 51-76.
Произведения
Критика