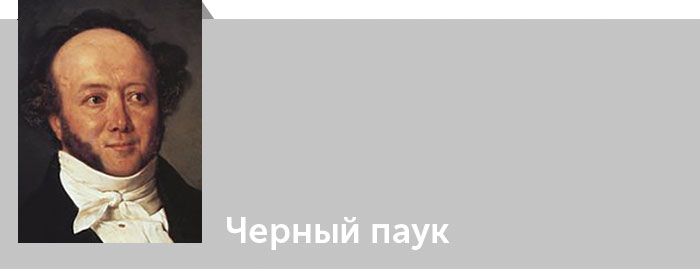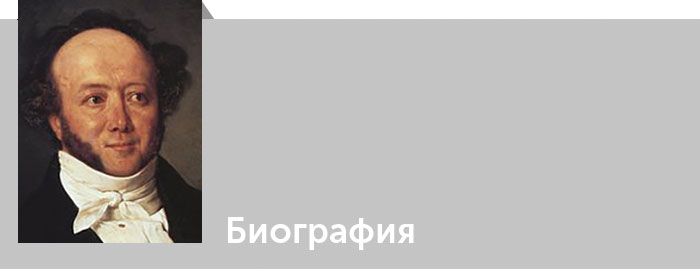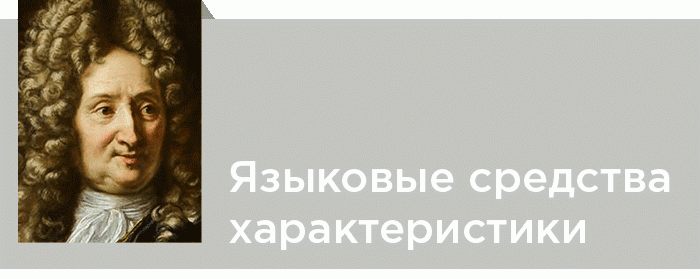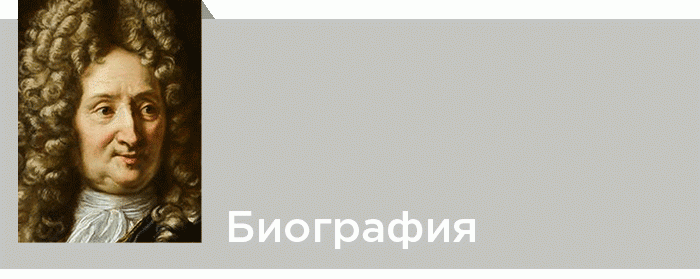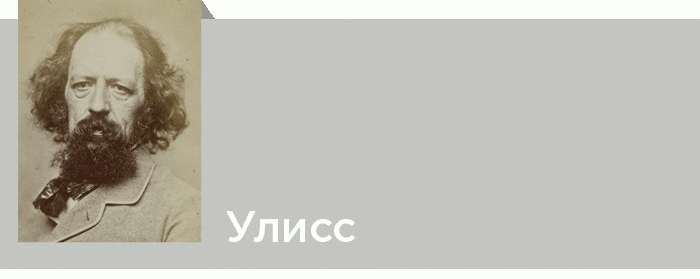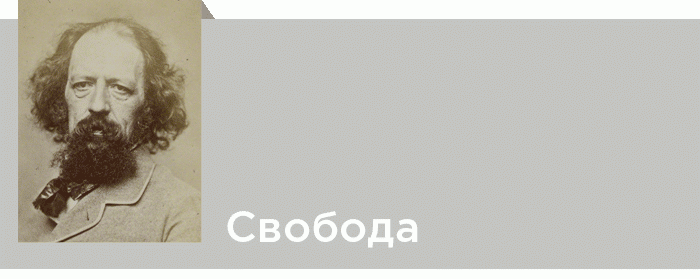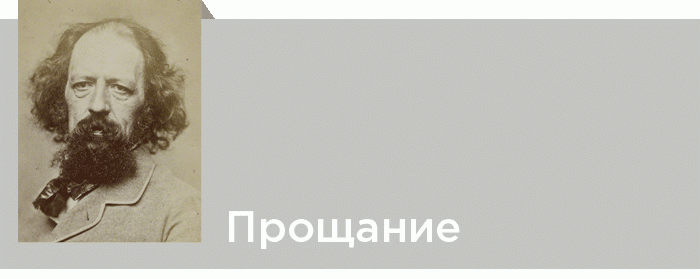Жан де Лабрюйер. Характеры

(Отрывок)
Глава I
О ТВОРЕНИЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА
1
Все давно сказано, и мы опоздали родиться, ибо уже более семи тысяч лет на земле живут и мыслят люди. Урожай самых мудрых и прекрасных наблюдений над человеческими нравами снят, и нам остается лишь подбирать колосья, оставленные древними философами и мудрейшими из наших современников.
2
Пусть каждый старается думать и говорить разумно, но откажется от попыток убедить других в непогрешимости своих вкусов и чувств: это слишком трудная затея.
3
Писатель должен быть таким же мастером своего дела, как, скажем, часовщик. Одним умом тут не обойдешься. Некий судья отличался незаурядными достоинствами, был и проницателен и опытен, но напечатал книгу о морали – и она оказалась редкостным собранием благоглупостей.
4
Труднее составить себе имя превосходным сочинением, нежели прославить сочинение посредственное, если имя уже создано.
5
Мы приходим в восторг от самых посредственных сатирических или разоблачительных сочинений, если получаем их в рукописи, из-под полы и с условием вернуть их таким же способом; настоящий пробный камень – это печатный станок,
6
Если из иных сочинений о морали исключить обращение к читателям, посвятительное послание, предисловие, оглавление и похвальные отзывы, останется так мало страниц, что вряд ли они могли бы составить книгу.
7
Есть области, в которых посредственность невыносима: поэзия, музыка, живопись, ораторское искусство.
Какая пытка слушать, как оратор напыщенно произносит скучную речь или плохой поэт с пафосом читает посредственные стихи!
8
Иные сочинители трагедий страдают пристрастием к стихотворным тирадам, на первый взгляд сильным, благородным, исполненным высоких чувств, а в сущности, просто длинным и напыщенным. Все жадно слушают, закатив глаза и открыв рот, воображая, будто им это нравится, и чем меньше понимают, тем больше восхищаются; от восторгов и рукоплесканий людям некогда перевести дух. Когда я был еще совсем молод, мне казалось, что эти стихи ясны и понятны актерам, партеру, амфитеатру, а главное – их авторам и что если я при всем старании не способен их уразуметь, значит, я сам и виноват; с тех пор я изменил свое мнение.
9
Пока еще никто не видел великого произведения, сочиненного совместно 1 несколькими писателями: Гомер сочинил «Илиаду», Вергилий – «Энеиду», Тит Ливий – «Декады», а римский оратор 2 – свои речи.
10
В искусстве есть некий предел совершенства, как в природе – предел благорастворенности и зрелости. У того, кто чувствует и любит такое искусство, – превосходный вкус; у того, кто не чувствует его и любит все стоящее выше или ниже, – вкус испорченный; следовательно, вкусы бывают хорошие и дурные, и люди правы, когда спорят о них.
11
Люди часто руководствуются не столько вкусом, сколько пристрастием; иначе говоря, на свете мало людей, наделенных не только умом, но, сверх того, еще верным вкусом и способностью к справедливым суждениям.
12
Жизнь героев обогатила историю, а история украсила подвиги героев; поэтому я затрудняюсь сказать, кто кому больше обязан: пишущие историю – тем, кто одарил их столь благородным материалом, или эти великие люди – своим историкам.
13
Одни лишь хвалебные эпитеты еще не составляют похвалы. Похвала требует фактов, и притом умело поданных.
14
Весь талант сочинителя состоит в умении живописать и находить точные слова. Только образы и определения ставят Моисея (Хотя Моисей и не считается писателем, (Прим. автора.)), Гомера, Платона, Вергилия и Горация выше других писателей; кто хочет писать естественно, изящно и сильно, должен всегда выражать истину.
15
В наш литературный слог пришлось ввести такие же изменения, какие были введены в архитектуру: готический стиль, навязанный зодчеству варварами, был изгнан и заменен ордерами дорическим, ионическим и коринфским. То, что прежде мы видели только на развалинах древнегреческих и римских зданий, стало достоянием современности и украшает теперь наши портики и перистили 3. Точно так же, чтобы достичь совершенства в словесности и – хотя это очень трудно – превзойти древних, нужно начинать с подражания им.
Сколько протекло веков, прежде чем люди прониклись вкусами древних и вернулись к простоте и естественности в науках и искусстве!
Мы питаемся тем, что нам дают писатели древности и лучшие из новых, выжимаем и вытягиваем из них все, что можем, насыщая этими соками наши собственные произведения; потом, выпустив их в свет и решив, что теперь-то мы уже научились ходить без чужой помощи, мы восстаем против наших учителей 4 и дурно обходимся с ними, уподобляясь младенцам, которые бьют своих кормилиц, окрепнув и набравшись сил на их отличном молоке.
Некий современный сочинитель все время старается нас убедить, что древние писали хуже новых, причем применяет два вида доказательств: рассуждение и пример. Рассуждает он, основываясь на собственном вкусе, а примеры берет из собственных произведений 5.
Он признает, что хотя слог у древних неровный и неправильный, все же у них есть удачные места; он приводит цитаты, и они так прекрасны, что ради них стоит прочесть даже его критику.
Иные из наших знаменитых писателей отстаивают древних, но можно ли им доверять? Их сочинения ни в чем не отступают от вкуса античных авторов, следовательно, они как бы защищают самих себя: на этом основании их не желают слушать.
16
Сочинители должны были бы охотно читать свои труды тем просвещенным людям, которые видят все недостатки произведения и умеют правильно его оценить.
Не слушать ничьих советов и отвергать все поправки может только педант.
Сочинитель должен с одинаковой скромностью выслушивать и похвалу и критику.
17
Среди множества выражений, передающих нашу мысль, по-настоящему удачным может быть только одно; хотя и беседе или за работой его находишь не сразу, тем не менее оно существует, а все остальные неточны и не могут удовлетворить вдумчивого человека, который хочет, чтобы его поняли.
Хороший и взыскательный автор знает, что выражение, найденное после долгих и трудных поисков, оказывается обычно самым простым, самым естественным – первым, которое безо всяких усилий должно было бы прийти в голову.
Люди, пишущие под влиянием минутной настроенности, потом много правят свои произведения. Но настроенность меняется под влиянием различных обстоятельств, и тогда эти люди охладевают к тем самым выражениям и словам, которые особенно им нравились.
18
Ясность ума, которая помогает нам писать хорошие книги, в то же время заставляет нас сомневаться, так ли уж они хороши, чтобы их стоило читать.
Сочинитель, у которого не слишком много здравого смысла, уверен, что он пишет божественно; здравомыслящий писатель надеется, что он пишет разумно.
19
«Мне предложили, – сказал Арист, – прочесть мои произведения Зоилу, и я согласился. Они произвели на него такое впечатление, что, растерявшись, он не только не разбранил их, но даже высказал мне несколько сдержанных похвал. С тех пор он уже никому их не хвалил, но я не в обиде на него, ибо понимаю, что большего от автора и требовать нельзя. Мне даже жаль его: ему пришлось услышать нечто хорошее и к тому же написанное не им».
Тот, кто по своему положению не знает авторского самолюбия, обычно находится во власти других страстей и стремлений, которые целиком поглощают его и делают равнодушным к замыслам других сочинителей. На свете мало людей достаточно умных, сердечных и благополучных, чтобы от души наслаждаться безупречными произведениями.
20
Мы так любим критиковать, что теряем способность глубоко чувствовать поистине прекрасные творения.
21
Многие люди, даже способные понять достоинства рукописи, которую им прочли, не решаются похвалить ее вслух, ибо не знают, какой прием она встретит, когда будет напечатана, или как ее оценят знаменитости; они не смеют высказать свое мнение, всегда стремятся быть заодно с большинством и ждут одобрительного приговора толпы. Вот тут они смело заявляют, что первыми оценили это произведение и что читатели на их стороне.
Эти люди упускают самые благоприятные случаи убедить нас в том, что они проницательны и образованны, что их суждения глубоки, что хорошее для них хорошо, а превосходное – превосходно. Им в руки попадает отличное сочинение: это первый труд автора, еще не составившего себе имени, ничем не знаменитого; следовательно, нет нужды за ним ухаживать, нет нужды восхвалять его произведения в надежде привлечь к себе внимание его покровителей. Зелоты 6, от вас никто не требует, чтобы вы восклицали: «Это воплощение остроумия! Какой дивный дар человечеству! Никогда еще изящная словесность не достигала таких высот! Отныне это произведение станет мерилом вкуса». Такие восторги преувеличены и неприятны, от них попахивает желанием получить пенсион и аббатство, они вредны для того, кто действительно стоит похвал и кого хотят похвалить. Но почему бы вам не сказать: «Вот хорошая книга!» Правда, вы это говорите вместе со всей Францией, со всеми чужеземцами и соотечественниками, когда книгу читает вся Европа и она переведена на несколько языков, но теперь уже поздно.
22
Иные люди, прочитав какую-нибудь книгу, приводят потом места, смысла которых они не поняли и вдобавок еще исказили, перетолковав по-своему. Они вложили в эти страницы собственные мысли, облекли их в собственные слова, испортили, обезобразили и вот выносят их на суд, утверждая, что они плохи, – и все с этим соглашаются. Но тот отрывок, который цитируют подобные критики, – вернее, полагают, что цитируют, – не становится от этого хуже.
23
«Что вы скажете о книге Гермодора?»– «Что она прескверная, – заявляет Антим. – Да, прескверная. Настолько плохая, что ее нельзя даже назвать книгой, и вообще она не стоит того, чтобы о ней упоминать». – «А вы ее читали?»– «Нет», – отвечает Антим. Ему следовало бы добавить, что книгу разбранили Фульвия и Мелания, хотя тоже не читали ее, и что сам он – друг Фульвии и Мелании.
24
Арсен взирает на людей с высоты своего таланта: они так далеко внизу, что их ничтожество просто поражает его. Захваленный, заласканный, превознесенный до небес людьми, которые как бы связаны круговой порукой взаимной лести, он, обладая кое-какими достоинствами, полагает, что наделен всеми добродетелями, существующими на свете, но не существующими у него самого. Он так занят собственными блистательными замыслами и только ими, что весьма неохотно соглашается время от времени обнародовать какую-нибудь премудрую истину, так неспособен снизойти до обыкновенных человеческих суждений, что предоставляет заурядным душам вести размеренное и разумное существование, а сам считает себя в ответе за свои выходки только перед кружком восторженных друзей, ибо лишь они умеют здраво судить и мыслить, знают, как писать, знают, что писать. Нет такого произведения, хорошо принятого в свете и одобренного всеми порядочными людьми, которое он похвалил бы или хотя бы прочел... Не пойдет ему впрок и этот портрет: его он тоже не заметит.
25
У Теокрина немало бесполезных знаний и весьма странных предубеждений; он скорее методичен, чем глубок, недостаток ума восполняет памятью, рассеян, высокомерен и всегда как будто насмехается над теми, кто, по его мнению, недостаточно его ценит. Как-то случилось мне прочесть ему написанный мною труд; он его выслушал. Не успел я окончить, как он заговорил о своем произведении. «А что он думает о вашем?» – осведомитесь вы. Я ведь уже ответил: он заговорил о своем.
26
Как ни безупречно произведение, от него не останется камня на камне, если автор, прислушиваясь к критике, поверит всем своим судьям, ибо каждый из них потребует исключить именно то место, которое меньше всего ему понравилось.
27
Всем известно, что если десять человек требуют, чтобы какое-либо выражение или какую-либо мысль автор вычеркнул из книги, то другие десять несогласны с ними. «Зачем исключать эту мысль? – говорят они. – Она свежа, прекрасна и великолепно выражена». Между тем первые продолжают утверждать, что они вовсе пренебрегли бы ею или по крайней мере иначе выразили бы ее. «У вас есть словечко, отлично найденное и живо рисующее то, о чем вы пишете», – говорят одни. «У вас есть словечко, – говорят другие, – совершенно случайно и не соответствующее тому, что вы, вероятно, хотели сказать». Так эти люди относятся к одному и тому же выражению, к одному и тому же штриху, а ведь все они знатоки или слывут знатоками. Автору, пожалуй, остается один только выход: набравшись смелости, согласиться с теми, кто его одобряет.
28
Писатель, наделенный умом, не должен обращать внимание на вздорную, грязную, злобную критику своего произведения, на глупые толкования отдельных мест, – и, уж во всяком случае, не должен вычеркивать эти места. Он отлично знает, что, как бы тщательно он ни отделывал книгу, насмешники все равно обрушатся на нее с издевками, стараясь разбранить самое лучшее, что есть в его творении.
29
Если верить некоторым решительным людям, некоторым горячим головам, то для выражения чувств слова излишни: лучше изъясняться знаками и понимать друг друга без слов. Хотя вы пишете сжато и точно – таково по крайней мере общее мнение, – люди, о которых я говорю, находят ваш слог расплывчатым. Им нужны пробелы, которые они сами могли бы заполнить, им необходимо, чтобы вы писали для них одних: целый период они заменили бы начальным словом, целую главу – одним периодом. Вы прочитали им какое-то место из своего произведения, и с них этого достаточно: они уже все уразумели, им ясен весь ваш замысел. Самое приятное для них чтение – это головоломки, состоящие из загадочных фраз, и они скорбят, что подобный искалеченный слог встречается не часто и что мало писателей, которым он по душе. Если сочинитель уподобит что-либо размеренному, спокойному и в то же время быстрому течению реки или гонимому ветром пламени, которое, охватив лес, уничтожает дубы и сосны, – они в таких сравнениях не найдут красноречия. Поразите их фейерверком, ослепите молнией – вот тогда ваш слог покажется им прекрасным и разумным.
30
Как велико различие между произведением просто изящным и произведением совершенным или образцовым! Не знаю, существуют ли еще в наше время творения последнего рода. Даже немногочисленным писателям, наделенным большим талантом, легче, пожалуй, достичь истинного благородства и величия, нежели избежать всякого рода погрешностей стиля. «Сид» при своем рождении был встречен единодушным гулом одобрения. Эта трагедия оказалась сильнее политики, сильнее властей, тщетно пытавшихся ее уничтожить; за нее дружно высказались люди, которые обычно придерживаются разных взглядов и мнений, – вельможи и простолюдины: все они знали ее назубок и во время представления подсказывали реплики актерам. Словом, «Сид» – это одно из совершеннейших творений словесности, и тем не менее один из самых обоснованных в мире критических разборов – это разбор «Сида» 7.
31
Если книга возвышает душу, вселяя в нее мужество и благородные порывы, судите ее только по этим чувствам: она превосходна и создана рукой мастера.
32
Капис считает себя судьей в вопросах изящной словесности и уверен, что пишет не хуже Бугура 8 и Рабютена 9; он один, наперекор всем, отрицает за Дамисом право считаться хорошим писателем. Что касается Дамиса, то он согласен со всеми и чистосердечно говорит, что Капис – скучный писака.
33
Газетчик обязан сообщать публике, что вышла в свет такая-то книга, что она издана Крамуази 10, отпечатана таким-то шрифтом на хорошей бумаге, красиво переплетена и стоит столько-то. Он должен изучить все – вплоть до вывески на книжной лавке, где эта книга продается; но боже его избави пускаться в критику.
Высокий стиль газетчика – это пустая болтовня о политике.
Раздобыв какую-нибудь новость, газетчик спокойно ложится спать; за ночь она успевает протухнуть, и поутру, когда он просыпается, ее приходится выбрасывать.
34
Философ проводит всю жизнь в наблюдениях за людьми и, не щадя сил, старается распознать их пороки и слабости. Излагая свои мысли, он порою ищет для них отточенную форму, но не авторское тщеславие движет им при этом, а желание показать открывшуюся ему истину в таком свете, чтобы она поразила умы. Некоторые читатели полагают, что платят ему с лихвой, когда с важным видом объявляют, что прочли его книгу и что она вовсе не глупа; однако он глух к похвалам: ради них он не стал бы трудиться и бодрствовать по ночам. Его замыслы куда обширнее, а цели – возвышенней: он с радостью откажется от любых восхвалений и даже от благодарности ради того великого успеха, который редко кому выпадает на долю, – он стремится исправить людей.
35
Глупцы читают книгу и ничего не могут в ней понять; заурядные люди думают, что им все понятно; истинно умные люди иной раз понимают не все: запутанное они находят запутанным, а ясное – ясным. Так называемые умники изволят находить неясным то, что ясно, и не понимают того, что вполне очевидно.
36
Напрасно старается сочинитель стяжать восхищенные похвалы своему труду. Глупцы иногда восхищаются, но на то они и глупцы. Умные люди таят в себе ростки всех мыслей и чувств; ничто им не внове: они не склонны восхищаться, они просто одобряют.
37
Я не представляю себе, что письма можно писать остроумнее, приятнее, изящнее и легче по слогу, чем их писали Бальзак 11 и Вуатюр 12. Правда, письма эти еще не проникнуты чувствами, которые распространились позднее и своим появлением обязаны женщинам. В произведениях этого рода прекрасный пол одареннее нас: под их пером непринужденно рождаются выражения и обороты, которые нам даются лишь ценой долгих поисков и тяжких усилий. Женщины на редкость счастливо выбирают слова и с такой точностью расставляют их, что самые обыденные приобретают прелесть новизны и кажутся нарочно созданными для этого случая. Только женщинам дано одним словом выразить полноту чувства и точно передать тончайшую мысль. Они с неподражаемой естественностью нанизывают одну тему на другую, связывая их единством смысла. Смею утверждать, что если бы они к тому же еще блюли правильность языка, во всей французской словесности не было бы лучше написанных произведений.
38
Единственный недостаток Теренция – некоторая холодность; зато какая чистота, точность, утонченность, грация, какие характеры! Единственный недостаток Мольера – некоторая простонародность языка и грубость слога; зато какой пыл и непосредственность, какое неистощимое веселье, какие образы, какое умение воссоздать нравы людей и высмеять глупость! И какой получился бы писатель, если бы слить воедино этих двух комедиографов!
39
Я перечитал Малерба 13 и Теофиля 14. Оба они знали жизнь, но воплощали ее по-разному. Первый, владеющий слогом ровным и богатым, показывает одновременно все, что в ней есть самого прекрасного и благородного, самого простого и наивного: он ее живописец и он же – историк. Второй неразборчив, неточен, пишет размашисто и неровно; порою он утяжеляет описания и вдается в излишние подробности – тогда он анатом; порою выдумывает, преувеличивает, выходит за пределы правды – тогда он сочинитель романов.
40
Ронсар 15 и Бальзак, каждый в своем роде, отличались такими достоинствами и недостатками, которые не могли не способствовать появлению после них великих писателей как в прозе, так и в поэзии.
41
Слог и манера изложения у Маро 16 таковы, словно он начал писать уже после Ронсара: от нас его отличают лишь отдельные слова.
42
Ронсар и современные ему сочинители принесли французской словесности больше вреда, нежели пользы. Они задержали ее на пути к совершенству, подвергнув опасности сбиться с дороги и никогда не достичь цели. Удивительно, что произведения Маро, столь непринужденные и легкие, не помогли Ронсару, полному огня и вдохновения, стать поэтом лучшим, чем Ронсар и Маро; не менее удивительно и то, что сразу вслед за Бело 17, Жоделем 18 и дю Бартасом 19 появились Ракан 20 и Малерб и что французский язык, уже тронутый порчей, так быстро исцелился.
43
Маро и Рабле совершили непростительный грех, запятнав свои сочинения непристойностью: они оба обладали таким прирожденным талантом, что легко могли бы обойтись без нее, даже угождая тем, кому смешное в книге дороже, чем высокое. Особенно трудно понять Рабле: что бы там ни говорили, его произведение – неразрешимая загадка. Оно подобно химере – женщине с прекрасным лицом, но с ногами и хвостом змеи или еще более безобразного животного: это чудовищное сплетение высокой, утонченной морали и грязного порока. Там, где Рабле дурен, он переходит за пределы дурного, это какая-то гнусная снедь для черни; там, где хорош, он превосходен и бесподобен, он становится изысканнейшим из возможных блюд.
44
Два писателя 21 высказывали в своих трудах неодобрение Монтеню 22; я тоже считаю, что Монтень не свободен от недостатков, но они, видимо, вообще нисколько его не ценили. Один из них недостаточно мыслил, чтобы ценить автора, который мыслил много; другой мыслил слишком утонченно, чтобы ему могли нравиться простые мысли.
45
Сдержанная, серьезная, строгая манера изложения служит автору порукой долгой известности: мы до сих пор читаем Амио 23 и Коэффето 24, но читает ли кто-нибудь их современников? Бальзак по отбору слов и выражений ближе нам, чем Вуатюр; но если последний по оборотам, по духу и отсутствию простоты кажется нам устарелым и ничем не напоминает наших сочинителей, все же надо сказать, что его легче замалчивать, чем ему подражать, и что немногочисленные последователи Вуатюра так и не смогли его превзойти.
46
Г. Г. 25 стоит несколько ниже полного ничтожества; впрочем, подобных изданий у нас немало. Тот, кто ухитряется нажить состояние на глупой книге, в такой же мере себе на уме, в какой неумен тот, кто ее покупает; однако, зная вкус публики, трудно порой не подсунуть ей какой-нибудь чепухи.
47
Всем очевидно, что опера – это лишь набросок настоящего драматического спектакля 26, только намек на него.
Не знаю, почему это опера, несмотря на превосходную музыку и царственную роскошь постановки, все же нагоняет на меня скуку.
Иные сцены в опере хочется заменить, а порой вообще ждешь не дождешься, чтобы она окончилась: происходит это из-за отсутствия театральных эффектов, действия, всего, что увлекает зрителя.
Опера в наши дни – это еще не поэма, а лишь отдельные стихи: с тех пор как Амфион 27 и его присные решили убрать театральные машины, она перестала быть зрелищем и превратилась в концерт, вернее – в пение, которое сопровождают инструменты. Тот, кто утверждает, будто театральные машины – это детская забава, годная только для театра марионеток, вводит людей в обман и прививает им дурной вкус: машины украшают вымысел, придают ему правдоподобие, поддерживают в зрителе приятную иллюзию, без которой театр утрачивает большую часть своей прелести, ибо она сообщает ему нечто волшебное. Обеим «Береникам» и «Пенелопе» 28 не нужны полеты, колесницы, превращения, но опере они необходимы: смысл ее в том, чтобы с одинаковой силой чаровать ум, глаза и слух.
48
Эти хлопотуны создали здесь все 29: машины, балет, стихи, музыку, весь спектакль; даже зал, где дается представление – то есть крыша, фундамент, стены, – дело их рук. Кто посмеет усомниться, что охоту на воде, волшебный обед (Обед во время охоты в Шантильи. (Прим. автора.)), чудо, ожидавшее всех в лабиринте (Изысканная закуска в лабиринте Шантильи. (Прим. автора.)), тоже придумали они? Я сужу об этом по их суетливости и довольному виду, с которым они принимают изъявления восторга. Если все же я заблуждаюсь, если они не внесли никакого вклада в это празднество, столь долгое, столь великолепное и пленительное, а все придумал и устроил на собственные средства один-единственный человек, – в таком случае, должен сознаться, меня одинаково повергают в изумление и хладнокровное спокойствие того, кто всем этим занимался, и беспокойная озабоченность тех, кто не сделал ровно ничего.
49
Знатоки или те, что почитают себя таковыми, выносят окончательные и бесповоротные приговоры театральным представлениям; они укрепляются на своих позициях и делятся на враждующие партии, причем каждая из них, руководствуясь отнюдь не интересами публики или справедливости, восхищается только одной пьесой или определенной музыкой и освистывает все остальное. Они защищают свои предубеждения с пылом, вредным в равной, степени и противной стороне и их собственному кружку: беспрерывными противоречиями они обескураживают как поэтов 30, так и музыкантов и, задерживая развитие искусств и наук, лишают нас возможности собрать урожай, который мог бы созреть, если бы несколько истинно талантливых людей, вступив в свободное соревнование, создали бы, каждый на свой лад и в соответствии со своим дарованием, прекрасные творения искусства.
50
Почему зрители в театре так откровенно смеются и так стыдятся плакать? Разве человеку менее свойственно сострадать тому, что достойно жалости, чем хохотать над глупостью? Быть может, мы боимся, что при этом исказятся наши лица? Но самая горькая скорбь не искажает их так, как неумеренный смех, – недаром же мы отворачиваемся, когда хотим посмеяться в присутствии вельмож и вообще уважаемых нами людей. Или мы не желаем показать, как нежно наше сердце, не желаем проявить слабость, тем более что речь идет о вымысле и кто-нибудь может подумать, будто мы приняли его за правду? Но если не говорить о серьезных и глубокомысленных людях, которые считают слабостью как неудержимый смех, так и потоки слез, равно воспрещая себе и то и другое, то скажите на милость, чего, собственно, мы ждем от трагедии? Веселья? Но ведь мы знаем, что трагические образы могут быть не менее правдивы, чем комические! Разве мы заразимся радостью или грустью, если не поверим тому, что происходит на сцене? И разве нас так легко удовлетворить, что мы не станем требовать правдоподобия? Иногда какое-то место в комедии вызывает взрыв смеха у всего амфитеатра: это говорит о том, что пьеса забавна и хорошо сыграна; но нередко бывает и так, что все с трудом удерживают слезы, стараясь скрыть их натянутым смешком: это доказывает, что хорошая трагедия обязательно должна вызывать искренние слезы, которые зрителям следовало бы без всякого смущения откровенно вытирать друг у друга на виду. К тому же, как только публика решит смело проявлять свои чувства в театре, она сразу обнаружит, что ей угрожает не столько опасность заплакать, сколько опасность умереть от скуки.
Произведения
Критика