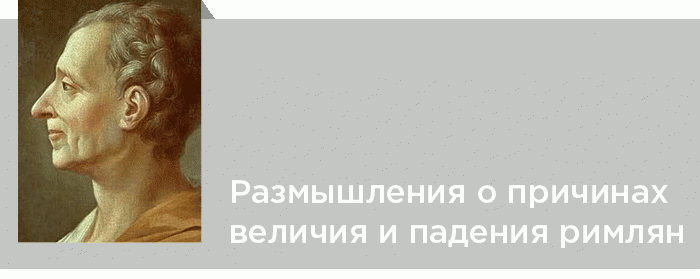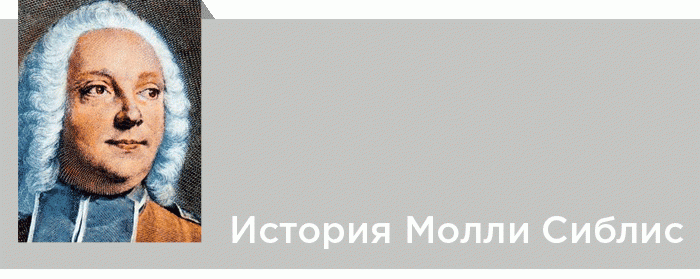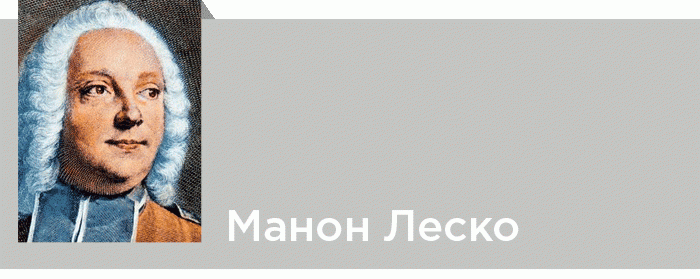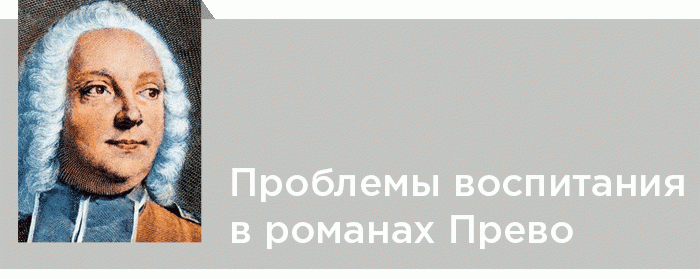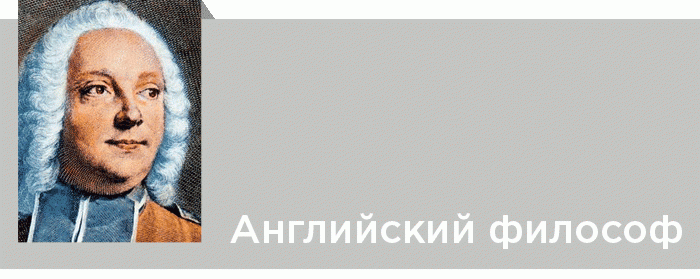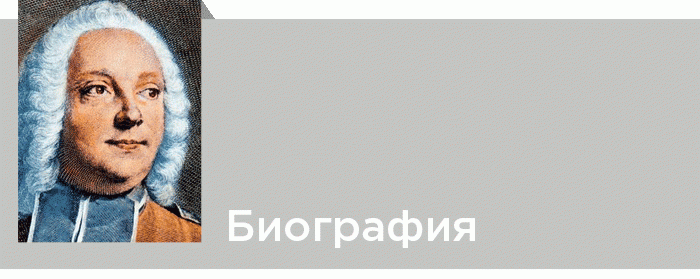Антуан Франсуа Прево. История одной гречанки

(Отрывок)
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Эта история не нуждается в предисловии, однако так уж принято, чтобы любая книга начиналась с него. В данном случае мы только предупредим читателя, что не обещаем ему ни раскрытия имен, упомянутых в этой истории, ни каких-либо разъяснений касательно описываемых событий, ни малейших намеков, которые помогли бы ему о чем-то догадаться или понять что-либо, чего он не поймет сам. Рукопись эта была найдена среди бумаг человека, хорошо известного в свете. Мы постарались сделать стиль ее приемлемым, не нарушая ни простоты повествования, ни силы описываемых чувств. Все в ней дышит нежностью, благородством и добродетелью. Пусть же отправится она в странствие под этими почтенными знаменами и пусть успехом своим будет обязана лишь самой себе.
Мы удалили из нее излишний турецкий колорит, который только утяжелил бы повествование, и всюду, где было возможно, заменили иностранные термины французскими. Так, вместо «гарема» мы пишем «сераль», хотя и известно, что гарем не что иное, как частный сераль; слово «базар» заменено словом «рынок» и т.д. Сделано это для удобства тех, кто мало знаком с восточным бытом, ибо во всех книгах, посвященных Востоку, легко найти пояснения всех этих терминов.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Не насторожит ли читателя признание, с которого я начну свой рассказ? Я любил красавицу гречанку, историю которой я собираюсь написать. Кто поверит, что я чистосердечен в изображении своих утех и горестей? Кто не усомнится в правдивости моих описаний и моих восторженных похвал? Не исказит ли бушующая страсть картину всего, что мне суждено было увидеть и совершить? Словом, можно ли ожидать правдивости от пера, коим водит любовь? Вот соображения, которые вполне могут насторожить читателя. Но если он человек просвещенный, он сразу же поймет, что, исповедуясь во всем этом столь откровенно, я твердо верю, что второе мое признание сразу же развеет сомнения, вызванные первым. Я долго любил, признаюсь и в этом, а быть может, и сейчас еще не настолько изжил роковую отраву, как мне удалось убедить в этом самого себя? Но любовь всегда приносила мне одни лишь горести. Мне не суждено было вкусить не только ее услад, но даже ее благодатных иллюзий, которые, при моем ослеплении, несомненно, могли бы заменить мне подлинное счастье. Я — любовник отвергнутый, даже обманутый, если верить признакам, судить о которых я предоставлю читателю. В то же время любимая мною ценила меня, слушалась как отца, уважала как властелина, советовалась со мною как с другом; но это ли награда за чувство, подобное моему? Горечь от пережитого мною все еще дает себя знать; так можно ли думать, что похвалы мои чрезмерны и что я преувеличиваю свое чувство к неблагодарной, искалечившей всю мою жизнь?
Я служил в королевском посольстве при иностранном дворе, интриги и обычаи которого знал лучше, чем кто-либо. Я приехал в Константинополь, уже в совершенстве владея турецким языком, и это сразу же расположило ко мне окружающих и внушило доверие, которое большинство послов завоевывает лишь после длительных испытаний; турки дивились тому, что француз может оказаться, если позволено так выразиться, отуреченным не менее, чем коренные обитатели страны, и уже само это редкостное явление с первых же дней снискало мне их благосклонность и особое уважение. Я всегда сочувственно относился к их обычаям и нравам, и это еще больше привязывало их ко мне. Они даже вообразили, что раз у меня так много общего с турками, значит, я сочувствую и их вере, а потому они стали еще больше уважать меня; все это привело к тому, что я почувствовал себя в стране, где не прожил еще и двух месяцев, столь же свободно и непринужденно, словно в своем родном краю.
Служебные мои обязанности позволяли мне много бродить по городу, и я старался пользоваться этим, чтобы удовлетворить свое любопытство и вместе с тем пополнять познания. Вдобавок я еще находился в том возрасте, когда тяга к удовольствиям идет рука об руку с охотой к серьезным делам, и, отправляясь в Азию, я как раз и намеревался удовлетворять обеим этим склонностям. Развлечения, коим предавались турки, оказались не такими уж причудливыми и в скором времени и мне стали доставлять удовольствие. Я боялся только, что здесь труднее будет удовлетворять свойственное мне влечение к женщинам. Их содержат в Турции весьма строго, так что даже увидеть их трудно, а потому я уже решил подавить в себе эту склонность и предпочесть тихую жизнь утехам, доступ к коим столь затруднителен.
Между тем у меня завязались добрые отношения с несколькими турецкими вельможами, которые слыли особенно разборчивыми в выборе жен и располагали в своих сералях прекраснейшими женщинами. Они много раз очень ласково и почтительно принимали меня в своих дворцах. Я заметил, что в разговорах они никогда не касаются любовных тем и что даже непринужденные их беседы не выходят за рамки рассуждений об охоте, о вкусных яствах и о мелких придворных или городских событиях, над которыми можно посмеяться. Я был так же сдержан, как и они, и только жалел, что из-за излишней ревности или из-за отсутствия вкуса они избегают самой приятной темы, могущей оживить беседу. Но я заблуждался насчет их намерений. Они хотели только испытать мою скромность, или, вернее сказать, зная, как высоко ценят французы женские чары, они словно сговорились подождать, чтобы я мог обнаружить свой нрав. Во всяком случае, вскоре они дали мне повод так думать.
Один бывший паша, безмятежно наслаждавшийся сокровищами, накопленными за долгие годы службы, выказывал мне всяческие знаки уважения, в ответ на которые я неизменно изливался в благодарности и преданности. В его доме я чувствовал себя непринужденно, словно в своем собственном. Мне были знакомы все его хоромы, кроме женской половины, и я упорно не обращал взора в ту сторону. Он заметил эту особенность моего поведения, и, не сомневаясь в том, что я все же знаю, где расположен его сераль, он несколько раз приглашал меня прогуляться вместе с ним по саду, примыкавшему к дворцу. Наконец, видя, что я упорно храню молчание, он с улыбкой сказал мне, что восхищается моею скромностью.
— Вам известно, — добавил он, — что я обладаю прекрасными женщинами, а вы не в таком возрасте и не такого нрава, чтобы быть к ним равнодушным. Удивительно, что вы не проявляете любопытства и желания их видеть.
— Я знаком с вашими обычаями и никогда не стану просить, чтобы их нарушили ради меня, — ответил я равнодушно. — Обладая некоторым знанием света, — продолжал я, спокойно глядя на него, — я понял, когда прибыл в вашу страну, что раз у вас так тщательно оберегают женщин, то любопытство и нескромность должны почитаться особенно предосудительными пороками. Зачем же оскорблять своих друзей расспросами, которые могут прийтись им не по душе?
Он высоко оценил мой ответ. Он признался, что неоднократные примеры излишней вольности французов весьма насторожили турок против них и что поэтому ему особенно приятно, что я придерживаюсь столь разумных взглядов. Он тут же предложил мне показать свой сераль. Я отнесся к этой милости без особого восторга. Мы направились в помещение, описывать которое не входит в мою задачу. Но я был настолько поражен порядками, царившими там, что без труда запомнил многие подробности.
Все жены паши, которых насчитывалось двадцать две, находились вместе в зале, предназначенном для их занятий. Они разбились на группы; одни рисовали цветы, другие шили или вышивали — соответственно своим способностям или вкусам, следовать которым они были вполне вольны. Мне показалось, что платья у всех из одной и той же ткани, во всяком случае одинакового цвета, зато прически у всех были разные, и я понял, что они приноровлены к чертам лица. По углам зала толпилось много служанок и слуг, готовых немедленно исполнить малейшие прихоти женщин; я заметил, однако, что слуги, которых я принял за мужчин, в действительности — евнухи. Но как только мы вошли, все слуги удалились, а двадцать две дамы встали; замерев на месте, они ждали распоряжений своего повелителя или объяснения, чем вызван наш приход, по-видимому, крайне удививший их. Я по очереди вглядывался в их лица; они были разного возраста; я не заметил ни одной старше тридцати лет на вид, зато и ни одной столь юной, как я предполагал; самым молоденьким было по меньшей мере шестнадцать-семнадцать лет.
Шерибер — так звали пашу — учтиво попросил их приблизиться и, кратко пояснив, кто я такой, предложил им как-нибудь развлечь меня. Они велели подать им различные музыкальные инструменты, и некоторые стали играть на них, а другие принялись довольно легко и изящно плясать. Зрелище это длилось больше часа, после чего паша распорядился подать освежающие напитки, и их разнесли во все уголки зала, где женщины заняли свои прежние места. Я еще не имел случая произнести ни единого слова. Наконец паша спросил, какое впечатление произвело на меня это изящное собрание; я воздал должное очарованию собранных здесь красавиц, а он пустился в весьма здравые рассуждения о могуществе воспитания и привычки, благодаря коим даже самые прекрасные женщины в Турции смиренны и покорны, в то время как другим народам, говорят, постоянно приходится жаловаться на волнения и раздоры, которые возникают из-за красивых женщин. В ответ я высказал несколько замечаний, лестных для турецких дам.
— Нет, — возразил он, — дело не в том, что у наших женщин другой нрав, чем у женщин прочих стран. Из двадцати двух, которых вы видите здесь, лишь четыре коренные турчанки. Большинство же — рабыни, которых я купил, не считаясь с их происхождением.
Обратив мое внимание на одну из самых юных и привлекательных, он пояснил:
— Вот гречанка; она у меня только полгода. Не знаю, кому она принадлежала раньше. Я купил ее случайно, только за ее миловидность и веселый нрав. Как видите, она так же довольна своей участью, как и ее подруги. Однако я замечаю в ней столь живой и развитой ум, что иной раз дивлюсь, как это ей удалось так скоро усвоить наши обычаи, и не могу объяснить это не чем иным, как силою привычки и окружающих примеров. Поговорите с нею, — предложил он, — и я уверен, вы найдете в ней все достоинства, благодаря которым женщина достигает у вас самого высокого положения и может вершить большие дела.
Я подошел к ней. Она увлекалась живописью; она, видимо, мало обращала внимания на то, что происходит в зале, и, едва кончила плясать, сразу же опять взялась за кисть. Попросив прощения, что отрываю ее от работы, я не нашел ничего лучшего как продолжить тему моего разговора с Шерибером. Я похвалил ее нрав, который так ценит ее господин; я не скрыл от нее, что мне известно, сколько времени она принадлежит ему, и поздравил ее с тем, что за столь короткий срок она так хорошо свыклась с обычаями и с укладом жизни турецких дам. Ответ ее был прост. Женщина, по ее словам, не может рассчитывать на иное счастье, кроме счастья угождать своему повелителю, и поэтому она очень рада, что Шерибер о ней столь лестного мнения. А я, принимая это во внимание, не должен удивляться, что она так легко подчинилась порядкам, установленным им для своих невольниц. Столь искренняя покорность воле старика со стороны прелестной девушки, которой на вид не было и шестнадцати лет, удивила меня больше, чем все, что рассказал мне паша. И весь облик, и речь юной рабыни подтверждали, что она действительно преисполнена теми чувствами, о которых говорит. Мысленно сопоставив ее взгляды со взглядами наших дам, я невольно выразил сожаление, что она рождена для иной судьбы, чем та, какую заслуживает своею добротой и покорностью. Я с горечью рассказал ей о невзгодах, нередко постигающих мужчин в христианских странах, где мы идем на все, чтобы дать женщинам счастье, где мы относимся к женщинам скорее как к королевам, чем как к рабыням, безраздельно посвящаем им жизнь и просим за это только ласки, нежности и добронравия, а между тем почти всегда оказывается, что мужчина ошибся в выборе супруги, которой он дарует свое имя, свое общественное положение и состояние. Мне показалось, что собеседница жадно вслушивается в мои сетования, и я продолжал рассуждать о том, как счастлив был бы француз, находя в своей подруге добродетели, которые как бы пропадают зря у турецких дам, ибо они, к несчастью, никогда не встречают у мужчин ответного чувства.
Мною овладело такое волнение, что, сознаюсь, я почти не давал собеседнице времени отвечать мне. Беседу нашу прервал Шерибер. Быть может, он заметил, с каким пылом разговариваю я с его невольницей; но я, не имея никаких оснований упрекать себя в злоупотреблении его доверием, спокойно вернулся к нему. В расспросах его не чувствовалось ни малейших признаков ревности. Наоборот, он обещал почаще развлекать меня таким зрелищем, если оно пришлось мне по вкусу.
В последующие несколько дней я нарочно воздерживался от встречи с пашой, чтобы доказать полное мое равнодушие к женщинам и тем самым предупредить возможные его сомнения на этот счет. А когда он приехал ко мне, чтобы попрекнуть меня в том, будто я его забыл, один из рабов, сопровождавших его, передал моему слуге письмо. Вручено оно было моему камердинеру, который и доставил мне его так же таинственно, как и получил. Распечатав конверт, я нашел в нем записку на греческом языке, которого еще не знал, хотя незадолго перед тем и начал изучать. Я тотчас же послал за своим учителем, слывшим вполне порядочным человеком, и просил его растолковать мне, о чем там идет речь, — словно письмо попало в мои руки случайно. Учитель перевел мне его; я сразу же понял, что оно от юной гречанки, с которой я беседовал в серале паши. Но я никак не ожидал того, что содержалось в этом послании. Сетуя на свой горестный удел, она во имя того уважения, с каким я отзывался о добродетельных женщинах, заклинала меня воспользоваться моим влиянием, дабы вырвать ее из рук паши.
Она не возбуждала во мне никаких иных чувств, кроме вполне естественного восхищения ее красотой, и, придерживаясь принятых мною правил поведения, я отнюдь не собирался пускаться в приключение, от которого мог ждать куда больше бед, нежели радостей. Я не сомневался, что юную рабыню обворожила картина счастливой жизни наших женщин, которую я в немногих словах описал ей, и что ей стало невмоготу затворничество в серале; у нее возникла надежда, что она встретит с моей стороны те самые чувства, которые я так восхвалял у своих соотечественников, и ей вздумалось затеять со мною любовную интрижку. Поразмыслив об опасностях, которыми чревата для меня такая прихоть, я еще больше утвердился в своем прежнем решении. Однако естественное желание услужить милой женщине, жизнь коей, как мне казалось, со временем превратится в подлинную пытку, побудило меня задуматься, нельзя ли вернуть ей свободу законным путем. Мне пришло в голову испытать одну из таких возможностей, причем это потребует от меня только некоторой щедрости: я задумал выкупить девушку. Боязнь оскорбить пашу подобным предложением чуть было не остановила меня. Но я разработал такой план, который вполне успокоил мою щепетильность.
У меня завязались весьма дружеские отношения с силяхтаром, одним их влиятельнейших людей Оттоманской империи. Я решил признаться ему, что хотел бы купить рабыню, принадлежащую паше Шериберу, и вместе с тем просить его взять на себя эти хлопоты, как будто он хочет приобрести ее для самого себя. Силяхтар охотно согласился, не придав этой услуге особого значения. Цену я предоставил на его усмотрение. Шерибер так благоговел перед высоким положением силяхтара, что оказался сговорчивее, чем я мог предполагать. Силяхтар в тот же день дал мне знать, что паша согласен и что цена определена в тысячу экю.
Я радовался, что деньги мои пойдут на столь благое дело; но накануне дня, когда мне предстояло получить желаемое, у меня возникло соображение, которое я на первых порах совсем упустил из виду, а именно: что станется с юной рабыней и на что она рассчитывает по выходе из сераля? Не собирается ли она приехать ко мне и обосноваться в моем доме? Она казалась мне достаточно привлекательной, чтобы я позаботился о ее благополучии; но помимо того, что я обязан был считаться со своей челядью и держаться в рамках благопристойности, как мог я избежать того, что паша рано или поздно узнает, где обрела она убежище, и не наскочу ли поневоле на тот самый подводный камень, которого надеялся избежать? Мысль эта настолько охладила мое рвение, что на следующий день при встрече с силяхтаром я высказал сожаление, что вовлек его в дело, которое может огорчить пашу. И, даже не заикнувшись о тысяче экю, которую следовало бы ему отдать, я отправился к Шериберу. Раздираемый одновременно и желанием услужить рабыне, и тревогой насчет грозящих мне осложнений, и боязнью огорчить моего друга, я рад был бы подыскать какой-нибудь повод, чтобы окончательно отказаться от этого замысла; я подумал, не лучше ли открыться самому паше, чтобы по крайней мере выяснить, не слишком ли тяжела для него жертва, которую от него требуют. Мне казалось, что ссылка на боязнь обидеть друга будет достаточно уважительной, чтобы я мог, не нарушая правил вежливости, уклониться от исполнения женской прихоти. Шерибер так обрадовался мне и так изливался в своих чувствах, что опередил меня, не дав мне времени ему открыться, и тут же сообщил, что в его серале стало одной женщиной меньше: юная гречанка, с которой он предоставил мне возможность побеседовать, продана силяхтару. Он рассказывал об этом весьма непринужденно, и, судя по этому, я понял, что он не особенно огорчен утратой юной невольницы. В дальнейшем я еще более убедился в том, что он совершенно равнодушен к женщинам. Он был в том возрасте, когда плотские вожделения уже не терзают мужчину, а на свой сераль он тратился не столько по сердечной склонности, сколько из тщеславия. Осознав это, я махнул рукой на щепетильность и даже не стал признаваться ему в своих сомнениях; я предоставил ему воображать, будто теперь он имеет неоспоримое право рассчитывать на признательность силяхтара.
Тем не менее, когда он предложил мне заглянуть в сераль, я заметил, что он колеблется — как ему держать себя с проданной рабыней.
— Она не знает, что у нее будет новый хозяин, — сказал он. — Я так часто давал ей доказательства своего расположения, что гордость ее будет уязвлена, когда она узнает, как легко я согласился уступить ее другому. Вы сами увидите, — добавил он, — как она будет прощаться со мною; ведь сейчас мы с ней увидимся в последний раз. Я сказал силяхтару, что он может увести ее в любое время.
Я предвидел, что для меня эта сцена не будет лишена приятности, однако вовсе не по тем причинам, по каким она должна оказаться стеснительной для паши. На письмо юной гречанки я не решился ответить ни единым словом, а потому предполагал, что она будет крайне огорчена, узнав, что ей суждено перейти в сераль силяхтара, где ее ждет еще более тяжкая неволя. Как же прискорбно будет ей узнать об этом в моем присутствии и скрыть свое горе! Раб Шерибера дважды приходил ко мне за ответом на письмо, но я ограничился приказанием устно передать ей, что всячески постараюсь оправдать ожидания, которые на меня возлагают.
Вместо того, чтобы отправиться в общий зал, паша распорядился сказать гречанке, чтобы она пришла к нам в одну из небольших комнат и чтобы туда, кроме нее, никого не пускали. По смущению, охватившему ее, когда она вошла к нам, я понял, как она взволнована. Увидев нас вместе, она подумала, что я откликнулся на ее мольбу и пришел возвестить ей о ее освобождении. Первые любезные слова паши вполне могли подкрепить такую надежду. Он очень ласково и учтиво сказал ей, что, как он ни расположен к ней, он не мог не уступить могущественному другу своих прав на ее сердце; но он утешается тем, добавил паша, что может поручиться ей, что она попадает в руки благороднейшего человека; вдобавок это один из самых влиятельных вельмож империи, и он может, благодаря своему богатству и страстной натуре, осчастливить женщин, которым суждено нравиться ему. Он назвал силяхтара. Гречанка обратила на меня отчаянный взгляд, лицо ее сразу приняло скорбное выражение, словно она упрекала меня за то, что я превратно понял ее намерения. Она догадывалась, что не кто иной, как я освобождаю ее из сераля Шерибера, однако лишь для того, чтобы отдать ее из одного рабства в другое и что, следовательно, я неверно истолковал ее слова или не посчитался с побуждениями, о коих она поведала мне, прося ей помочь. Шерибер же был твердо убежден, что волнение девушки объясняется не иначе как сожалением о предстоящей разлуке с ним. Она еще более укрепила его в этом заблуждении, когда стала уверять, что если уж ей суждено жить в таких условиях, то она желала бы другого хозяина; скорбь ее изливалась в столь нежных и настоятельных жалобах, что, как я заметил, паша уже готов был забыть свое обещание. Но я принял его колебания всего лишь за преходящий порыв и был взволнован ими куда меньше, чем слезами прекрасной гречанки; я поспешил прийти к обоим на помощь, сказав им несколько ободряющих слов.
— Горе, которое причиняет паше разлука с вами, должна служить вам утешением, — сказал я невольнице. — А если вас тревожит мысль о том, что ждет вас у силяхтара, то я с ним в таких хороших отношениях, что могу поручиться: там вы будете счастливы и станете полной хозяйкой своей судьбы.
Она подняла на меня взор и так проникновенно заглянула мне в глаза, что прочла в них мою мысль. Шерибер не усмотрел в моих словах ничего, что противоречило бы его намерениям. После этого наша беседа проходила спокойнее. Он засыпал ее подарками и пожелал, чтобы я принял участие в их выборе. Потом он попросил меня не осудить его за желание обойтись с ней запросто и увел ее в другую комнату, где они пробыли наедине более четверти часа. Я убежден, что он поступил так только потому, что хотел в последний раз доказать ей свое расположение. Я отнесся к его поступку без малейшего волнения, и это служит порукой, что сердце мое ничуть не было затронуто.
Между тем дело зашло так далеко, что уже нечего было раздумывать, и я поспешил домой за тысячью экю и немедленно отвез деньги силяхтару. Он дружески осведомился, не открою ли я своего секрета, а в виде единственной награды за оказанную им услугу попросил меня сказать по крайней мере каким образом у меня завязались отношения с рабыней Шерибера. Мне незачем было таиться, и я рассказал ему, с чего началась эта история и в чем ее сущность. Когда же он дал мне понять, что трудно поверить, будто только великодушие побуждает меня услужить столь прекрасной девушке, какою я описал ему юную гречанку, я поклялся, что ничуть не увлечен ею и, помышляя лишь о том, как бы вернуть ей свободу, обеспокоен вопросом, что она намерена предпринять по выходе из неволи; я говорил так искренне, что у него не могло остаться никаких сомнений насчет моих чувств. Он назначил срок, когда я могу приехать к нему за невольницей. Я ждал этого часа без особого нетерпения. Мы уговорились встретиться в ночное время, чтобы скрыть переезд от посторонних. Около девяти часов вечера я отправил к силяхтару своего камердинера в скромной карете, дабы она не привлекла внимания прохожих, и приказал ему просто сказать, чтоб доложили силяхтару, что он приехал от моего имени и ждет у ворот. Ему ответили, что силяхтар повидается со мною на другой день и тогда расскажет, что он для меня сделал.
Отсрочка эта ничуть не встревожила меня. Чем бы она ни была вызвана, я со своей стороны сделал все, что мне подсказывали честь и великодушие; и радость, которую должно было принести мне успешное завершение затеи, объяснялась только двумя этими причинами. Тем временем я сосредоточенно обдумывал, как мне вести себя с юной рабыней. По многим соображениям я не мог оставить ее у себя. Даже толкуя в самом лестном для себя смысле ее решение обратиться за помощью именно ко мне, которое можно было принять за намерение дать мне возможность наслаждаться ее красотой, я все же не собирался открыто сделать ее своей наложницей. Я переговорил с учителем греческого языка, которому в конце концов вполне доверился. Он был женат. Жена его должна была принять невольницу из рук моего камердинера, а я собирался на другой день отправиться к ней и узнать, чем я еще могу быть ей полезен.
Но причины, по которым силяхтар отложил передачу невольницы, оказались серьезнее, чем я предполагал. Когда я к нему приехал, он как раз собирался ко мне; мое появление и первые мои вопросы заметно смутили его. Он ответил мне не сразу. Потом, нежно обняв меня, — чего я, зная его нрав, отнюдь не ожидал, — он попросил меня вспомнить, в чем я уверял его накануне, и уверял так горячо, что он не мог заподозрить меня в неискренности. Он подождал, давая мне возможность еще раз подтвердить мои уверения, и, снова заключив меня в объятия, но уже с более непринужденным и веселым видом, сказал, что он — счастливейший из смертных, поскольку, воспылав жгучей страстью к невольнице Шерибера, может не опасаться соперничества и возражений со стороны друга. Он был со мною вполне откровенен.
— Я виделся с нею вчера, — сказал он мне, — я провел с нею всего лишь час; у меня не вырвалось ни слова о любви. Но чары ее произвели на меня такое впечатление, что я уже не могу жить без нее. Для вас она не так дорога, — продолжал он, — поэтому я льщу себя надеждой, что ради друга вы без труда откажетесь от блага, которым особенно не дорожите. Назначьте цену, какой она по-вашему стоит, и не будьте так скромны, как Шерибер, который не мог оценить ее по достоинству.
Я отнюдь не ожидал такого оборота, после того как он оказал мне эту услугу; но, не питая никаких чувств, которые побуждали бы меня видеть в этом предложении коварство, я не мог считать, что оно противно чести и дружбе; однако по тем же соображениям, по каким я решил помочь невольнице, я возмутился при мысли, что, вопреки ее чаяниям, мне придется отдать ее во власть другого повелителя. Таково и было мое единственное возражение силяхтару.
— Если вы меня заверите, — ответил я, — что она благосклонно принимает ваше чувство или что она по крайней мере согласна вам принадлежать, я забуду все свои расчеты и, клянусь небом, вам не придется дважды обращаться ко мне с этой просьбой; я удовлетворю ее немедленно. Но мне известно, что снова оказаться в серале будет для нее страшным несчастьем, и это единственная причина, побудившая меня принять участие в ее судьбе.
Здесь он почел уместным сослаться на обычаи, существующие у его соотечественников:
— Стоит ли считаться со склонностями невольницы? — возразил он.
Я тотчас же опроверг этот довод.
— Не называйте ее больше невольницей, — сказал я, — я купил ее только для того, чтобы дать ей свободу, и она действительно свободна с той самой минуты, как вышла из-под власти Шерибера.
Слова мои ошеломили его. Однако я хотел сохранить его дружбу и поэтому добавил, что, вероятно, любовь и щедрые дары человека его ранга тронут сердце столь юного существа; я дал ему слово, что соглашусь на любое решение, если девушка примет его добровольно. Я предложил выяснить этот вопрос не откладывая. Он несколько приободрился. Позвали гречанку. Изложить чувства силяхтара я взял на себя; но я хотел, чтобы она помнила о своих правах и чтобы решение ее было вполне свободным.
— Вы принадлежите мне, — сказал я. — При содействии силяхтара я купил вас у Шерибера. Цель моя — дать вам счастье, и случай к этому представляется теперь же. Вы можете обрести его здесь; этот человек любит вас и одарит вас всевозможными благами; вы, быть может, тщетно стали бы искать все это в другом месте.
Силяхтару мое поведение и слова показались искренними, и он не преминул присовокупить к ним множество заманчивых обещаний. Он призвал Пророка в свидетели, что обещает ей в серале господствующее положение. Он упомянул о всех развлечениях, которые ожидают ее там, о множестве рабов, готовых служить ей. Она терпеливо выслушала его речь, но она уже вполне уразумела смысл сказанного мною.
— Если вы желаете мне счастья, то дайте мне возможность воспользоваться вашим благодеянием, — сказала она, обращаясь ко мне.
Ответ этот был настолько ясен, что теперь я уже думал лишь о том, как бы защитить ее от насилия; хотя я не ожидал ничего дурного от такого человека, как силяхтар, все же предосторожность казалась мне по ряду соображений необходимой. Турки мало считаются с невольницами, зато к женщинам свободным относятся весьма почтительно. Мне хотелось оградить ее от всех случайностей, связанных с ее положением.
— Поступайте, как пожелаете, — сказал я ей, — и не опасайтесь ничего как с моей стороны, так и со стороны кого-либо другого, ибо вы уже не рабыня и я возвращаю вам все права, какие имею на вас и на вашу независимость.
За время своего пребывания в Турции она не раз слышала о том, как различно относятся турки к свободным женщинам и к невольницам. Сколь велико ни было ликование, охватившее девушку при моих словах, она сразу же решила принять вид и манеры, которые казались ей подобающими ее новому положению. Я был очарован скромным и благопристойным выражением, вдруг появившемся на ее лице. Она старалась не столько выразить мне благодарность, сколько дать понять силяхтару, как он должен вести себя после той милости, какую я ей оказал. Он и сам понимал это; он умолк — только в этом и выражалось его огорчение; вместе с тем он, по-видимому, готов был предоставить ей свободно распорядиться своей судьбой. Я не знал, куда она попросит отправить ее, а она удивлялась, что я не разъясняю ей своих намерений; поэтому она подошла ко мне, чтобы осведомиться о них. Я счел неуместным вдаваться в долгие объяснения при силяхтаре, а только подтвердил, что и впредь буду оказывать ей необходимую помощь; затем я проводил ее до порога и передал своим слугам, приказав тайно отвезти ее к учителю. В Константинополе имеются особые кареты, предназначенные для женщин.
Меня удивило, что силяхтар не только не воспротивился ее желанию уехать, но сам распорядился, чтобы отворили ворота, а когда я вернулся к нему, то нашел его вполне успокоившимся. Он сдержанно попросил меня выслушать, что он надумал.
— Великодушные чувства, побуждающие вас заботиться о благополучии этой девушки, заслуживают всяческой похвалы, а от бескорыстия вашего я просто в восторге, — сказал он. — Но, раз вы считаете ее достойной такого отношения, значит вы о ней высокого мнения, а это может только подогреть нежность, которую она вызвала во мне. Она свободна, — продолжал он, — и я не упрекаю вас в том, что вы предпочли позаботиться о ее судьбе, а не удовлетворить мое желание. Но прошу вас об одной только милости и обещаю не злоупотреблять ею. А именно: без моего ведома не давайте согласия на ее отъезд из Константинополя. Такое обещание свяжет вас ненадолго, — пояснил он, — ибо я со своей стороны обещаю, что через четыре дня разъясню вам свои намерения.
Я охотно согласился на эту просьбу, опасаясь прогневить его, и был очень рад, что такою ценою удается сохранить его уважение и дружбу.
В тот день мне предстояли еще кое-какие дела, поэтому посещение юной гречанки пришлось отложить до вечера. Случайно я встретился с Шерибером. Он сказал мне, что виделся с силяхтаром и что тот в восторге от своей новой рабыни. Их встреча могла состояться только после моего ухода от силяхтара. Скромность, побудившая силяхтара так тщательно соблюсти нашу тайну, еще более убедила меня в его благородстве. Шерибер же всячески расхваливал ему меня. То, как вельможа говорил обо мне с пашой, убеждало меня, что оба они мои преданнейшие друзья. И я был признателен им за это. У меня не было особых причин гадать, к чему могут привести этот прилив дружеских чувств и обещание, взятое с меня силяхтаром; поэтому и ум мой, и сердце были вполне спокойны, и, когда я вечером приехал к учителю, намерения у меня оставались все те же.
Мне сказали, что юная гречанка, уже успевшая сменить имя Зара, которое она носила в рабстве, на Теофею, ждет меня с великим нетерпением. Я вошел к ней. Она сразу же бросилась мне в ноги и обняла их, заливаясь слезами. Я тщетно пытался поднять ее. Сначала она не в силах была произнести ни слова, а только вздыхала; когда же вихрь обуревавших ее чувств стал утихать, она принялась называть меня своим избавителем, отцом, Провидением. Мне никак не удавалось сдержать порывы, в которых, казалось, исходит вся ее душа. Я сам был до слез растроган знаками ее признательности, так что у меня не хватало сил отклонить ее нежные ласки и я не стеснял ее. Наконец, когда я заметил, что она мало-помалу успокаивается, я поднял ее, усадил поудобнее и сам поместился рядом.
Немного отдышавшись, она спокойно повторила то, что тщетно пыталась высказать сквозь рыдания. В ее словах звучала горячая благодарность за услугу, которую я ей оказал, восторг перед моей добротой, пламенная мольба к небу, чтобы оно сторицей воздало мне за то, чего самой ей не оплатить всей жизнью, всей своей кровью. В присутствии силяхтара она делала над собою величайшие усилия, чтобы сдерживать обуревавшие ее чувства. Ее глубоко огорчало, что наша встреча откладывается, а если я не поверю, что она намерена впредь жить и дышать лишь для того, чтобы показать себя достойной моих благодеяний, то это будет для нее несчастьем даже худшим, чем неволя. Я прервал ее, уверяя, что столь искренние и пылкие чувства являются уже достаточной наградой за мои услуги. И, думая лишь о том, чтобы предотвратить новые порывы чувств, я попросил у нее, как единственной милости, поведать мне, с каких пор и в силу каких прискорбных обстоятельств она лишилась свободы.
Должен отдать себе справедливость: несмотря на всю ее прелесть, на трогательную беспомощность, с какой она поникла у моих ног и в моих объятиях, в сердце моем еще не родилось никакого иного чувства, кроме сострадания. Природная щепетильность не позволяла мне питать какое-либо более нежное чувство к юному созданию, только что освободившемуся из рук турка; да я и не предполагал в ней иных достоинств, кроме внешней привлекательности, как это часто бывает в восточных сералях. Словом, меня по-прежнему можно было бы похвалить за щедрость; однако мне уже не раз приходила в голову мысль, что, узнай о ней христиане, мне не избежать бы порицания со стороны строгих судей, за то, что я не пожертвовал эти деньги на дела веры или на выкуп нескольких несчастных пленников, а, по всей видимости, истратил их на собственные развлечения. Читателю предоставляется судить, смягчают ли мою вину дальнейшие события; но если я имею основания опасаться некоторых упреков уже в начале этой истории, то последующее тем более вряд ли будет способствовать моему оправданию.
Малейшее мое желание Теофея считала для себя законом; поэтому она обещала откровенно рассказать мне все, что ей известно об ее происхождении и о последующих событиях.
— Я помню себя ребенком в небольшом городке, в Морее, где отец мой слыл за иностранца, — сказала она, — и я считаю себя гречанкой, только основываясь на его словах, однако он всегда скрывал от меня, откуда он родом. Он был бедный и, не обладая никакими талантами, чтобы поправить свои дела, воспитывал меня в бедности. И все же я не припоминаю такого случая, чтобы я остро почувствовала нашу нищету. Мне не было еще и шести лет, когда меня перевезли в Патрас; помню название этого города, и это — самое раннее мое воспоминание. После бедности, в которой я жила до тех пор, я сразу попала в такой достаток, что у меня сохранились о нем неизгладимые впечатления. Я находилась при отце, однако, лишь прожив в этом городе несколько лет, вполне осознала свое положение и поняла, какая мне приуготовлена участь. Отец не был рабом и меня не продал; он поступил на службу к турецкому губернатору. Меня считали довольно миловидной, и это послужило для отца рекомендацией в глазах губернатора; губернатор обязался всю жизнь кормить его, а мне дать тщательное воспитание с единственным условием: предоставить меня ему, когда я достигну возраста, соответствующего желаниям мужчин. Помимо крова и пропитания, отец получил и небольшую должность. Меня воспитывала под его наблюдением одна из рабынь губернатора; мне едва минуло десять лет, когда она стала расписывать, какое мне выпало счастье, что я приглянулась ее господину, и разъяснять мне, на что он рассчитывает, заботясь о моем воспитании. С тех пор величайшее счастье, возвещенное мне, я представляла себе не иначе, как в таких именно условиях. Великолепие нескольких женщин, составлявших сераль губернатора, и рассказы об их счастливой жизни разжигали мое нетерпение. Между тем губернатор был уже столь преклонного возраста, что отец, не надеясь всю жизнь пользоваться выгодами, ради которых он переселился в Патрас, стал раскаиваться, что взял на себя обязательства, плоды коих будут недолговечны. Он еще не делился со мной своими раздумьями, но, зная, в каком духе меня воспитывают, и не опасаясь сопротивления с моей стороны, он затеял тайные переговоры с сыном губернатора, которого уже безудержно влекло к женщинам, и предложил ему на тех же условиях воспользоваться правами, принадлежащими его отцу. Меня показали юноше. Я пришлась ему по вкусу. Менее терпеливый, чем его родитель, он потребовал у моего отца, чтобы срок осуществления их сделки был сокращен, и меня отдали ему в том возрасте, когда я еще не ведала различия полов.
Как видите, горестная судьба моя объясняется не склонностью к наслаждениям: я не опустилась до порока, а родилась в нем. Поэтому я никогда не испытывала ни стыда, ни раскаяния. С возрастом я не узнала ничего, что помогло мне исправиться. В те ранние годы мне были чужды и желания, порождающие страсть. Положение мое определялось привычкой. Так длилось до того, когда губернатор решил приблизить меня к себе. Сын его, мой отец и рабыня, которой я была поручена еще ребенком, страшно перепугались; я же, ни малейшей степени не разделяя их тревогу, по-прежнему была убеждена, что именно губернатору я и должна принадлежать. Он был надменен и жесток.
Отец, напрасно понадеявшись на его смерть, оказался в столь безвыходном положении, что со страху решил бежать вместе со мною, не открывшись в своем намерении ни рабыне, ни юному турку; но затея эта кончилась неудачно, и нас задержали еще прежде, чем мы добрались до гавани. Отец не был рабом, поэтому бегство его не являлось таким преступлением, за которое его могли бы казнить. Однако на него обрушился неистовый гнев губернатора; он считал бегство отца изменой, попрекал его оказанными ему благодеяниями и обвинял в воровстве. Меня в тот же день водворили в сераль. На следующую ночь мне объявили, что я буду иметь честь оказаться в числе жен моего властелина. Я восприняла эту весть как милость; не понимая причин, побудивших отца обратиться в бегство, я удивлялась, что он вдруг вздумал отказаться и от моего, и от собственного благополучия.
Настает ночь. Меня подготавливают к чести, о которой мне было возвещено, и вот ведут меня в покои губернатора; он встречает меня весьма благосклонно и ласково. В то же время губернатору докладывают, что сын его настоятельно просит поговорить с ним и что дело, о котором будет речь, настолько важно, что никак нельзя отложить его на завтра. Губернатор велит впустить юношу и оставить их наедине. Меня все же не уводят; но отец с сыном удаляются в одну из соседних комнат и некоторое время проводят там с глазу на глаз. До меня, правда, донеслось несколько резких выкриков, по которым я поняла, что беседа проходит не вполне спокойно. Затем последовал какой-то шум; я испугалась, но тут сын выходит с растерянным видом из комнаты, бросается ко мне, берет меня за руку и умоляет бежать вместе с ним. Потом, сообразив, по-видимому, что ему следует опасаться челяди, он выбегает один, обманывает слуг, передав им ложные распоряжения отца, а меня оставляет в том же состоянии, то есть до такой степени трепещущей от ужаса, что я даже не решаюсь войти в комнату, где они препирались, и посмотреть, что там произошло. Между тем рабы, которым молодой турок сказал, будто отец его желает побыть четверть часа один, по прошествии этого времени снова появляются; они застают меня все в том же положении, но при виде моей растерянности у них возникают какие-то подозрения. Они начинают расспрашивать меня. Не будучи в силах вымолвить ни слова, я жестом указываю на комнату, где происходило объяснение. Они находят там своего повелителя в луже крови; он убит двумя ударами кинжала. Их крики привлекают всех женщин сераля. Меня расспрашивают о разыгравшейся трагедии. Я рассказываю не столько о том, что видела, сколько о том, что донеслось до моего слуха; суть происшедшего я понимала не лучше других, и слезы мои свидетельствовали одинаково и о моем испуге, и о неведении.
Не могло быть никакого сомнения, что губернатор погиб от руки сына. Такая уверенность, подкрепленная бегством молодого турка, повлекла за собою весьма странные последствия. Женщины из сераля и рабыни, вообразив, что теперь над ними нет господина, решили завладеть всем, что представлялось им особенно ценным, и под покровом ночи бежать из своей темницы. Все двери были распахнуты настежь; поэтому и я решила скрыться, тем более что никому и в голову не приходило меня утешать и удерживать. Я хотела пойти к отцу, жившему поблизости от сераля, и думала, что легко найду дорогу. Но не прошла я в потемках и двадцати шагов, как мне почудилось, будто около меня мелькнул сын губернатора, однако я удостоверилась в этом лишь после того как решилась окликнуть его. Он сказал, что он в ужасе от совершенного им чудовищного преступления и что, прежде чем спастись бегством, он хочет узнать, действительно ли его отец умер. Я описала ему все, чему была свидетельницей. Скорбь его казалась искренней. Он вкратце поведал мне, что шел к отцу скорее со страхом, чем со злобой, чтобы объясниться с ним насчет меня, но отец, разгневанный его признанием, хотел его заколоть и что, защищаясь, он вынужден был пустить в ход свой кинжал. Он предложил мне бежать вместе с ним; но в то время как он настойчиво уговаривал меня, нас окружило несколько человек, узнавших его; они уже слышали о совершенном им преступлении и решили его задержать. Меня оставили на свободе. Я тайком пробралась к отцу, который встретил меня с великой радостью.
Не будучи замешан в этом прискорбном происшествии, он решил тотчас же собрать все, что ему удалось накопить за время пребывания в Патрасе, и вместе со мною покинуть город. Он не разъяснил мне своих намерений, а я по простодушию вполне доверялась ему. Мы уехали беспрепятственно; но едва оказались мы в море, он обратился ко мне со словами, которые очень огорчили меня.
— Ты молода, — сказал он, — и природа наделила тебя всем, что может вознести женщину на вершину благосостояния. Я везу тебя в такое место, где тебе легко будет пожать обильные плоды твоей привлекательности; но ты должна поклясться, что будешь строго следовать моим советам.
Он заставил меня дать ему эту клятву в таких выражениях, которые делали бы ее нерушимой. Мне было крайне противно связывать себя так, как он того требовал. Но, размышляя о приключениях, на кои он толкал меня, я начала понимать, что если вступлю в связь с мужчиной по собственному выбору, то могу извлечь из этого куда больше удовольствия. Сын патрасского губернатора, с которым у меня такая связь была, ничуть не волновал моего сердца, в то время как мне попадалось немало юношей, с которыми я не прочь была бы находиться в столь же близких отношениях. Однако родительская власть являлась ярмом, против коего я была бессильна, а потому я решила смириться. Мы прибыли в Константинополь. Первые месяцы пошли на то, чтобы привить мне манеры и дать познания, какие требуются от женщины в столице. Мне шел пятнадцатый год. Не делясь со мною своими планами, отец беспрестанно сулил мне блестящее будущее, которое, говорил он, превзойдет все мои чаяния. Однажды, возвращаясь из города, он не заметил, что следом за ним идут двое неизвестных, которые остановились только после того, как увидели, в какой именно дом он направился; затем они, собрав нескольких соседей, сами вошли в наш дом. Мы занимали там лишь небольшое помещение. Они так громко постучались в нашу дверь, что отец испугался и отослал меня в соседнюю комнату. Когда он отворил дверь, его сразу же схватил человек, которого отец, по-видимому, узнал, ибо у него вдруг пропал голос и некоторое время он не в силах был отвечать на брань, которую я явственно слышала. Отца называли мерзавцем, подлецом, кричали, что правосудие в конце концов доберется до него и воздаст ему должное за все его предательства и кражи. Он не пытался оправдываться и, понимая, что сопротивление невозможно, покорно дал увести себя к кади. Едва оправившись от испуга, я накрылась чадрой и поспешила вслед за людьми, задержавшими отца. Поскольку правосудие творится открыто, я стала свидетельницей обвинений, которые ему предъявляли неизвестные, и приговора, вынесенного сразу же после того как были выслушаны его показания. Отца обвиняли в том, что он соблазнил жену некоего греческого вельможи, у которого служил домоправителем, что он похитил эту женщину вместе с двухлетней дочкою, прижитой ею от мужа, и вдобавок украл наиболее ценные вещи хозяина. Не будучи в состоянии опровергнуть эти обвинения, отец лишь старался оправдаться, утверждая, будто все это совершил по настоянию дамы; призывая небо в свидетели, он клялся, что в краже повинна она одна, что он не извлек из этого ни малейшей выгоды, ибо сам был обворован столь жестоко, что впал в крайнюю нищету. На вопрос, что сталось с похищенными им женщиной и девочкой, он отвечал, что обе они умерли. Признания, которые ему пришлось сделать, показались судье достаточными, чтобы осудить его на смертную казнь. Как ни стыдно мне было, что я дочь столь преступного отца, я готова была дать волю своей скорби и разразиться слезами и воплями. Но отец попросил судью оказать ему милость, выслушав его несколько минут наедине, а то, что он сказал, по-видимому, смягчило судью; во всяком случае казнь была отложена. Отца отвели в темницу. Отсрочку казни, идущую вразрез с обычаями, люди стали толковать как доброе предзнаменование. Мне же, в моем горестном положении, оставалось только вернуться в наше жилище и ждать окончания этих прискорбных событий. Но, подходя к нашему дому, я увидела толпу и признаки какого-то смятения; не решаясь идти дальше, я спросила, что тут происходит. Вдобавок ко всему, чему я сама была свидетельницей, мне разъяснили, что в городе существует обычай, как только вынесен приговор, расхищать имущество осужденного, и вот уже люди, воспользовавшись этим обычаем, растаскивают наши вещи. Тревога моя достигла такой степени, что я, не имея сил скрыть, кто я такая, стала, трепеща, умолять какую-то турчанку сжалиться над несчастной дочкой грека, приговоренного к смертной казни. Она приподняла на мне чадру, чтобы взглянуть мне в лицо; горе мое, по-видимому, тронуло ее, и она, с согласия мужа, увела меня в свой дом. Оба они дорого взяли с меня за эту услугу. От ужаса, который владел мною, я значительно переоценивала их благодеяние. Я доверила им свою судьбу и, когда они обещали позаботиться обо мне, вообразила, что обязана им жизнью. Все же у меня, как и у окружающих, еще оставалась надежда, основанная на решении судьи отсрочить казнь. Но несколько дней спустя хозяева сказали мне, что приговор, вынесенный отцу, приведен в исполнение.
Произведения
Критика