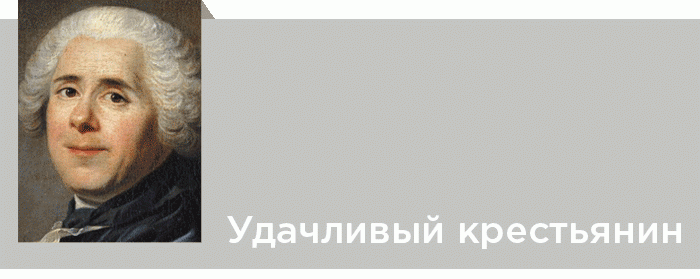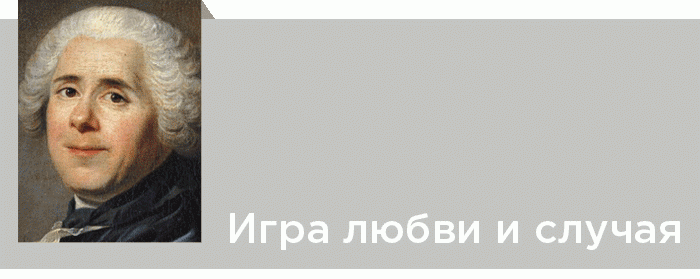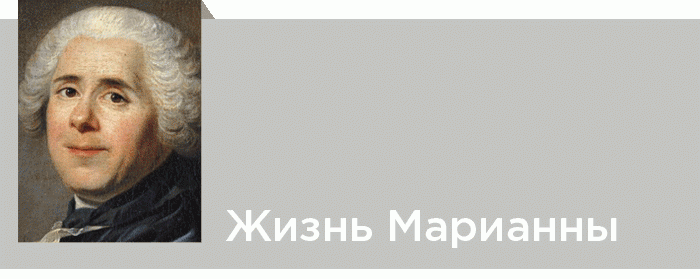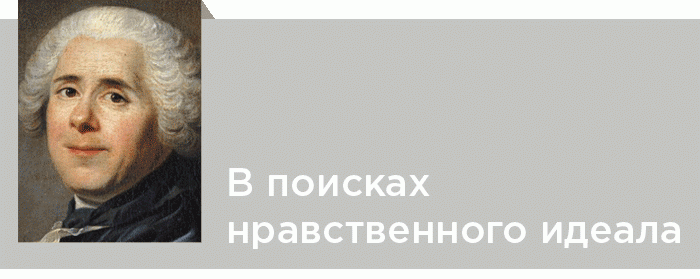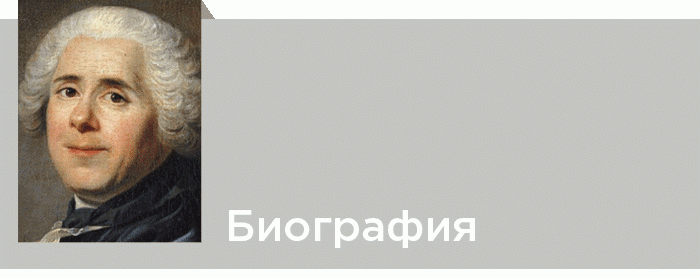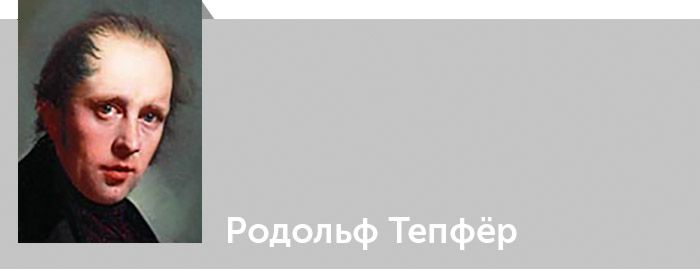Мариво и Кребийон в 1730-х годах. Спор о романе
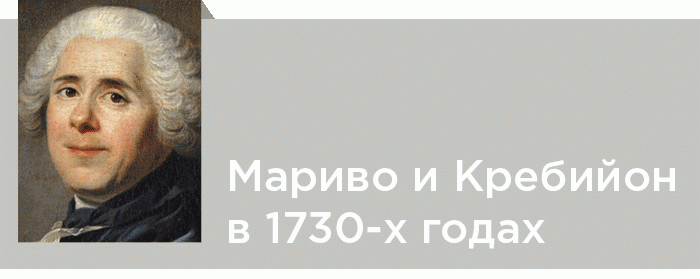
М.В. Разумовская
В
«Жизнь Марианны», говорится во вступлении к книге, — не «роман», а правдивое повествование. Это — не художественный вымысел, а подлинный документ. Издатель получил его от друга, который полгода назад купил загородный дом в нескольких лье от Ренна; дом этот за последние тридцать лет переходил из рук в руки пять или шесть раз. При его перестройке в стенном потайном шкафу было обнаружено несколько тетрадок, исписанных «женским почерком». Хозяин дома с друзьями, сведущими людьми, прочел найденную рукопись и решил ее напечатать, изменив только имена тех, о ком в ней говорится и кого, по-видимому, уже нет в живых: дата в конце повествования показывает, что эти строки писались сорок лет назад. Это — история женщины, которая сама рассказывает свою жизнь, обращаясь к одной из подруг, чье имя остается неизвестным. Мариво всячески настаивает на том, что он не является создателем книги и что ему принадлежат лишь «двадцать строк» вступления. Недоверие читателя должны рассеять и мелкие подробности, которыми изобилует это краткое предисловие (точное местоположение купленного дома, количество друзей, дата в конце).
Поскольку перед нами — не плод фантазии, а правдивое изображение реально происходивших событий, то и по форме публикуемое произведение очень отлично от того, что принято называть «романами»: здесь мало необыкновенных приключений, зато много рассуждений героини по поводу различных событий ее жизни. Графиня, видимо, любила пофилософствовать, да и ее неизвестная подруга, наверное, тоже была склонна к размышлениям. Графиня де*** пишет так, как хочет, она не знает, что такое стиль. Но ей это и не нужно, ведь она пишет не книгу, а в письмах к подруге можно позволить себе отвлечься и «немного поболтать». Она воображает, что беседует с любимой подругой, все, что тут написано, следует воспринимать как разговор. Свою склонность к размышлениям графиня расценивает как слабость и, словно извиняясь за это, много раз делает попытки оправдать такие отступления от темы рассказа: она «неисправима» в своем желании порассуждать; это происходит с нею неожиданно; все ее рассуждения к месту и нужны, только они почему-то получаются более длинными, чем ей хотелось бы; но ведь она следует своему настроению; она надеется, что ее подруга, которой известен этот недостаток, простит ей эту слабость. Графиня постоянно обращается к своей подруге, то желая узнать, интересно ли ей читать эти письма, то спрашивая ее мнение по поводу услышанного, то извиняясь, что запоздала с письмом или радуясь, что послала его в срок, то обещая скорое продолжение своего рассказа, — и совершенно напрасно: роман остался незаконченным. Все эти кокетливые признания графини — лишь внешнее объяснение авторских отступлений, которыми изобилует «Жизнь Марианны». Мариво только нащупывает форму нового романа, и частые отклонения от темы помогают ему полнее объяснить свои взгляды. Оправдываясь от упреков по поводу частых отвлечений от нити повествования, Мариво, в предисловии ко второй книге «Жизни Марианны», писал: «Если бы читателям предложили книгу под названием „Размышления о человеке”, разве не прочли бы они ее с удовольствием, если бы эти размышления были хороши? <...> Почему же размышления не нравятся в этой книге? Разве только потому, что они — размышления? Нам могут возразить, что они неуместны при описании подобных приключений: читателя нужно развлекать, а не заставлять думать. Читатель прав, и критика его справедлива, если он видит в „Жизни Марианны” роман <...> Но Марианна и не думала писать роман <...> Это совсем не автор, это женщина, которая размышляет. Она многое испытала, многое видела, ее жизнь — это цель приключений, которые дали ей некоторое знание человеческого сердца и характера <...> Она бессознательно перемешивает рассказываемые факты с размышлениями о них. Это ее тон. Это, если вам угодно, не манера романа и не манера истории. Это ее собственная манера, и не требуйте от нее другой. Вообразите, что она не пишет, а говорит». В начале шестой части романа снова дается ответ на критику. Называя себя «болтуньей», Марианна тут же сообщает, что она придает своим рассуждениям большое значение и будет очень польщена, если они понравятся.
Все эти оправдания объяснялись тем, что современная критика достаточно сдержанно отнеслась к новаторству Мариво. «Новое произведение г. Мариво под названием „Жизнь Марианны” не пользуется успехом, — отмечал обозреватель журнала „Нувель де Пари”. — Нельзя наслаждаться ни его стилем, ни его размышлениями». Более доброжелательный аббат Дефонтен писал в одном из своих журналов, что Марианна «очень умна, но чрезмерно болтлива, она говорит языком слишком аффектированным и слишком новым». Тот же Дефонтен в
Споры о стиле Мариво проникли и на страницы романов. Еще в VII книге «Жиль Бласа» (1724) в рассуждениях главного героя и Фабрисио о выражениях «слишком изысканных» и словах, «никем не употребляемых», можно усмотреть намеки на стиль ранних писаний Мариво. А маркиз д’Аржан, видя в Мариво главу новаторов, писателя умного и наблюдательного, не одобряет свойственный ему малоестественный «дух прециозности»: Мариво не может решиться сказать простые вещи просто. Мысль его облекается в длинные фразы, которые бесконечно вьются и перевиваются. Аффектированный стиль, изысканные выражения одобрить трудно.
Однако наиболее решительным оппонентом Мариво оказался в 1730-х годах Клод-Проспер-Жолио де Кребийон младший. В
Наследник престола Танзаи и его юная жена Неадарне по дороге на волшебный остров встречают в лесу необыкновенно красивого крота, который заговаривает с ними. Это заколдованная злой волей прекрасная фея Мусташ. Фея кротко просит выслушать ее печальную, но не очень короткую историю. «Конечно, это самое лучшее, что нам сейчас остается», — отвечает ничего не подозревающий Танзаи: ведь ему и Неадарне тоже предстоит избавиться от власти злого волшебства. Однако скоро ему приходится раскаяться в своем поспешном согласии. Рассказ феи чрезвычайно подробен и постоянно прерывается долгими отступлениями. Фея начинает свою историю с тайного брака своей матери, а затем подробно повествует о том, сколь очаровательной она была, когда ей минуло четыре года. «Не можете ли вы начать с более позднего возраста, когда ваша прелесть могла чему-либо послужить?» — перебивает ее здравомыслящий Танзаи. «Охотно», — кротко соглашается фея, но скоро прерывает повествование долгим рассуждением о воспитании и добродетели. «Рассказывайте суть дела, — сердится нетерпеливый принц. — Да пусть я умру, если я понял хотя бы один слог ваших размышлений». И далее: «А на каком языке вы говорите? Вы меня очень обяжете, если будете говорить на моем». Фея Мусташ, не смущаясь, отвечает на это, что она говорит на языке ее родного острова Бабиоль. В этом языке нет злобного здравого смысла, все его очарование достигается необычайной элегантностью речи; обилие удачно подобранных выражений делает понимание здравого смысла недоступным даже для самых абсурдных его сторонников. «Где я остановилась?» — часто переспрашивает фея, а когда ей напоминают, снисходительно поясняет: «Нет-нет, это были всего лишь размышления». Фея ничего не может поделать со своей привычкой, она подробнейше анализирует свои и чужие поступки.
Танзаи приходит в ужас: рассуждения феи длинны, неинтересны и совсем не к месту, они только портят ее повесть. Фея три часа выматывает из слушателей душу историей, которую можно было бы рассказать за несколько минут. Приятный рассказ, с точки зрения принца, требует наивности повествования, попутные рассуждения должны быть краткими и касаться только сути дела. Отклонения придают повествованию лишь внешний блеск и лишают его естественности. Жаргон феи кажется Танзаи мрачным и тягучим, он ни о чем не дает правильного представления. Мысли феи однообразны, она повторяет одно и то же много раз, только в разных выражениях. Это придает ее речам странность, но не новизну. «Для чего мне, желающему узнать вашу историю, все эти бесконечные размышления по поводу ваших приключений? — возмущается Танзаи. — Главное, милый Крот, факты, а не пустословие». «Возможно, вы и правы, — вежливо возражает фея Мусташ, — но суть дела не следует рассматривать как чепуху».
Однако, осуждая фею Мусташ, Танзаи оказывается в одиночестве. Его подруге чрезвычайно нравятся манера и рассказ феи. Она слушает ее с удовольствием, она и сама хотела бы научиться этому очаровательному языку. По словам Неадарне, нет ничего более прекрасного, чем говорить два часа о том, о чем другие говорят лишь минуту, повторения не страшны сами по себе, надо лишь уметь облечь их в новые выражения. Язык феи прелестен, не обязательно же пользоваться одними привычными сочетаниями, разве нельзя придумывать изысканные, еще никому не ведомые слова? Удивление, которое они вызывают, прекрасно, и только предрассудок мешает нам их правильно, оценить. Танзаи остается только удивляться тому, как быстро Неадарне заразилась дурным вкусом. Пусть уж лучше фея закончит свою историю. «Да-да, — с радостью соглашается Неадарне. — И не забудьте с точностью рассказать, что вы сделали, что вы при этом подумали и что собирались подумать».
Как видим, молодой Кребийон младший не принял творческой манеры Мариво. Однако, зло насмехаясь над стилем «Жизни Марианны», он был близок к ее автору в понимании предназначения и основного содержания нового романа. «Танзаи и Неадарне» — не первое произведение Кребийона, появившееся в печати. В
Как сказано в предисловии к «Письмам маркизы де М***’ к графу де Р***», перед нами — подлинный документ. Подруга покойной маркизы, обнаружившая ее письма, считает, что они могут заинтересовать читателя. Правда, по разным причинам, она публикует только их малую часть (семьдесят писем из пятисот с лишним), в них нет правильности стиля и они не могут похвалиться строгой добродетелью, но маркиза любила, и все, что с нею произошло, — лишь следствие этого несчастья. «Письма маркизы» — роман монодический. Героиня рассказывает историю своей любви, все происходящее увидено ее глазами и изображено достаточно фрагментарно, поскольку она — во власти страсти. Таким образом, может показаться, что перед нами лишь часть истории. Однако в этом непрерывном монологе героини постоянно ощущается отсутствующий собеседник, по существу, это диалог. В отличие от монодических «Португальских писем» Гийерага, одного из предшественников Кребийона, читатель писем маркизы может догадываться по ним об ответах графа и таким путем конструировать целое, зная его часть. В романе нет ни одного письма графа, но читатель видит, что это — опытный соблазнитель, блестящий и тщеславный, по существу, лишенный подлинного чувства (в дальнейшем автор даст более глубокое и полное изображение подобного героя: граф де Версак в «Заблуждениях сердца и ума», Мазульхии в «Софе», лорд Честер в «Счастливых сиротах», Алкивиад в «Афинских письмах»). Но маркиза любит графа, любовь порождает в ней противоречивые чувства, поэтому образ графа окружен некоторой таинственностью. Да и сама маркиза-рассказчица не вполне откровенна. Ее письма — не искренняя исповедь, героиня пишет не с целью открыть свое сердце, некоторые из своих переживаний она хотела бы утаить. И это — не хитрость, а психологическая неизбежность. Анализируя рождающуюся страсть, Кребийон (так же как Мариво и аббат Прево) показывает, что она бессознательна: сердце не в силах постигнуть само себя. В «Письмах маркизы» Кребийон впервые в своем творчестве показал столкновение подлинной фатальной любви с порожденной тщеславием и бездушием любовью эфемерной, которую он называл «капризом», «склонностью». Сердце маркизы «без конца думает», стиль ее писем — это стиль сердца. Оправдываясь в предисловии перед теми, кто жаждет прочесть в романе о необыкновенных событиях, автор замечает, что анализ чувства неизбежно связан с известной монотонностью. Чувства неясны, скрыты, их надо изучать долго и тщательно. Таким образом, как и Мариво, и в те же самые годы, Кребийон настаивает на том, что содержанием нового романа должен стать внимательный анализ внутреннего мира человека.
Следующее произведение Кребийона — «Танзаи и Неадарне» — это, по форме, восточный роман. Восточная тема оказала огромное влияние на развитие общественной, философской и эстетической мысли XVIII в., способствовала борьбе с отживающими догмами и авторитетами. Ориенталистика давала литературе новые темы: изображая «дикарей», жителей Востока в виде «естественных» людей, меняя этнические черты героя, отказываясь от фантастики и используя реальный восточный материал, писатели могли, не опасаясь цензуры, ставить и обсуждать вопрос о недостатках общественного устройства, а также центральную для эпохи Просвещения философскую проблему природы человека. Восток Кребийона совершенно условный. Восточная тематика была для него удачной возможностью, не опасаясь цензурного вмешательства, сатирически изображать события политической и религиозной жизни эпохи Регентства, нравы французского светского общества (за что он и заплатил пребыванием в Венсенском замке), ставить и разрешать проблемы психологии и морали.
Автор назвал «Танзаи и Неадарне» «японской историей», напечатанной в Пекине со старинной китайской рукописи. Как пишет Анри Кордье, «и десять строк этого произведения заставили бы содрогнуться синолога». Роману предшествует обширное предисловие, доказывающее подлинность публикуемого документа: это — драгоценное произведение китайской античности, чрезвычайно почитаемое на родине и даже приписываемое Конфуцию; но в действительности книга написана не Конфуцием, a Kilohoéé, автором многих исторических, политических и моральных сочинений, жившим за десять веков до Конфуция. Для полноты доказательства этого тезиса Кребийон ссылается на неизвестного филолога XIV в., знатока японской литературы. Как же этот шедевр попал во Францию? Сто лет назад один образованный голландец находился по делам в Нанкине. Желая усовершенствоваться в китайском языке, он решил перевести какую-нибудь книгу. В руки ему попалось именно это сочинение. Восхищенный им, он проработал три года, но все же, как сам признавался, перевод получился очень несовершенным. В Европе он передал свой труд Жану-Гаспару Кроковиусу Путридусу, знаменитому ученому из Лейпцига, прославленному победителю в научной дискуссии с Эммануэлем Моргатусом на тему о том, какого пола собаки составляли свору целомудренной Дианы. Ученый перевел рукопись на латынь, снабдил комментарием и готовился издать ее в свет (в трех томах), как неожиданно умер. Его наследники, тоже ученые мужи, увеличили комментарий и начали печатать книгу в Нюрнберге, когда всех их, к несчастью, унесла чума. Дети их, менее преданные науке, продали рукопись и тираж знатному венецианцу Annibal Julio Scipione Buz-è-via de gli Tafanari, который с помощью словаря перевел ее на трудное для иностранца венецианское наречие. С этой рукописи и был сделан перевод, что тоже нелегко, ибо переводчик изучал итальянский язык всего два месяца.
Столь подробное предисловие, как будто бы служившее доказательством подлинности печатаемого произведения, в действительности было издевательской пародией на такого рода доказательства. Как видим, Кребийон не считал необходимым обманывать читателя, выдавая собственное произведение за подлинный документ, и, таким образом, одним из первых открыто признал независимость и оригинальность нового романа.
Начиная с
Благодаря многочисленным философским отступлениям — размышлениям пожилой графини и стареющего Жакоба о событиях их юности — Мариво создает новую разновидность романа — роман-исповедь, который будет столь любим во второй половине века. Немолодой уже человек с большим жизненным опытом рассказывает о себе, юном и неопытном, познающем жизнь. Это — одно из открытий Мариво, то, что теперь называют структурой двойного регистра. Героиня Мариво, так внимательная к самой себе и к окружающим, вспоминает свой жизненный путь. Эти воспоминания, вкупе с пояснениями, размышлениями, выводами, которые автор шутливо называет «болтовней», дают возможность воспроизвести процесс формирования ее характера. Точно так же построен и второй роман Мариво. Характеры главных героев не заданы заранее, они постоянно развиваются под влиянием среды, природы, требований сердца и разума. Таким образом, формирование личности тем более убедительно, что оно совершается на глазах у читателя и тут же оценивается самим героем, но уже умудренным жизненным опытом. Многословные размышления графини — не ее личная слабость; введение их в роман — творческая находка Мариво, который полагал, что всякая подробность, правильно понятая, способствует более полному объяснению человеческой природы.
Стилистика Мариво, по-видимому, оказала влияние на манеру Кребийона. Прием «двойного регистра» был известен и ему. Мелькур, герой «Заблуждений сердца и ума», тоже вспоминает свое прошлое, пытается судить себя и одновременно постичь те душевные движения, которые он испытал, когда был молод и едва переступил порог света. Он вспоминает, как замечал в себе тогда нечто неожиданное, пытался с позиций разума осмыслить свое состояние, научиться подчинять себе чувства. Наивный Мелькур не понимал того, что хотели внушить ему опытная кокетка г-жа де Люрсе или «опасный» соблазнитель граф де Версак; ему еще был неведом светский код. Все это будет хорошо понятно Мелькуру зрелому, успевшему пройти жизненную школу.
Однако отношение двух авторов к своим героям различно. Мариво (так же, как и аббат Прево) отдает героям всю симпатию своего сердца, он живет вместе с ними, он неотделим от своих выдуманных персонажей. Не то Кребийон. Он смотрит на своих героев взглядом холодным и беспристрастным, он судит о них рационалистически, четко отделяя позицию автора от воззрений персонажей. В романах Кребийона-сына нет теплоты исповеди, душевного согласия автора и героя. Поэтому повествование Кребийона куда более монотонно, чем живой, персонифицированный рассказ Мариво.
Кребийон и Мариво одинаково понимали миссию романиста: роман должен приносить пользу, а не развлекать, это серьезный литературный жанр, он призван отражать правду жизни, рисовать человека таким, каков он есть. Но их разделяло нечто большее, чем разногласия в понимании стиля, о которых говорилось выше. У них были принципиально различные философские воззрения. И прежде всего это было принципиально иное понимание природы человека.
Мариво не сразу пришел к романам, прославившим его имя. Работа в качестве комедиографа и журналиста, а также раннее романическое творчество дали развиться его особому таланту наблюдателя. Тщательное изучение фактов, интерес и сострадание к маленькому человеку, жертве социальной несправедливости, приводили писателя к выводу, что реальное событие может стать предметом философского размышления, а сочувствие и жалость — ключом к пониманию человеческой природы. Желая понять первоначальную природу людей, писатели эпохи Просвещения приходили к апологии чувства и инстинкта, которые неподвластны предрассудкам. Апелляция к чувству определила демократизм творчества Мариво, что проявилось в признании ценности простого человека, в утверждении принципа, что люди равны и свободны, а их достоинства определяются не высоким происхождением и не богатством, а чувствительной и доброй натурой. Главных героев его романов словно обошло влияние цивилизации. Найденыш Марианна, потерявшая родителей и не знающая своего происхождения, лишена социальных связей, сословной принадлежности, она — «естественный человек». Крестьянин Жакоб, случайно попавший из деревни в Париж, тоже «естественный человек», его натура не непорчена, он не знает развращающего влияния города.
Мариво поставил своей задачей более широкий охват жизни, чем это было принято прежде, и явился в этом отношении одним из создателей нового типа романа — демократического, реально-психологического. Здесь он опирался на долгую традицию великих предшественников, начиная с мадам де Лафайет и кончая Лесажем. В романах Мариво даны удивительные по точности и подробности картины парижского быта XVIII в. Автор «Жизни Марианны» и «Удачливого крестьянина» смело сделал главными героями своих психологических повествований представителей третьего сословия. О необходимости подобной демократизации нового романа прямо и подробно говорится в многочисленных авторских отступлениях. Поистине, герои Мариво — типы социальные: их характер, судьба, взаимоотношения диктуются не только темпераментом и движениями души, но и их местом в обществе (так, например, Вальвиль изменяет Марианне не только потому, что убежден в ее любви к нему, а и потому, что боится насмешек света из-за брака с найденышем, а прекрасную Тервир, героиню того же произведения, погубили именно имущественные отношения). Персонажи его поздних романов вызывают к себе доверие читателя не -потому, что обладают блестящим историческим именем, а вследствие своей полной жизненной реальности. Главным для Мариво становится не описание приключений и даже не описание быта и нравов, а анализ душевной жизни, законов, которые управляют страстями, скрытых пружин человеческих поступков. Это новшество нарушало привычные нормы: романы Мариво явились первыми реально-психологическими романами не только во Франции, но и в Европе. Только в начале 1740-х годов появятся реально-психологические романы Ричардсона и Филдинга, которые сразу же приобретут популярность во Франции (первый перевод «Памелы», иногда приписываемый аббату Прево, появился уже в
Но если с позиций морали Кребийон резко разграничивал «любовь-страсть» и «любовь-склонность», то как психолог-материалист он их уравнивал: в основе и той, и другой, по Кребийону, лежат физиологические законы; волнение чувств, подчиняющее и душу, и разум, не зависит от воли человека. Такие выводы из его философии могут быть подтверждены судьбой маркизы де Люрсе. Увлечь юного Мелькура было для нее сначала только игрой, льстящей честолюбию. Но постепенно она теряет контроль над собой, подлинное чувство увлекает ее. Из ветреной кокетки она превращается в смиренную робкую возлюбленную, полную тревоги и сомнений.
Автор «Жизни Марианны», по-видимому, тоже разграничивал «любовь-страсть» и «любовь-склонность». Конечно, героям Мариво, благородным и возвышенным, свойственны главным образом высокие и чистые чувства. Но в его романах есть эпизоды, рисующие и «любовь-склонность». Один из таких эпизодов — сцена любовного свидания мадам де Ферваль и шевалье, свидетелем чего становится спрятавшийся в каморке Жакоб. Есть такая любовь, — размышляет по этому поводу Жакоб, — в которой сердце не принимает участия. Такая любовь чаще встречается в жизни, и природа, по сути, проявляется именно в ней, а не в наших деликатных чувствах. Именно природа делает нас влюбленными. Да и самому Жакобу ведомо это чувство: нечто похожее он испытывает к мадам де Ла Фекур и к мадам де Ферваль. А чистосердечный Вальвпль, возлюбленный Марианны, так же как и Мелькур, может сочетать в душе две противоположные крайности — возвышенную «любовь-страсть» и стремление к новизне впечатлений, легкомыслие, способность увлекаться, что приводит его к измене любимой. В свое время это принесло Марианне много страданий, но впоследствии она будет вспоминать все это с улыбкой. Мариво не разделял пессимистического взгляда и тревог Кребийона по поводу противоречивости человеческой природы, он верил в торжество доброго начала и полагал возможным сочетать жизнь в обществе со следованием мудрым и справедливым естественным законам.
Однако и Кребийон допускал, что подлинное счастье может заключаться в добродетели; ничто не может сравниться с чистым удовлетворением, испытываемым человеком, которому не в чем себя упрекнуть. Но это — идеальное состояние, на деле же самая суровая добродетель не может быть уверена в своем конечном торжестве.
Добродетель как категория моральная связывается Кребийоном с социальными условиями. В его романах говорится о взаимоотношениях человека и среды. Не природа создала героев его романов бесчувственными, злобными, жестокими, — это вина общества. Опытный опасный соблазнитель граф де Версак из дружеских побуждений открывает юному Мелькуру глаза на законы светской жизни. Доверчивость и невинность Мелькура — вредный предрассудок, который способен надолго задержать его умственное созревание. Можно презирать эту светскую мудрость, но ее надо изучать и следовать ее правилам неукоснительнее, чем законам более возвышенным, ибо, к стыду этого общества, здесь скорее простятся преступления против чести и разума, чем нарушение светских приличий. Ошибается тот, кто думает, что можно сохранить, вращаясь в свете, ту душевную чистоту, с какой мы в него вступили, и оставаться доброжелательным и правдивым, не рискуя погубить свою репутацию. Ум и сердце неизбежно должны пострадать в обществе, где господствуют мода и притворство. Талант, добродетель и другие достоинства оцениваются тут совершенно произвольно, здесь можно достичь успеха, только постоянно принуждая себя. Здесь царит притворство, а лучшие качества людей подвергаются гонению или осмеянию. Плыть против течения значит погибнуть, надо покориться стихии. «Я отрекся от себя во имя ложного блеска, — горестно признается Версак. Я усвоил порочные привычки, без которых нельзя нравиться <...> Я рожден совсем не таким, каким кажусь; мне стоило огромного труда извратить мой природный характер. Иногда я сам краснел за свое вызывающее поведение; я злословил со стыдом, я был уже фатом <...> но фатом без размаха <...> На первых порах я был очень и очень далек от того совершенства, которого я достиг впоследствии». Те же мысли позднее выскажет с тоской и другой опасный соблазнитель — лорд Честер.
Кребийон открыто противостоял чувствительности в литературе. Он смеялся над автором «Жизни Марианны», но в этой насмешке скрыта тоска по счастливой страсти, в которой органически сочетались бы природные влечения, движения сердца, построения разума. Он обвинял Мариво в том, что; тот обольщает человека мнимым существованием моральной щепетильности и ответственности, которых, по его мнению, нет перед лицом природных влечений.
В этом знаменательном споре середины 1730-х годов по проблемам романа Мариво утверждал свой этический принцип: доверие к человеческой природе, возможность познать ее мудрые требования и необходимость следовать нм для достижения счастья.
Что же касается Кребийона, то хотя в прежней истории литературы за ним и утвердилась слава создателя преимущественно гривуазных произведений, он, как замечает Анри Куле, писал «romans des libertins», а не «romans libertins». Вся его жизнь была связана с морально деградирующим аристократическим обществом. Кребийон наблюдал и описывал нравы высшего сословия, к образу жизни которого он относился крайне отрицательно. Он рисовал светского человека таким, каким он его видел. Но эта откровенная враждебность не только обусловила сатирическую направленность его романов, она же предопределила его критическое отношение к нравственным возможностям человека. Ограниченность круга зрения наложила отпечаток на всю его философию. Взирая на мир глазами фен Мусташ, он не смог положительно ответить на вопрос о доброте человеческой природы, о возможности управлять этой природой при помощи нравственных законов; он сомневался даже в существовании этих последних, что, несомненно, и обусловило горечь его философских концепций.
Л-ра: Разумовская М.В. Становление нового романа во Франции и запрет на роман 1730-х годов. – Ленинград, 1981. – С. 99-124.
Произведения
- Жизнь Марианны, или Приключения графини де ***
- Игра любви и случая
- Удачливый крестьянин, или Мемуары г-на ***
Критика