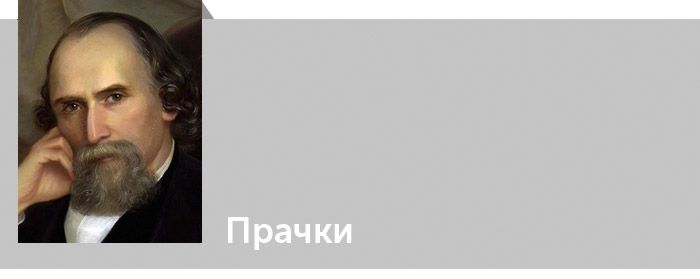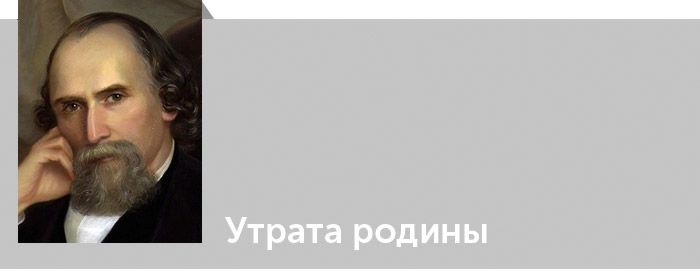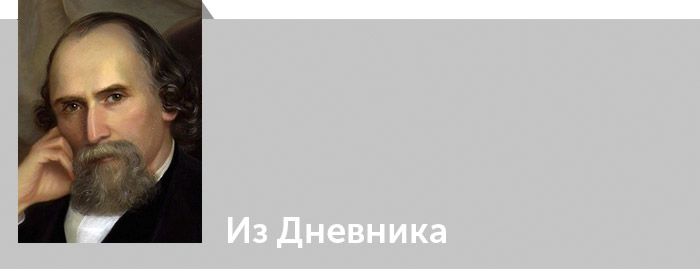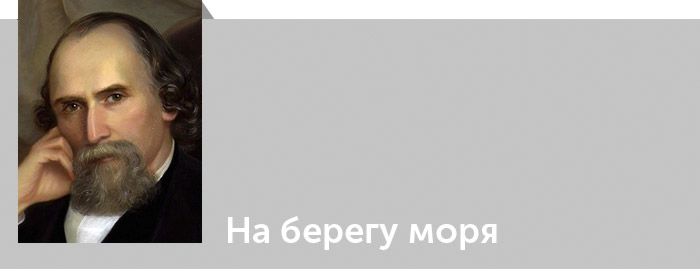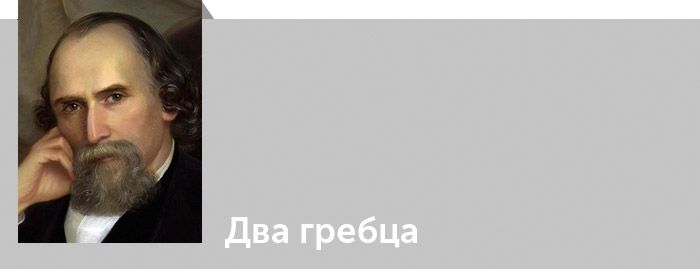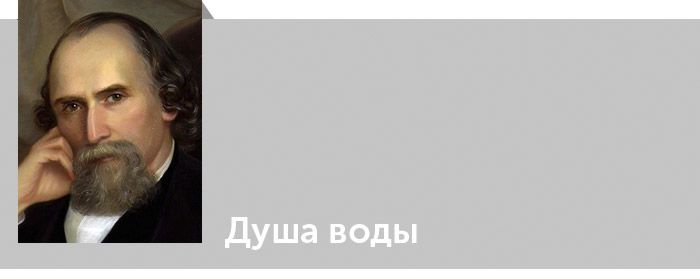Анри Фредерик Амьель. История швейцарской литературы. Том 2. Глава 9
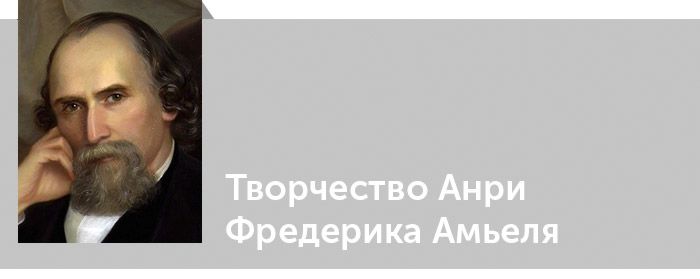
Романдская литература второй половины XIX века. Творчество Анри Фредерика Амьеля
Для литературы франкоязычных кантонов вторая половина XIX в. — время самоосмысления, движения к осознанию единства романдской и — шире — швейцарской литературы. Развитие шло под воздействием нескольких разнонаправленных тенденций: региональной разобщенности и стремления к культурному посредничеству, интереса к современности и проповеди патриархальности, изображения сельской жизни в горах как олицетворения нравственных ценностей, а напряженной городской интеллектуальной жизни как пагубной для человека. Отсутствие крупных писателей, “учёность” литераторов (ведущие поэты и прозаики XIX в., такие, как Родольф Тёпфер, Жюст Оливье, Анри Фредерик Амьель, Марк Моннье, Эжен Рамбер, Виктор Шербюлье, Эдуард Род, Филипп Годе, Виржиль Россель, были университетскими преподавателями, критиками) привели к тому, что литературоведение стало играть роль стержня, скрепляющего культуру. Именно в этот период появляются и очерки современной романдской литературы, и обобщающие её истории, показывающие панораму культурной жизни за несколько веков, рассматривающие не только поэзию, прозу, драматургию, но и проповеди, эссе, очерки, богословские, исторические, философские сочинения. Более того, учёная и учительская кальвинистская литература оттесняла на второй план художественные произведения.
В первых исследованиях, трудах Андре Сайу “Французские писатели Реформации” (1841), “История французской литературы за рубежом” (т. 1-4,1853-1861) романдская литература анализировалась в общем контексте протестантской франкоязычной культуры. Молодой А. Ф. Амьель в конкурсной работе, представленной им на соискание должности профессора эстетики Женевской Академии, “О литературном движении в романдской Швейцарии и его будущем” (1849), отстаивал право на существование самостоятельной, “не парижской” литературы. Специфику ее он старался определить, исходя из истории и, главное, духа народа, который, подобно характеру писателя, определяет особенности литературных творений. Амьель противопоставлял дух кантона Во Женеве и Невшателю как женское начало — мужскому, поэзию — логике, плодовитость — самоограничению, неопределенность — точности, поиск — ответу, немецкий склад ума — французскому.
Разумеется, эти оппозиции достаточно универсальны и их скорее надо рассматривать как два полюса притяжения, воздействие которых можно увидеть и в культуре Швейцарии этого периода, испытывающей мощное воздействие немецкой философии и французской словесности, и в характере самого Амьеля, жителя Женевы, писавшего по-французски и рассуждавшего на немецкий манер. Но между кантонами действительно царил дух соперничества, писатели прославляли свою “малую родину”: Урбен Оливье, госпожа Гаспарен — кантон Во, Пьер Сиобере — Фрибург, Огюст Башлен, Фриц Берту — Невшатель. При всем различии творческих манер у них немало общего — в первую очередь в тематике книг, их моральном пафосе.
Наиболее показательная фигура — писатель-крестьянин Урбен Оливье (Oliver, Urbain 1810-1888), младший брат известного поэта Жюста Оливье, автора “Истории кантона Во” (1837), романа “Люз Леонар, или Два обещания, трагическая идиллия” (1856). Урбен начал писать поздно, только в середине 1850-х годов, но исправно выпускал по нескольку книг в год, которые расходились весьма приличными для Швейцарии тиражами — по 10-12 тысяч: сборники “Охотничьи рассказы” (1857), “Зима” (1860), повести “Сирота” (1856), “Дочь лесника” (1865), “Жан Ларош, или Господин и крестьянин” (1870), “Розетта, или Сельский танец” (1873), “Единственный сын” (1876), “Приход Аво” (1877), “Парень на выдачу” (1836) и др. 35 томов нравоучительных историй написаны о крестьянах и для крестьян (не романами называет их автор, а сельскими новеллами, народными рассказами), они проповедуют здоровые народные начала: трудолюбие, доброе поведение, честность. Они изложены простым, понятным языком, расцвеченным библеизмами, как это свойственно протестантской традиции. Как писал еще Ф. Годе1, во всех произведениях Урбена Оливье варьируется один и тот же сюжет: юноша-сирота или бедная честная девушка упорной работой и набожностью заслуживают всеобщее уважение, приносящее им хорошее место. Добродетель вознаграждается, пороки, пьянство, лень наказываются; дорога к храму ведет к процветанию, а в кабак — к разорению.
“Региональные” писатели во многом следуют традиции сельского педагогического романа И. Г. Песталоцци “Лингард и Гертруда” (1781-1783) — в выборе и обрисовке персонажей, в разрешении конфликта, в защите буржуазных ценностей, следование которым рисуется не только как единственно правильное, но и естественное поведение.
Деревенскую идиллию описывает Фриц Берту (Berthoud, Fritz 1812-1890), финансист, живший по большей части в Париже (три тома новелл и очерков “На горе”, 1865). В отличие от него другой невшательский писатель, Огюст Башлен (Bachelin, Auguste 1830-1890) в реалистическом романе “Жан-Луи” (1882) показывает превращение пасторали в драму: сын мирового суды решил же-ниться против воли родителей на бедной белошвейке; его любовь борется с гордыней матери, не согласной на неравный брак, проклинающей невестку. Но в “старое доброе время” (действие происходит в 1846-1848 гг.) все должно кончиться хорошо: как пастор возвращает на путь истинный пьяниц, так отец-судья, смилостививившись, сочетает браком молодых. Перу Башлена принадлежит несколько исторических романов, в том числе о Французской революции; он известен также как художник-баталист, иллюстратор, искусствовед, основатель исторического музея в Невшателе.
Юмором, иронической манерой повествования смягчает традиционные описания пейзажей, патриархального быта Грюйера Пьер Сиобере (Sciobéret, Pierre 1830-1876). Его рассказы печатались в журнале “Ревю сюис”, с которым он активно сотрудничал, а после его смерти составили сборники “Сцены сельской жизни” (1882) и “Новые сцены сельской жизни” (1884). Юрист по профессии, Сиобере до 1857 г. преподавал право и философию в Фрибурге, а потом 8 лет жил на юге России, написал повесть “Абдалла Шлаттер, или Занимательные приключения швейцарца на Кавказе” (1870). Духом либерального протестантизма, христианского служения ближним, помощи обездоленным были проникнуты дела графини Валери де Гаспарен (в девичестве Буассье, de Gasparin, Valérie 1813-1894), основавшей училище сестер милосердия, много сил отдававшей деятельности Армии спасения, и ее книги, религиозные и художественные: “Ближние горизонты” (1857), “Небесные горизонты” (1859), “Людские беды” (1863), “В полях и лесах” (1887). Ф. Годе восхищался красотой ее слога, умением описывать горные пейзажи Юры, реалистически показывать жизнь крестьян, передавать своеобразие их языка, но современные исследователи, в частности А. Берхтольд2, выносят суровый приговор — г-жу де Гаспарен давно никто не читает.
История культуры писалась как история кантонов: “Женева и берега озера Леман” Родольфа Рея (1868), “Женева и ее поэты с XVI века по наши дни” Марка Моннье (1874). Блестящий критик и поэт Эжен Рамбер (Rambert, Eugène 1830-1886), воспевавший в стихах и прозаических сборниках “Швейцарские Альпы” (т. 1-5, 1854-1875) красоту родных гор, стремившийся продолжить традиции поэтов кантона Во первой половины века, передать дух, “гений местности”, сетовал на крайнюю разобщенность, расколотость интеллектуальной жизни страны. Он с горечью писал, что многие авторы известны только в своем крае, что кантоны становятся духовной тюрьмой. Но желая показать богатство национальной культуры, Рамбер в своих книгах “Национальные писатели” (1874), “Писатели романдской Швейцарии” (1889) группировал писателей именно по кантонам (его проницательный нелицеприятный анализ творчества современников вызвал бурю протестов и обид).
“Региональное” деление авторов отчасти сохранилось и в обобщающих исследованиях Филиппа Годе “Литературная история Швейцарии” (1889, 2-е изд. — 1895) и Виржиля Росселя “Литературная история романдской Швейцарии” (т. 1-2, 1889-1891), но в них уже говорилось о тенденциях к сближению, об осознании Швейцарией своей миссии — быть посредницей между культурами Европы. В. Россель естественно расширил круг исследований, продолжив труд А. Сайу в своей “Истории Швейцарской литературы за пределами Франции” (1895). Он первый в соавторстве с Анри Эрнестом Женни создал “Историю швейцарской литературы от истоков до наших дней” (1910), доказывая, что существует, несмотря на все различия, единая литература, в основе которой — единство политической, социальной и духовной жизни страны.
Романдские писатели ощущали себя в большей или меньшей степени и жителями своего кантона, и гражданами мира. Местный патриотизм сочетался с острым ощущением своей провинциальности, родная страна представала и как убежище, и как тюрьма. Швейцария веками предоставляла приют изгнанникам, в ней тысячами укрывались французские протестанты (видные политики и писатели, как Агриппа д’Обинье, и скромные ремесленники, как предки Амьеля). Она была и родиной великих скитальцев, граждан мира, таких как Жан-Жак Руссо, Бенжамен Констан, г-жа де Сталь, которая, убегая от Наполеона, добралась даже до России. Из Швейцарии, как из всей Европы, шел поток эмиграции в Америку (рассказы Р. Тёпфера “Путь за океан”, 1837, Э. Рода “Жена Бусатея”, 1891, стихотворение А. Ф. Амьеля “Швейцарские эмигранты”, 1854). Установка на традиционность, незыблемость жизненного уклада уничтожала понятие времени, прогресса, выключала литературных героев (и реальных людей) из хода истории — и тем важнее становилось для них движение в пространстве. В прозе и поэзии очень сильны мотивы путешествий, скитаний, горных походов, причем восхождение из долины на заснеженную вершину, спуск из горной деревушки в город нередко приобретают символическое значение (в первом случае речь идет о духовном совершенствовании, во втором — о нравственном падении). Характерным персонажем становится бедняк-посыльный, связывающий сельских жителей с горожанами, — его судьба складывается сказочно удачно в романтической повести Марка Моннье “Чародей” (1882) или буднично страшно и тяжело в суровой реалистической новелле Э. Рода “Большая Берта” (сб. “Романдские новеллы”, 1891). Патриархальная жизнь может оказаться не раем, а адом для людей, социально отверженных, будь то горбун, сирота, или крестьянин, женившийся на городской барышне (как в упоминавшихся выше новеллах Р. Тёпфера и Э. Рода), единственный выход для них — вынужденное бегство.
Склонность к путешествиям становится едва ли не необходимой чертой писателя, причем две поездки он должен совершить почти обязательно: на учёбу в Германию, послушать лекции выдающихся философов, историков, филологов, и в литературную Мекку — в Париж. Описание подобного “паломничества”, знакомства с Гюго, Виньи, Сент-Бёвом оставил Жюст Оливье в своем дневнике (“Париж в 1830 г.”, опубл. 1951). Во Франции, законодательнице моды, создавались литературные репутации, и именно там книга в первую очередь должна была иметь успех, чтобы стать популярной в Швейцарии. Соседство прославленных прозаиков и поэтов, романтиков, реалистов, натуралистов: Гюго, Бальзак, Жорж Санд, Виньи, Мюссе, Мериме, Флобер, Золя, Бодлер, Мопассан — делало романдскую литературу неконкурентоспособной. Писателям оставалось либо сосредотачиваться на “местном колорите”, либо искать расположения “мэтров” (как это неуклюже и безуспешно делал Амьель, посвятивший почти каждое стихотворение сборника “Ячменные зерна” кому-нибудь из великих), либо просто уехать во Францию и делать карьеру там (как Виктор Шербюлье и Эдуард Род).
Вернувшийся в родной город путешественник превращается в домоседа, едва ли не затворника, наблюдающего из окошка за чужой жизнью, пристально вглядывающегося в себя (в этом смысле показателен и символичен рассказ Р. Тёпфера “Два узника”). Поступки сменяются подсматриванием, оригинальное творчество — переводом, в процессе которого усваивается и адаптируется принципиально иной тип мышления. Амьель писал, что немецкий язык передает процесс рождения мысли, поиск, французский — ответ, результат. Именно в посредничестве видел назначение швейцарцев Э. Ренан, писавший в 1885 г., что Марк Моннье, как и другие романдцы, сохранил чисто французское, антинемецкое умение упрощать, чеканить из тяжелых бесформенных слитков звонкую золотую монету, годную повсеместно к обращению.
Подобная просветительская задача сближает литературу с преподаванием, с философией, богословием. Почти в тех же словах сформулировал на рубеже веков цель своих эстетических рассуждений французский романтик Жозеф Жубер: “Разменять мудрость. Начеканить из нее максимы и сентенции, простые для запоминания и пересказа” (“Дневники”, 17.11.1799). Писатель, тем более моралист (а романдские писатели этого времени весьма часто подчиняют книгу обоснованию определенного тезиса), играет роль посредника между искусством, философией и читателем, переводчик — между культурами, профессор — между наукой и студентами, проповедник — между Богом и верующими; он — толкователь учения.
В отличие от католической Франции, в Швейцарии XIX века вопросы религии, веры, на которых зиждились моральные устои страны, отнюдь не казались решенными. Для протестантской традиции характерен индивидуальный путь постижения Бога, без опоры на авторитет церкви. Как писал духовный наставник романдской Швейцарии Александр Вине (Vinet, Alexandre 1797-1847), богослов, философ, литературовед, пользовавшийся огромным авторитетом, всякий в душе своей смиренно, искренне открывает для себя истину. “В политике, религии, литературе протестантизм — это право отъединиться от общины Верующих, дабы увидеть, в чем и до какой степени можно присоединиться к ней”. По убеждению Вине, христианство должно стать средством не только интеллектуального, но и социального возрождения страны.
Обсуждение вопросов веры резко обострилось в середине века, когда усилилось движение либерального протестантизма, стремившегося поверить религию разумом, отрицавшего боговдохновенность Писания, чудо, сверхъестественное. Вождями его были Эрнест Навиль (Naville, Ernest 1816-1906) и Эдмон Шерер (1815-1889). Первый долгое время преподавал историю философии в Женевской Академии, но был вынужден уйти после либеральной революции 1846 г. (на его месте впоследствии работал Амьель). Циклы лекций Навиля “Вечная жизнь” (1861), “Отец небесный” (1865), “Долг или Проблема зла” (1868) пользовались огромной популярностью, становились событием в культурной жизни Женевы. Он впервые издал в 1857 г. “Дневники” французского философа Мена де Бирана, открыв широкой публике этого незаурядного, глубокого мыслителя. В своих работах Навиль стремился соединить достижения философской науки с богословской традицией: “Логика гипотезы” (1880), “Философия и религия” (1887), “Философии отрицания” (1890), “Философские системы, или философии утверждения” (1909).
Эдмон Шерер, профессор Вольной школы теологии в Женеве (1845-1850), от ортодоксального протестантизма эволюционировал к либеральному, написал биографию Александра Вине (1853)3, но затем отошел от богословия, стал известным литературоведом, влиятельным критиком. Переехав в Париж, он сделался депутатом Парламента (1871), сенатором (1875). Его капитальное исследование, посвященное жизни и творчеству просветителя Фридриха Мельхиора Гримма (1887), до сих пор не утратило своего значения. Но едва ли не самая известная его работа — блестящее предисловие к посмертному изданию “Отрывков из личного дневника” его друга Амьеля, которое он подготовил и выпустил в двух томах в 1882-1884 гг. совместно с Фанни Мерсье.
Анри Фредерик Амьель (Amiel, Henri-Frederic 1821-1881) считается самой значительной и интересной фигурой романдской литературы этого времени — именно благодаря дневнику, а не стихам и литературоведческим работам, опубликованным при жизни. Отбирая, редактируя, монтируя отрывки в логической и художественной последовательности (как бы иллюстрируя мысль Амьеля, что пейзаж — это состояние души, чередуются рассуждения и описания природы, по сходству или контрасту), Шерер создал Амьеля — как писателя и литературного персонажа.
Впоследствии были подготовлены расширенные, филологически более точные издания — Бернаром Бувье в 1923 г., Леоном Боппом в 1948-1959 гг., печатались целиком отдельные тома, пока наконец не была начата в 1976 г. публикация полного текста дневниковых записей, составляющих 16 900 страниц. Но действительно большой, не узко научный интерес вызвало самое первое издание, многократно перепечатывавшееся. Ему посвятили статьи, восторженные и критические, Поль Бурже, Эрнест Ренан, Шарль Дю Бос. Из крупных ученых, пожалуй, только Фердинанд Брюнетьер отнесся к дневникам Амьеля резко отрицательно. Появились многочисленные переводы: Лев Толстой сам отобрал наиболее важные с его точки зрения фрагменты, отредактировал перевод, сделанный его дочерью М. Л. Толстой, написал предисловие к книге (опубл. в 1894 г. 2-е изд. — 1905).
Фигура Амьеля оказалась как бы связующим звеном между романтическими героями (“Рене” Шатобриана, 1802, “Оберман” Сенанкура, 1804, “Адольф” Констана, 1805, оп. 1815), томимыми “болезнью века”: меланхолией, саморазъедающей рефлексией, эгоизмом, неприкаянностью, — и персонажами книг, в которых отразились пессимистические умонастроения конца столетия (романы Эдуарда Рода). Записки Амьеля стали наиболее ярким, классическим воплощением традиции личного, задушевного дневника, своей популярностью превратили его в литературный жанр, вызвали многочисленные подражания. Писатели стали сами, при жизни публиковать свои дневники, необычайно широко использовать эту форму в психологических романах. Поль Бурже и Эмиль Анрио писали даже о дневниковой заразе, охватившей французскую литературу на рубеже веков.
Славу “Дневнику” Амьеля принес в первую очередь контраст между обыденностью, скукой повседневной жизни автора и напряженностью, богатством жизни внутренней. “Дневник” практически доказал неисчерпаемость человеческой личности и вместе с тем — ограниченность попыток самопознания через самонаблюдение, притягательность и губительность постоянной фиксации мельчайших движений души. Индивидуальные черты Амьеля, эпизоды его биографии предстали как воплощение романдской протестантской культуры этого времени и, шире, как тип западного интеллигента, как идеальный образ автора дневника, живущего своим творением и принимающим смерть от него.
Анри Фредерик Амьель родился в 1821 г. в Женеве в семье часовщика и коммерсанта. Когда ему было 11 лет, умерла мать, два года спустя утопился отец. Подруга и биограф Амьеля Берта Бадье4 утверждала, что тяжелое горе внешне не повлияло на характер подростка, который остался в семье дяди, сохранил внешнюю жизнерадостность. Но еще Поль Бурже заметил в статье об Амьеле5, что дневник часто ведут люди одинокие, потерявшие в детстве мать; это подтверждают и подсчеты современного исследователя Алена Жирара6. Сиротство создает комплекс незащищенности, неприкаянности, ненужности, рождает желание изменить свое положение в социуме или, напротив, замкнуться в себе, укрыться в мире воображения. Французский литературовед Марта Робер7 в принципе считает комплексы сироты и подкидыша (которые в символическом смысле переживает любой человек) не только основным источником творчества, но и главным психологическим содержанием романа как жанра. Эти мотивы, которые весьма характерны в первую очередь для просветительской и романтической прозы, постоянно встречаются, как мы видели, в романдской литературе XIX в. (Р. Тёпфер, У. Оливье), могут даже приобретать сказочную окраску (М. Моннье “Чародей”).
Учился Амьель сначала в Швейцарии, потом в Германии, тогдашнем центре университетской жизни. Он слушал лекции в Берлине и Гейдельберге (1844-1848), в первую очередь — по философии, эстетике, богословию, географии, истории, психологии. Одним из его учителей был философ Фридрих Шеллинг. Это было самое счастливое время жизни Амьеля — он учился запоем, как губка, впитывал знания, ничто не могло отвлечь его от занятий. В этом, он чувствовал, и состояло его призвание.
Благодаря тому, что после либеральной революции многие преподаватели Женевской Академии (ставшей впоследствии, в 1873 г., университетом) были уволены, Амьель сумел в 1849 г. получить место на кафедре эстетики, а затем истории философии. Консервативные круги Женевы, к которым ученый был близок по своим политическим взглядам, считали его ренегатом, это создавало вокруг него атмосферу отчуждения. Человек огромной эрудиции был посредственным преподавателем — он предлагал студентам не концепцию, а перечень всех возможных сведений в данной области. Амьель ставил своей целью достичь полного знания — и вечно оставался на поверхности, во всех сферах жизни его манило Абсолютное, а доставалась пустота. Он бесконечно расширял предмет исследования: чтобы определить своеобразие Ронсара и Малерба (сопоставительному анализу их творчества он посвятил в 1849 г. статью), учёный начинал выяснять, что представляла собой литература той эпохи, в чём вообще состоит предмет поэзии. Читая курс эстетики, Амьель начинал с анализа 95 эпитетов, характеризующих понятие прекрасного, затем переходил к изучению прекрасного в природе, привлекал данные ритмики, акустики, физики, математики — и бесконечно удалялся от тайны искусства.
Э. Шерер не раз упрекал Амьеля в том, что его интересует не действительно прекрасное, а лишь “хорошенькое”. Это отчетливо видно в его поэзии. Амьель был превосходным салонным стихотворцем, легко писал послания “на случай”, умело варьировал строфику, размеры, но стихи оставались холодными (да и вкус частенько подводил Амьеля — и как писателя, и как читателя). Лишь одно, “Священная война” (более известное под названием “Греми, барабан!”), положенное им самим на музыку, имело огромный успех, стало патриотическим гимном. Амьель написал его в начале 1857 г., когда Германия предъявила Швейцарии ультиматум из-за Невшателя и возникла реальная угроза войны.
Греми, барабан! На защиту границы
На берег Рейна веди нас на бой!
Громче звучите марши в столицах —
Каждый ребенок мечтает встать в строй.
Пусть сердца забьются храбро
Древней славой упоенны.
Горцы! Мы не знаем рабства.
Греми, барабан! Развевайтесь, знамена!
Стихи оказались удачными благодаря тому, что одна из наиболее древних форм поэтической риторики, боевой гимн, получила естественное обоснование. Амьель тяготел к античным лирическим жанрам: посланиям, гномам (стихотворным философским сентенциям, поучениям), дидактической описательной поэзии в духе “Трудов и дней” Гесиода. Он постоянно стремился ввести в литературный оборот фрагменты, мысли из своего дневника, соединить их с поэзией. В сборнике “Ячменные зерна” (“Grains de mil”, 1854) поэзия и проза разведены по разным частям, рассуждения, которые в дневнике подкупают своей спонтанностью, в книге окаменевают, кажутся банальными или, напротив, бездоказательными. Публикуя отрывки, Амьель правил стиль — правильность губила своеобразие. Это становилось еще наглядней и катастрофичней, когда мысль обретала законченную поэтическую форму, пусть даже она была выстраданной и оказывалась пророческой для автора:
Лишь осмотрительный судьбу свою погубит,
Растратив жизнь в мечтаниях безвольных,
Упустишь миг, день, месяц, год;
Потом дитя седым проснется.
(сб. “Задумчивый. Поэтические максимы”, 1858)
Прошел незамеченным сборник “Доля мечтаний” (“La part du reve”, 1863), только последний, “День за днем. Задушевные стихи” (1880), — поэтическая хроника смены настроений, пейзажей, месяцев — вызвал одобрительные рецензии швейцарских критиков, оценивших замысел автора: создать своего рода личный дневник, сведенный до размеров года, но года типического и символического. Книга удостоилась похвал Шерера, Ренана, Сюлли Прюдома, но прочли они ее уже после кончины Амьеля, последовавшей в 1881 г. (человек слабого здоровья, он много болел, все последние годы мучился от приступов удушья). Хорошо Амьелю давались переводы, он с удовольствием переводил баллады Шиллера, стихи Байрона, Петефи, Леопарди, Камоэнса, перелагал четырнадцати- и шестнадцатисложником “Махабхарату”, стремясь передать формальные особенности подлинника (сб. “Чужестранки”, 1876). Но, как писал суровый критик Шерер, они были “хороши, но не сладостны”, дух поэзии ускользал; сравниться с переводами своего младшего друга и ученика Марка Моннье (он перевел “Фауста”, “Неистового Роланда”) Амьель не мог.
Ученый вел уединенный образ жизни. Совершать многочисленные путешествия (Германия, Франция, Италия, Голландия, Скандинавия, Прибалтика), походы в горы, ежедневные долгие прогулки его толкала тревога, которая охватывает домоседа, недовольного собой, пытающегося убежать от себя. У него было много знакомых, друзей, но не было семьи. Он любил общество женщин и страшно боялся их. Он узнал физическую любовь в сорок с лишним лет (а в шестьдесят умер), дважды делал предложение и сам разрывал помолвку. Он льстил себе ролью всеобщего наперсника, “платонического Дон-Жуана” и мучился от комплекса сексуальной неполноценности.
Основным занятием Амьеля было чтение — жадное, торопливое, бессистемное. Каждые день он просматривал в читальне полтора десятка газет и журналов, пять-шесть научных сочинений (1 февраля 1854: трактаты по электричеству, по арифметике, об общественном призрении, об истории Судана, о Сицилии, об искусстве долгожительства), стихи, романы. Он хотел быть в курсе всего, не пропустить ни одну новую мысль в какой бы то ни было отрасли знания — и все забывал. Уже после тридцати лет он стал сетовать на память, жаловаться, что от массы прочитанных второпях книг в голове ничего не остается. Всё чаще в дневнике появляется запись: “вновь перелистал”... Амьель был превосходным собеседником: посещая философский салон Э. Шерера, прогуливаясь вместе с ним, Э. Навилем, богословом Шарлем Геймом, он с наслаждением вел отвлеченные споры (“упражнялся в диалектике с атлетами духа”), обретал ощущение свободы. Напротив, статьи он писал с огромным напряжением: готовя по просьбе Эжена Секретана для задуманной им серии биографий “Швейцарская галерея” литературные портреты г-жи де Сталь (1876) и Ж. Ж. Руссо (1879) он жаловался, что ему трудно организовать материал. А мечтал Амьель только о грандиозных, всеохватывающих трудах; Берта Вадье перечисляет некоторые из его замыслов, от которых остались одни названия: Искусство жить, Дух Франции, Новое общество, Недоразумения, Град богочеловека, Дух наций, Свобода человека, Философия истории, Философия религии. Желая быть всем: писателем, моралистом, психологом, эстетиком, философом, богословом, он был никем: читателем, интеллигентом, сверхквалифицированным потребителем культуры, тем, кто своим существованием обеспечивает ее высокий уровень — и страдает от ощущения неполноценности, ненужности. В “Дневнике” Амьеля, быть может, впервые столь ясно воплотился тот социально-психологический тип, то современное отношение к культуре, величие и трагедию которого символически выразил Г. Гессе в “Игре в бисер” (1942).
“Мы считали Амьеля бесплодным, а он оказался бесконечно плодовитым”, — писал Э. Шерер. Жанр необязательных ежедневных заметок идеально подходил ему по характеру, и чем больше времени Амьель им уделял (он начал их вести в 18 лет, регулярно — с 28, посвящая этому занятию по нескольку часов), тем отчетливее сознавал, что дневник из средства стал целью, его единственным детищем.
Как показали работы французских исследователей Ж. Гусдорфа, А. Жирара, Б. Дидье, Ж. Руссе, у личного дневника как литературного жанра есть свои законы. Казалось бы, описание частной неповторимой жизни не сковано никакими ограничениями, не может и не должно укладываться в канон. И действительно, принципиальное отличие от других жанров (и даже весьма близких, как мемуары, исповедь, где довлеют авторитеты Блаженного Августина и Жан-Жака Руссо) заключается в том, что автор дневника не ориентируется на традицию, вопрос о подражании не встает — и тем разительней сходство записей, сделанных разными людьми в разных странах в разное время. Сам Амьель традицию прекрасно знал: он с увлечением читал опубликованные дневники Ж. Жубера, Мена де Бирана, Мориса де Герена, А. де Виньи8 и ревниво, критически оценивал их, подчеркивал свое отличие. Но сама установка на свободное, естественно развивающееся письмо, отказ от фундаментальных правил повествования, свойственных прозе, ограничивает сферу и принципы изображения. И, самое главное, — дневник формирует образ своего автора, создает особый тип отношения к миру.
Прозаические жанры, “художественные” и “документальные”, как правило, подразумевают наличие сквозного сюжета. Мемуары и автобиографии чаще всего создаются после поражения, ухода от дел — они пишутся в ссылке, опале, тюрьме, старости. Гибель “человека общественного”, все равно — политика или любовника, — ощущается настолько остро, что многие воспоминания обрываются на полуслове (Ларошфуко, Рец, Казанова). Покончив с жизнью искателя приключений, став профессиональным писателем, маркиз д’Аржанс начал свою литературную карьеру с “Мемуаров” (1735). А Андре Моруа, для которого жить и писать значило одно, закончил мемуары за неделю до смерти (1967). Каждый мемуарист заново проживает, переписывает свою жизнь, придавая ей логическую связность и стройность, творит идеальный вариант судьбы, зная заранее итог. В исповеди двойное видение мира, столкновение двух “я”, сегодняшнего и вчерашнего, обретает моральный характер: скрупулезно перечисляя свои грехи и заблуждения, автор уничижает, уничтожает земного, тварного, человека во имя человека высшего — пророка, проповедника, который несет людям слово Божие или идеи Разума.
Личный дневник, как мемуары и исповедь, появляется на свет дважды, после двух смертей, символической и реальной: в уединении рождается текст, после кончины автора он приходит к читателю. Но разговаривает автор дневника не с потенциальным или реальным читателем, как мемуарист, а с самим собой. Это диалог в пустоте, в принципе невозможный — ибо ты знаешь о себе все, о чем расскажешь и о чем умолчишь, — и тем не менее он длится десятилетиями. В письмах подстраиваешься под собеседника, в дневнике выстраиваешь собственный образ, причем человек внешний (социальный) и внутренний, сознание и подсознание ведут упорный поединок, и победа (как это бывает часто, как это произошло с Амьелем) оказывается на стороне последнего.
В письмах и дневниках, в отличие от романов и мемуаров, логическая связь заменяется хронологической, синтагматический сюжет — парадигматическим соединением разноплановых и при этом однородных событий, воспроизводящих естественный ход времени. Характерно, что превращая дневниковые записи в художественный текст, писатели нередко придают им эпистолярную форму (“Письма русского путешественника” Н. М. Карамзина, “Оберман” Сенанкура). Автор дневника — не активное действующее лицо (как в мемуарах), а наблюдатель, свидетель.
Фиксация событий день за днем ставит проблему отбора: описывать новое или повторяющееся, обыденное, происшествия или собственную реакцию на них, дела или мысли. Разумеется, любой повествователь пишет о мире и о себе, но если говорить о тенденциях, то на одном полюсе окажутся личные, задушевные дневники (Мен де Биран, Герен, Амьель), а на другом — дневники путешествий, хроники литературной жизни (Ж. Оливье, Гонкуры, Ж. Ренар). “Фактографические” дневники фиксируют события парламентской, придворной жизни или даже обычной купеческой — так подводил баланс дневных происшествий отец Амьеля в своих заметках. Б. Дидье во многом права, утверждая в своем исследовании9, что дневник — буржуазный жанр, духовная приходно-расходная книга.
“Памятные записки”, фактографические дневники дают ответы, личные дневники ставят вопросы: кто я? зачем живу? зачем пишу? Их массовое появление на рубеже ХVIII-ХIХ вв. во многом связано с гибелью классической системы представлений, старого общества, с выходом на первый план в социальной жизни, в литературе отдельной личности. Авторы дневников хотят постичь и описать психологические механизмы, управляющие человеком (такую задачу прямо ставил перед собой Мен де Биран), обращаются, как Амьель, к религиозной традиции самоисследования, регулярной исповеди (себе, как в католицизме священнику)10. В известном трактате английского пастора Джона Мейсона “О самопознании” (1744) была выдвинута идея ежедневного самоконтроля, разработаны его правила, основные приемы. Целью ритуала самоисследования (он в основном состоит из тех же вопросов, которыми задаются авторы дневников), который должен стать такой же привычкой, естественной потребностью, как молитва (о психологическом сходстве дневника и молитвы писал и Амьель), было избавление человека от недостатков и пороков, превращение его в полезного члена общества. Личность подгонялась под социальную роль.
Но жанр дневника — ловушка для автора, он устроен так, что все благие намерения дают обратные результаты. Идея нравственного совершенствования, развития была очень близка Амьелю: и в юности, и в зрелые годы он постоянно подводит итоги (за день, за год, за все прожитое), разрабатывает подробные планы на будущее, нещадно корит себя — и остается прежним. Призывы измениться обретают ритуальный характер, помогают сохранить душевный покой. И характер, и воззрения остаются прежними: Л. Бопп, автор капитальной монографии, посвященной философским взглядам Амьеля, утверждает, что ни о какой эволюции говорить не приходится11. Жизнь всякий раз начинается заново, с нуля — и все повторяется, движение идет по кругу (“я каждый день рождаюсь и умираю”, писал Амьель). Э. Навиль в предисловии к дневнику Мена де Бирана предупреждал об опасности самоанализа, ставшего самоцелью: рефлексия не созидает, а разъедает социальную личность, характер, волю.
Откладывание жизни “на завтра” свидетельствует о безнадежном инфантилизме, подростковом желании и страхе стать взрослым. Многие авторы личных дневников и, разумеется, Амьель жалуются на нехватку любви, ощущение неприкаянности, ненужности. Они сироты — в физическом и духовном смысле. Уход в себя — это уход от мира, дневник — род аскезы, послушничества. Одиночество, изоляция могут усиливаться внешними причинами — маркиз де Сад вел дневник в тюрьме (Амьель сравнивает свою жизнь с заточением, дневник — с орудием казни), Ж. Жубер — в уединении. Французская революция, разбудив активность масс, очень многих людей отстранила от дел, вынудила эмигрировать, скрываться в провинции, как это сделали Мен де Биран, Сенанкур (напомним, что писатель и его герой-двойник Оберман долгое время жили в Швейцарии). В дневнике первого и романе второго бурные события эпохи начисто отсутствуют: для отшельников время остановилось.
В эссе, посвященном знаменитому роману Д. Дефо, Александр Вине писал о болезни современного общества — духовной робинзонаде, одиночестве в толпе, пустыне людей. Вине очень точно пишет об основных чертах Робинзона: буржуазности, эгоизме и одиночестве, о стертости личности, которая занята запечатлением мира; Робинзон — это не характер, а ситуация. То же можно сказать об авторе дневника — а именно дневник ведет Робинзон на необитаемом острове, когда после кораблекрушения, символической смерти кончилась его авантюрная жизнь. Разделив бумагу надвое, он подводит баланс добра и зла, подсчитывает выгоды и убытки нынешней ситуации, затем описывает обживание, творение нового мира. Изготовление лопаты (стула, лодки) предстает в первую очередь как интеллектуальный процесс, материализация идеи Лопаты. Прошел год, остров освоен, и форма дневника исчезает из романа, оказавшего огромное влияние на развитие европейской литературы.
Амьель постоянно стремится к Богу, ищет путь к нему. Он говорит о “еретизме” церкви, о том, что лишь индивидуальная вера осенена благодатью. Этим он привлек внимание Л. Н. Толстого, шедшего в конце жизни той же дорогой, отлученного от церкви за свои религиозные убеждения. Как нам кажется, Амьель интересен и современен именно своей нерешительностью, ранимостью, незнанием ответов, противоречивостью суждений, тем, что для него тернистый путь познания мучителен, это путь на Голгофу. Всякий тезис в его дневнике рождает антитезис, но синтеза чаще всего не возникает; два типа познания, рациональный и интуитивный (за которые “отвечают” левое и правое полушария мозга), разъединены. Человек науки, Амьель не столько осознает, сколько ощущает ее ограниченность. Он не приемлет ни рационалистическую критику христианства, свойственную либеральному протестантизму, ни историческое исследование жизни Христа и апостолов, предпринятое Э. Ренаном. Он верит в чудо — в идеальное, вечное, непостижимое. Он подсознательно ощущает себя Творцом, соперником Бога, он ставит перед собой как ученым принципиально невыполнимые задачи.
В своих религиозных исканиях Амьель выходит за границы христианства, пытается объединить его с буддизмом, нащупать основы мировой религии, единой для Запада и Востока. Здесь он во многом следует за Шопенгауэром, ему близок его пессимизм и скептицизм, он постоянно говорит о вечном круговороте Зла, о Майе — символе изменчивости и иллюзорности мира. Он с наслаждением и ужасом осознает, что воплощает тот тип человека, который описывает немецкий философ, что теории “франкфуртского мизантропа” оправдывают все его недостатки: инфантилизм, отвращение к практической, полезной деятельности, убиение желаний, “страдательный” образ жизни.
Разумеется, в каждом собеседнике, писателе, мыслителе Амьель видит и описывает себя самого (с этой точки зрения весьма показательны набросанные им портреты Монтескье и А. Вине); наши теории суть проекции наших характеров, утверждает он. Но чем ближе ему автор, тем резче в последний момент он старается отмежеваться от него. Разум влечет вслед за Шопенгауэром, сердце не пускает: Амьель сохраняет в душе наивную, детскую веру в добро, любовь.
Другой путь к постижению Бога открывался перед Амьелем в момент нисходивших на него озарений, экстазов, когда он мысленно проделывал путь обратной эволюции: из мира людей в миры животных, растений, минералов, спускаясь по ступеням мистической лестницы бытия. Чувствуя себя египетской мумией, наблюдающей бесконечную смену веков, он возвращался к этапу первичной материи — тем пра-матерям, о которых писал Гете во второй части “Фауста”. Амьель говорил об “алхимии духа”; психоаналитики видят в его описании превращения в зародыш хорошо известный комплекс — желание укрыться в материнском лоне. Но об этих озарениях рассказано коротко и скупо: либо они не приближают к истине, либо ее нельзя выразить на языке рациональных понятий. Путешествие в глубь времен, в центр мироздания у Амьеля не соединяется с интересом к прарелигии, к тайной премудрости, как в теософии рубежа столетий, развившей идеи иллюминатов века Просвещения. Амьель пытается уловить символику чисел в своей жизни, ведет подсчеты, дабы постичь закономерность событий, заглянуть в будущее, как это делали в своих записях маркиз де Сад и Сенанкур-Оберман. Жанр дневника, отвлеченных раздумий в принципе подталкивает к мистицизму (показательно “обращение” в конце жизни скептика Мена де Бирана), но Амьель, тяготея к мистике, остается при этом человеком практичным, осторожным, экономным (откладывая сбережения, тратя деньги только на книги, он увеличил свое состояние с 60 до 200 тысяч франков).
Автор дневника управляется со словами, а не вещами. Амьель пишущий переносится в мир платоновских идей, окружающие его физические объекты — лишь символы, знаки. И это становится причиной духовного кризиса: всякое понятие при логическом анализе переходит в свою противоположность. Вера во всесилие науки, философии приводит к выводу об абсурдности мира, в центре которого — пустота, небытие. Чтобы разрешить противоречие, Амьель вывел универсальный закон исторической компенсации, согласно которому каждый стремится к тому, что у него отсутствует, хочет проявить себя, прославиться в той области, где чувствует себя слабее всего.
Взгляды Амьеля оказались во многом созвучны тому кризису детерминистской науки, который разразился несколько позже, а конце XIX в. Современная физика спокойно признает, что есть явления, которые она не может объяснить, что человеческие знания охватывают лишь поверхностный слой, а не сущность событий, и люди не в силах управлять ими. Крах ньютоновской модели мироздания подорвал основу многих философских систем. Амьель не может примириться с множественностью истин, с их относительностью.
Как мы видим, в основе религиозных и философских идей Амьеля лежит любовь к Идеалу, Абсолюту, болезненное ощущение невозможности его воплощения, рождающее страх. Это проявляется в его политических и эстетических воззрениях, бытовом поведении. Амьель не доверяет народовластию, более чем скептически относится к реализации утопических социалистических идей, проницательно видит в мировом коммунистическом движении прикрытие и обоснование русского нигилизма. Узнав незадолго до смерти об убийстве Александра II, он пишет, что жестокость террористов вызвана тиранией государства, что революционеры, борющиеся с деспотией — плоть от плоти ее. И он полагает, что будет время, когда Европа окажется под пятой России, олицетворяющей скрытность, коварство, жестокость.
Записные книжки помогают писателю творить, а личный дневник, напротив, стремится уничтожить все другие произведения, вобрать их в себя. Лев Толстой утверждал в предисловии к переводу “Задушевных записок” Амьеля, что дневник представляет читателю в чистом виде то, что он хочет увидеть в художественном произведении — душу автора. Но раз так, значит само искусство оказывается ненужным. Амьель очень скоро ощущает смертоносность дневника, объекта его любви и ненависти. Он ведет тщательный подсчет страниц, утверждает, что это главное, что останется после него, завещает деньги на издание избранных фрагментов. И он клянет дневник, не давший реализоваться его замыслам, сделавшийся оправданием праздности (хочется сказать — обломовщины, ведь Амьель так многим напоминает героя Гончарова), формой интеллектуальной лени, “духовного онанизма”.
Дневник спасает от тяги к самоубийству, успокаивает, лечит, оказывает благотворное воздействие при чтении и на автора, и на слушающих, как утверждает Амьель. И он же описывается как наркотик, иссушающий душу, превращающий в сомнамбулу, переносящий из мира людей в мир грез. Все чаще к концу жизни Амьель, вслед за Шатобрианом, называет дневник “замогильными записками”.
Дневник — это овеществленная память, он позволяет автору увидеть прежнего себя, сохраняет его образ для читателя. И он же разрушает естественные механизмы памяти (вспомним жалобы Амьеля на забывчивость), навязывает автору присутствие человека, которым он уже давно перестал быть. Дневник препятствует ретроспективному самоосмыслению (как в мемуарах) — ибо, чтобы вспомнить, надо забывать.
Дневник мешает нормальной эволюции характера; поставив целью сделать человека цельного, уверенного в себе, он превращает его в рефлектирующего Гамлета (с ним часто сравнивает себя Амьель)12. Главной константой характера становится изменчивость, текучесть (об этом говорил еще Монтень в “Опытах”, кн. III, гл. II “О раскаянии”; его книгу, повлиявшую на дневниковую традицию, можно рассматривать как записи, расположенные автором не в хронологическом, а в тематическом порядке). Нерешительность приводит к духовной всеядности, открытость к чужим влияниям рождает не творческое, созидательное, а потребительское, созерцательное отношение к культуре, миру. Но периодические колебания не выходят за установленные пределы, постоянные повторы создают ощущение бега на месте: Амьель постоянно говорит о замкнутом круге, колесе Истории, сравнивает себя с белкой в колесе, Сизифом, вращающимся дервишем.
Анализ убивает, размолотое зерно не прорастет, — пишет Амьель; продолжим метафору: дневник перемалывает зерно жизни, но из этой муки не испечешь хлеб искусства. Наблюдающий за собой раздваивается, делается эгоистом, ему не нужен другой; человеческие чувства, привязанности и, в первую очередь любовь гибнут (этим Амьель напоминает героя романа Б. Констана “Адольф”). Дневник, отнимающий большую часть времени, заменяет, как пишет сам Амьель, жену, друга, наперсника, исповедника, именно с ним начинает вести разговор автор. И чем сильнее очеловечивается дневник, тем больше деперсонализируется автор. Бесконечный процесс письма лишает возможности заниматься чем бы то ни было еще; Амьель изображает себя как человека, выключенного из мира, прикованного к письменному столу, как каторжник к тачке, Прометей к скале. Дневник — это описание процесса его создания, размышление жанра о себе самом13.
Как мы уже говорили, личный дневник рождается из комплекса неполноценности. Католик Э. Ренан никак не мог понять протестанта Амьеля, недоумевал, почему он, столь безгрешный человек, в основание жизни и веры кладет понятие греха, зачем надо тратить время на бесцельный дневник, когда в мире столько нужно сделать, изучить. Но чувства эти очень понятны в России, где сложилась традиция описания “лишних людей”, не выдерживающих, как Амьель, испытания ни любовью, ни общественной жизнью. Во Франции Оберман и Рене, изгнанные революцией, уступили место буржуа: Жюльену Сорелю, Растиньяку, Жоржу Дюруа. В России “лишним людям” — дворянам наследовали интеллигенты с их комплексом самоуничижения, бесцельности, сомнения, отречения от себя.
Тема сомнения в дневнике Амьеля перерастает в тему искушения, манихейской веры в зло (через которую прошел в юности Блаженный Августин). В “Ячменных зернах” небольшое эссе посвящено Сатане как поэту: добропорядочного Амьеля, иссушаемого бесплодием, влечет творческая сила, заключенная в зле, смерти, страдании.
Черты характера Амьеля, его видение мира прямо отразились в его стиле, весьма напоминающем, как показала Б. Дидье, манеру других авторов дневников (Мен де Биран, М. де Герен). Доминирует принцип “движения наощупь”, бесконечного нагромождения синонимов (множатся существительные, эпитеты, развернутые сравнения, усложняются грамматические конструкции). Выбор невозможен — ибо в языке, как и в жизни, он отсекает, убивает все иные варианты. Колеблющийся человек принципиально свободен, всемогущ, а приняв решение, он ограничивает, закрепощает себя. Статую рождает мрамор, который отсечен от глыбы, но Амьель боится застыть, окаменеть, он ощущает себя Протеем и хочет быть им. В стихах он подчиняется формам риторической поэзии, которые сами ведут, организуют мысль, но дневник пишется естественно, как течет жизнь. Необработанный стиль Амьеля, передающий подсознательные движения души, ассоциативный ход мысли сближается с принципом внутреннего монолога, который был применен Э. Дюжарденом в романе “Срезанные лавры” (1887), уже после публикации “Дневника”.
Амьель не был великим писателем, да и вообще, строго говоря, писателем не был. И тем не менее его влияние на литературный процесс был весьма существенным, его дневник, прочитанный как художественное произведение, стал образцом для создания романов, питательной почвой для возникновения новых литературных идей, некоторые из которых были реализованы не в XIX, а уже в XX в.
Художественные вкусы самого Амьеля были весьма старомодны, но, как известно, архаизм частенько оборачивается новаторством. Он боялся жизни и пугался реализма, с отвращением относился к натурализму. Он ставил Жорж Санд выше Бальзака, считал, что надо показывать не жестокое, безысходное существование (как в “Евгении Гранде”), а жизнь, освещенную светом идеала; земное мелочное бытие должно намекать на существование иного, высшего. Амьель сближался здесь с символистами, и не случайно А. Тибоде в своей книге “Глубины” (1924) рассматривает его вместе с Ш. Бодлером и Э. Фромантеном, автором знаменитого психологического романа “Доминик” (1862).
Амьелю нравились романтические или даже сентиментальные рассказы с ясным сюжетом, твердой моралистической установкой. Так писали его младшие коллеги и друзья Виктор Шербюлье (Cherbuliez, Victor 1829-1899) и Марк Моннье (Monnier, Магc 1827-1885). Они чувствовали себя не столько швейцарскими, сколько европейскими писателями, оба знали по нескольку языков (Шербюлье — шесть), учились в Швейцарии, Франции, Германии (Шербюлье слушал лекции Р. Тёпфера, был некоторое время последователем Э. Навиля). Оба любили Италию, много писали о ней, в герои книг выбирали частенько таких, как они сами, интеллектуалов-космополитов.
Марк Моннье, француз по отцу, женевец по матери, родился в Неаполе, в Женеве обосновался только в 1864 г., а через десять лет занял в Академии место профессора сравнительного литературоведения. Человек образованный, остроумный, он был хозяином литературного салона; на его “пятницах” непременно бывал Амьель. Моннье написал немало критических исследований, работал над “Всеобщей историей современной литературы”, рассматривал ее как отдельный процесс, но в первых двух томах дошел только до конца XVI в. Истинно швейцарским писателем стал его сын Филипп Моннье, автор “Женевских бесед” (1902).
Виктор Шербюлье происходил из известной протестантской семьи, обосновавшейся в Женеве в XVIII в. Его отец, Андре Шербюлье (1795-1874), был античником, профессором Академии (с 1840 г.). Один дядя, Антуан-Элизе (1797-1869) в молодости учительствовал в России, потом стал известным богословом, юристом, экономистом, профессором Академии, Политехнического института; его перу принадлежат книги “Теория конституционных гарантий” (1838), “Швейцарская демократия” (1843), “Очерк экономической науки” (т. 1-2,1862). Другой дядя, Жоэль (1806-1870) был хозяином принадлежащего семье крупного издательства (именно в его книжном магазине знакомился с литературными новинками Амьель), автором и редактором бюллетеня “Критическое обозрение новых книг”, выходившего с 1830 г.. Виктор Шербюлье начал по традиции как преподаватель и литературовед, о прочитанном им в Невшателе курсе лекций “Идеал во французском романе с 1610 по 1816 г.” (1860, опубл. 1911) одобрительно отозвался Амьель. Успех сопутствовал ему начиная с первой книги, посвященной Греции, “Об одной лошади. Афинские беседы” (1860), его охотно печатали в Париже, и он переехал во Францию (1875), сменил подданство (1879), стал известным прозаиком и журналистом, хроникером в “Ревю де дё монд”, членом Французской Академии (1881). Как утверждают, возможно, не без ревности, швейцарские исследователи, популярность сгубила Шербюлье: плодовитый литератор, он без конца эксплуатировал приемы, которые нравились публике. Его книги выдерживали по двадцать изданий.
Марк Моннье, признанный юморист, наследник Тёпфера, писал лирические стихи (сборник вышел в 1872 г.) и комедии (“Прямая линия”, 1854, “Суетливый”, 1858, “Капустный суп”, 1869, “Мадам Лили”, 1875), принимавшиеся к постановке в Комеди Франсез. Шербюлье в первую очередь романист, он более склонен к мелодраматическим ходам, его герои — гордые смелые мужчины, исполненные чувства долга, всегда готовые пожертвовать собой и жениться на прелестной особе, притягательные таинственные авантюристки, искатели приключений (“Мета Голденис”, 1873, “Самюэль Броль и Ко”, 1877). Они странствуют по всей Европе: Франция, Германия, Россия, Польша (“Приключения Ладислава Вольского”, 1869), но быт и пейзажи столь же условны, как характеры. В романе “Граф Костя” (1863) готический замок на Рейне призван оттенять загадочную душу Кости Петровича Леминова, “цивилизованного дьявола”, ученого историка и жестокого тирана. Как утверждает граф, Россия, где смешалось множество языков и народов, по природе своей страна космополитическая, соединяющая Европу и Азию; она должна “все познать и всех примирить”. “Мы, русские, призваны скрепить единство рода человеческого”. И Россия скажет свое слово, пишет Шербюлье, когда голос ее будет звучать от Константинополя до Лиссабона.
Роман написан за 20 лет до того, как Европа познакомилась с романами Толстого и Достоевского. Шербюлье, как и Амьель, остается в плену стереотипов, рисуя русских как талантливых и коварных азиатов. Спасение приходит от “европейцев”: француз Жильбер, секретарь графа, разгадывает детективную тайну, разоблачает крепостного врача Владимира Павловича, магнетизера, совратителя и убийцу, снимает проклятие с семьи и женится на дочери Леминова.
Шербюлье и Моннье принадлежат к поколению Флобера, Гонкуров и тем не менее остаются учениками Жорж Санд. Они пишут проблемные приключенческие романы, построенные на доказательстве морального, политического или эстетического тезиса. Над схематизмом искусственно сконструированной ситуации, полностью программирующей поведение персонажей, еще в 1874 г. иронизировал Э. Рамбер, анализируя романы Шербюлье “Проспер Рандос” (1868; история дружбы-ненависти двух поэтов, двух половинок души: один наделен богатством воображения, другой — мастерским слогом), “Роман честной женщины” (1866; борьба самолюбий двух любящих друг друга супругов, воплощений мужского и женского начал). Шербюлье далек от социалистических идей, в конфликте рабочих и предпринимателей (“Оливье Моган”, 1885) он на стороне мудрых хозяев, а не темных, грубых шахтеров и металлургов, которых подбивают на стачку продажные болтуны, социалисты-радикалы, преследующие корыстные цели. Роман вышел в тот же год, что и “Жерминаль” Золя и, помимо воли автора, воспринимается как прямая полемика с ним.
Именно сознательное высмеивание, опровержение философии и поэтики натурализма поставил своей задачей Марк Моннье в “экспериментальном романе” “Безумец” (1863). Его герой, чудаковатый неаполитанец, поднабравшись в Париже модных идей, исследует жизнь, дабы “научно” и объективно описать ее в романе. Но поставленные им психологические эксперименты оборачиваются против него самого, из-за традиционной комедийной путаницы он понуждает ученика соблазнять собственных жену и дочь; лишь сказочно-счастливая развязка выручает его. Метод натуральной школы, утверждает Моннье, приносит одни разочарования и в жизни, и в литературе (герой так ничего и не создает), источник творчества — душа поэта, а не окружающая действительность.
При таком подходе эгоцентрист, описывающий только свое внутреннее состояние, как Амьель, и будет истинным писателем, а внешний мир предстает как сложно организованная театральная декорация, люди — как марионетки. В романах Моннье и Шербюлье противоречия, случайности, вмешательство сверхъестественных сил становятся формами проявления закономерности, установленной Автором, Творцом. Традиция уподобления человека механизму, исследования марионеток как совершенных людей, идеальных объектов для творчества, восходящая к французским просветителям (Д. Дидро), немецким романтикам (Г. Клейст), в Швейцарии во многом определялась стихотворением Жюста Оливье “Марионетки” (сб. “Далекие песни”, 1847). В этой мини-эпопее, которую любил и часто цитировал Амьель, в кукольном танце под рефрен детской песенки “Три раза повернулись и ушли” проходят чередой все сословия и характеры, людей сменяет хоровод планет. Все преходяще, тщетна земная суета, доказывает поэт, нам не дано оборвать нити, протянутые Творцом.
Рационалистическое исследование психологии приводило к тому, что романдская литература, создававшаяся литературоведами, становилась литературой марионеток. Этот принцип открыто декларировал В. Шербюлье в “Романе честной женщины”: “Я люблю этих послушных марионеток, безошибочно исполняющих все роли, кои нам заблагорассудится им подсказать”; герои “Графа Кости” уподобляют творчество, воображение кукольному театру, душу — часовому механизму. Эти идеи он развивает и в предисловии к сборнику “Театр для марионеток” Марка Моннье (1871), одна из пьес которого ему же и посвящена. В романах Моннье мелодраматические ситуации обращал в фарс, в кукольных комедиях и трагедиях (идею которых ему подсказал французский поэт Шарль Фурнель, учившийся вместе с Амьелем в Берлине) он, используя вечные, бродячие сюжеты, фольклорных персонажей, сатирически рисует злободневные политические события: от воцарения Наполеона III (“Полишинель”, 1852) и крымской войны (“Принцесса Дунайская”, 1856) до франко-прусской войны (“Фауст”, 1871). Балаганные маски не скрывают, а выпячивают сущность государственных мужей, подоплеку их действий (сочинения Моннье запрещались цензурой и в Германии, и во Франции). Автор отменно пользуется раешным стихом, грубоватым слогом, расцвеченным неологизмами.
Покуда много словопрений,
Идет страна путем свершений,
И благоденствует народ,
Пока парламент глотки рвет,
Тут даже ярый демократ
Не драться, а ругаться рад.
(“Мирный конгресс”, 1871).
Моннье соединяет традиции народного театра и салонной пьесы для чтения, пропитанной аллюзиями (Фауст и Макиавелли воруют сандалии у Гамлета — то бишь Пруссия зарится на чужие земли). Этот принцип балаганной шутовской трактовки самых серьезных тем, в первую очередь философских и религиозных, в XX в. использовал бельгийский драматург Мишель де Гельдерод.
Принципиально иной путь анализа внутреннего мира, не рациональный, а интуитивный, предложил Эдуард Род (Rod Edouard, 1857-1910). Не постоянство, а переменчивость характера интересует его, не сознание, а подсознание, те потайные движения души, которые могут даже не облекаться в слова и тем не менее правят человеком. Наиболее известные произведения Рода вышли вскоре после публикации дневника Амьеля, и хотя он и не упоминает его в ряду своих учителей, в романах и повестях Род описал типично амьелевский вид жизненного поведения.
Мать писателя умерла, когда ему было десять лет. Он учился в Германии, где проникся идеями Шопенгауэра, диссертацию на тему “Эволюция легенды об Эдипе в мировой литературе” (1879) защитил в Лозанне. В Париже Род познакомился с теориями натурализма, стал горячим приверженцем и последователем Золя, напечатал эссе “По поводу «Западни» (1879). Его первые, натуралистические романы вызвали в Швейцарии резкую критику, знаменитый философ и богослов Шарль Секретан назвал “Пальмиру Велар” (1881) нечистоплотной тошнотворной книгой, свидетельствующей о литературном убожестве автора. Перелом произошел, как многократно подчеркивал сам Род, в первую очередь под воздействием русской литературы, романов Толстого и Достоевского. (Позднее Род переписывался с Толстым, посвятил его творчеству статью, вошедшую в сборник “Нравственные идеи нынешнего времени”, 1891.) Писатель поставил своей целью превратить в художественный конфликт современные интеллектуальные проблемы, заменить изучение внешнего мира анализом внутреннего, создать роман, очищенный от “привходящих обстоятельств”, целиком происходящий в сердце человека. Новый метод Э. Род назвал “интуитивизмом”: “Вглядываться в себя, чтобы познать и возлюбить не себя, а других, искать в микрокосме своего сердца игру людских сердец, устремляться вглубь, чтобы выйти за пределы себя, ибо, что ни говори, в моем «я» отражается мир” (предисловие к роману “Три сердца”, 1890). Соответственно, изменилась поэтика: надо избавиться от лишнего, от описаний вещей, места действия, от банальных ретроспективных рассказов о детстве, юности, воспитания героя, от тирании конкретных фактов и излишне четко очерченных фигур. Надо приближаться к символу, насколько позволяет грубая плоть романа.
Эта программа, бьющая и по натурализму, и по “литературе марионеток” (так, ретроспекции занимают большую часть “Безумца” Моннье), сближает роман с жанром личного дневника, где также (в отличие от мемуаров) не нужна ни предыстория, ни долгие объяснения, ни описания быта, ни события, ни имя повествователя. И первый “интуитивистский” роман, “Бег к смерти” (1855), принесший ему славу, Род создает в форме дневника, записей двух лет, от осени до осени.
Как бы продолжая традиции Сенанкура и Фромантена, писатель раскрывает психологию не выдающегося человека, а заурядного. Его герой лишен биографии, у него нет ни родителей, ни семьи, ни внешности, ни имени; полной жизнью он живет только во сне, когда видит себя русским нигилистом, влюбленным в террористку, которую казнят за покушение на царя. На него давит усталость от не совершенных им дел, от убитых желаний и намерений. Подобно Амьелю, он остро чувствует свою бездарность, злится на интеллектуальное прозябание. Он живет в мире книг, они ссорятся, ругаются в его мозгу, но сам он может писать только о себе, анализировать свои чувства, перемены состояния, сам процесс письма. Он человек подсознания, сумерек, осени, его удел — ночные блуждания по пустому Парижу, скитания по Европе в тщетной надежде спрятаться от самого себя. Он тянется к девушке и боится любви (их бесконечный безмолвный разговор, напряжение платонической страсти Род передает прерывистым ритмом фраз: сбивается дыхание, человек закусывает губы от невозможности высказаться). Живое чувство гибнет, убитое философией пессимизма, основанной на признании главенства Зла, относительности морали, красоты (герой подробно излагает свое кредо, соединяя философские идеи А. Шопенгауэра и Э. Гартмана, поэзию Дж. Леопарди и музыку Р. Вагнера). Он разочаровался в литературе, видит абсурдность социалистических утопий, которым не спасти гибнущую цивилизацию. Единственный выход — смерть, возвращение к Пра-началу. И он начинает проживать жизнь обратно, возвращается в страну студенчества — Германию, скрывается отшельником в горах, замуровывает себя молчанием, неподвижностью, и душа его растворяется в Природе, Небытии, Пустоте.
Многие читатели и критики отождествляли автора и его героя, но думается, что Э. Род говорит в романе “Бег к смерти” и об ответственности культуры перед жизнью, философа и писателя — перед читателем, которого они могут погубить, принудить к самоубийству. Об этом в юмористическом ключе писал М. Моннье, этой проблеме Род позже посвятил свой роман “На полпути” (1900).
Персонаж, двойник Амьеля, не оставлял писателя, ибо в нем мировоззрение и характер сливались воедино, обусловливали друг друга и как нельзя лучше соответствовали поэтике “интуитивизма”. Но герой, зараженный проказой самоанализа, уничтожает все, к чему прикасается. Попытки полюбить, зажить активной жизнью приносят избранницам мучения и смерть (роман “Три сердца”); слепой эгоизм, безволие, бесчувственность под маской участия становятся орудиями пытки. Над героем Рода тяготеет проклятие “Адольфа” Констана — он обречен даже в момент любви наблюдать за собой. Анализ уничтожает персонажей, действие, жанр романа, резко сужая его границы. Герой должен жить в одиночестве и на людях, в привычном уюте и без семьи, где все свое и вместе с тем чужое — одним словом, в пансионе, как жил Амьель (рассказ “Семейный пансион. Зимние записки старого холостяка” из сборника “Романдские новеллы”, 1891). Здесь 45-летний мужчина уже чувствует себя стариком, периодически сменяющиеся вместе с временами года постояльцы вечно разыгрывают перед ним одну и ту же камерную драму. Действие строится по единственно возможной модели: событие тщательно готовится, но не происходит (платонический флирт обрывается до объяснения), и все вновь идет по кругу.
Э. Род писал и о Франции, и о Швейцарии (“Сцены швейцарской жизни”, 1896, “Наверху”, 1897, “Мадемуазель Анетта”, 1901, “Бегущая вода”, 1902), но, как показывает Д. Л. ван Раалте14, для автора альпийские пейзажи остаются всего лишь местным колоритом, ведь внешний мир — условная декорация для психологических опытов. Сам Род, определяя свое место в литературе, соотносил себя прежде всего с французскими писателями (Полем Бурже, Ги де Мопассаном, Жорисом Карлом Гюисмансом). После успеха “Бега к смерти” он вернулся в Женеву, сменил на университетской кафедре Марка Моннье, преподавал с 1886 по 1893, потом опять переехал в Париж. Но он продолжал интересоваться романдской литературой, ободрял Рамю, восхищался его романами. “Я искал всю жизнь, как соединить поэзию и правду — вы это сделали”, — писал он ему в 1907 г.
Выдвинув теорию интуитивизма, Э. Род закрепил в романной форме некоторые из принципов психологического анализа, субъективного видения мира, которые были разработаны в жанре личного дневника. Но сам писатель не отказался полностью от “теории среды”, сохранил социальную проблематику; он остался на позиции всевидящего автора, судьи своих героев. Думается, что в области поэтики традицию Амьеля, других авторов “задушевных записок” в ряде существенных моментов продолжил французский “новый роман”, поставивший во главу угла принцип самопорождающегося текста, который развертывается на сюжетном и стилистическом уровне как бесконечный перебор равнозначных вариантов. Установка на фиксацию настоящего, момента письма уничтожает прошлое, превращает время в череду разрозненных мгновений. Само понятие единства действия рушится, бытовое происшествие вписывается в контекст бесконечного циклического мифа и лишь в нем обретает смысл. Реальность ставится под сомнение (“Эрой подозрения” назвала свое эссе-манифест Н. Саррот); герой обретает полную свободу, заменив всезнающего Творца, но за это целиком утрачивает бытовой антураж, биографию, имя. Мир предстает как огромный пустой круг, заполненный фантазмами подсознания, все вещи, события — их проекция, порождения подавленных комплексов, в первую очередь — эротических. В центр вселенной помещается фигура соглядатая. Поступки, мысли низводятся до уровня “тропизмов”, мельчайших дословесных переживаний, импульсов. Роман превращается в размышление о себе самом, описание процесса своего создания, в разновидность литературоведения.
Слабость реалистических тенденций в романдской прозе второй половины XIX в., дидактичность, “филологичность” позволили ей исподволь аккумулировать те способы художественного освоения мира, которые стали доминировать уже в следующем столетии.