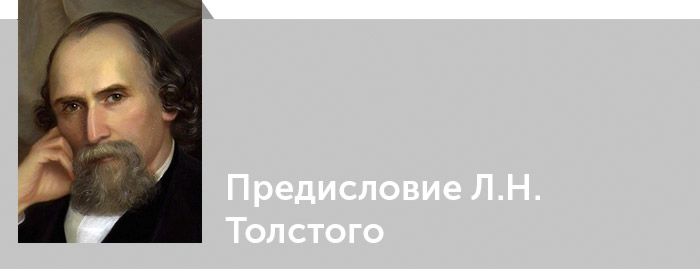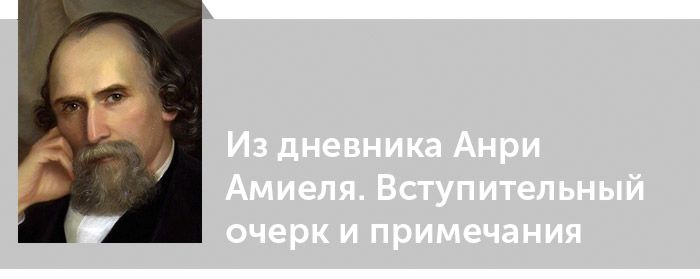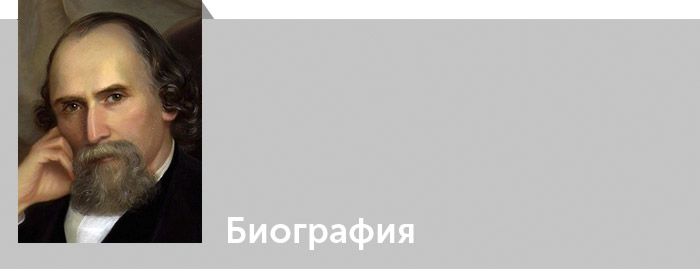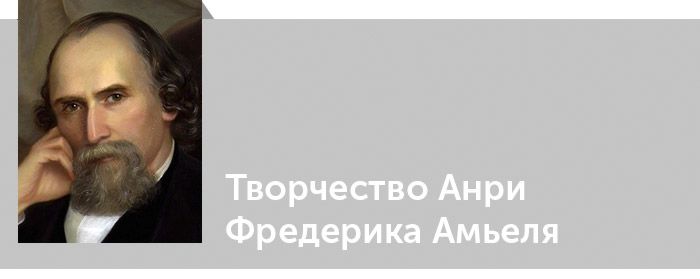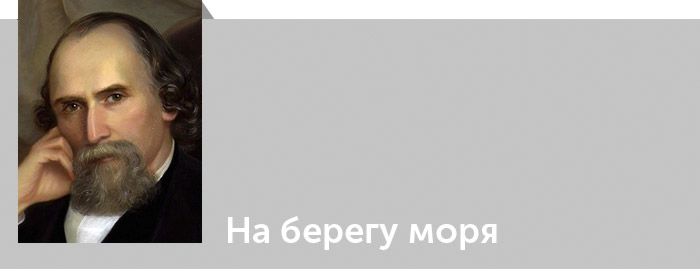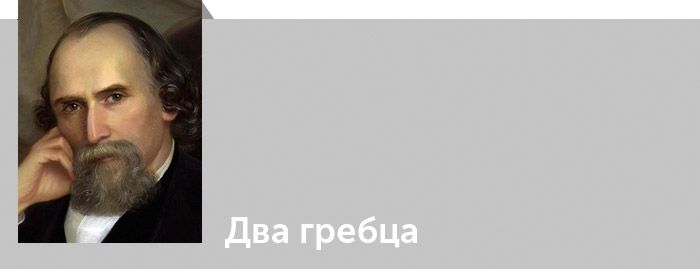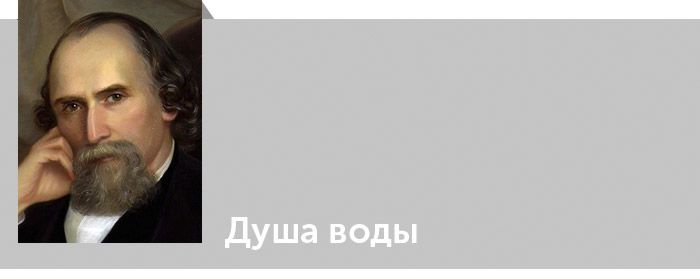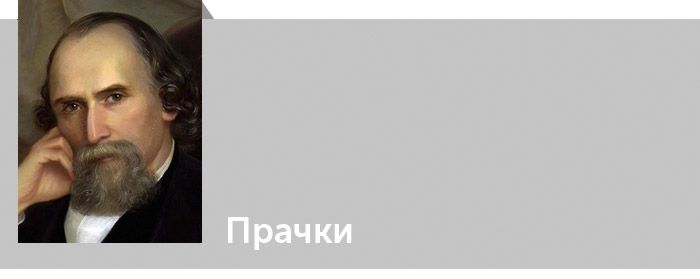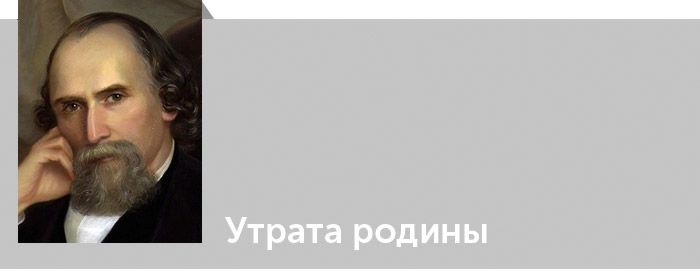Анри-Фредерик Амьель. Из Дневника
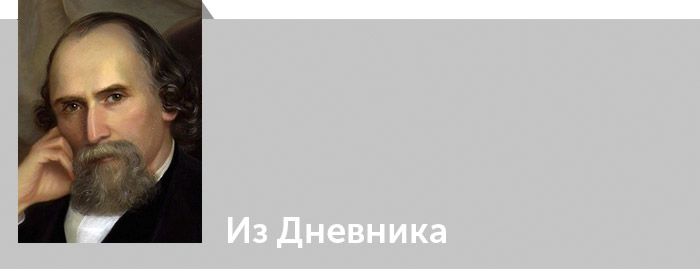
Дитя моё, отдай мне твоё сердце
Одно только нужно: сознавать Бога. Все чувства, все силы души и ума, все внешние средства понимания сути только просветы на божество: суть только способы вкушать и обожать Бога. Надо уметь оторваться от всего, что может быть потеряно, и привязаться исключительно к вечному и основному, всем же остальным наслаждаться, как данным взаймы на время. Обожать, понимать, принимать, чувствовать, давать, действовать: вот твой закон, твой долг, твоё счастье, твоё небо — пусть будет что будет, хотя бы и смерть. Установи внутреннее согласие, живи перед Богом, в общении с Ним и предоставь вечным силам, с которыми не можешь бороться, руководить твоей жизнью. Если смерть ещё не берёт тебя, тем лучше. Если она унесёт тебя, опять тем лучше. Если она убьёт тебя наполовину, всё-таки тем лучше, она закрывает для тебя поприще успеха для того, чтобы открыть тебе поприще подвига, самоотречения, нравственного величия. Всякая жизнь имеет своё величие, и так как тебе невозможно выйти из Бога, то лучше сознательно выбрать Его своим обиталищем.
[ Сравн.: «Круг чтения», 15 июля, тема: «Божественная природа души». Часть заключительного предложения отрывка, слова: «… и так как тебе невозможно выйти из Бога, то лучше сознательно избрать Его своим обиталищем» – Лев Николаевич выделил курсивом, что в «Круге чтения» означает особую важность мысли с точки зрения автора ].
20 июля 1848 г. Берлин.
Судить о нашем времени с точки зрения всемирной истории, историю с точки зрения геологических периодов, геологию с точки зрения астрономии, вот что делает мысль свободной. Когда продолжительность жизни человека или народа нам представляется такой же микроскопической, как и жизнь мушкарки, и наоборот, жизнь эфемерида так же бесконечна, как жизнь небесного тела со всею пылью народов, мы чувствуем себя и очень малыми, и очень великими, и мы со всей высоты небесных сфер можем рассматривать наше собственное существование и те маленькие вихри, которые волнуют нашу маленькую Европу.
В сущности, есть только один предмет изучения: это разные виды и превращения духа. Все другие предметы сводятся к этому же, все другие изучения приводят к нему же.
[ Данный отрывок претерпел в «Круге чтения» существенные редакции. Два вышеприведённых абзаца были разделены Львом Николаевичем в его сборнике для чтения на каждый день по двум разным дням, и, соответственно, темам. Первый абзац был изменён и сокращён. Слова: «…вот что делает мысль свободной» стали завершением всего рассуждения в данном абзаце, а не вводного предложения, как у Амиеля. Прилагательное «микроскопический» Л.Н. Толстой заменил на «ничтожный», более точно выражающее мысль, а непонятного части читателей «эфемерида» – на «мушкарку». В конечном варианте суждение Амиеля из первого абзаца вышеприведённого отрывка было включено Львом Николаевичем в записи «Круга чтения» под 29 января, в теме «Мудрость» (41, 70). Второй абзац с незначительной редакцией был помещён, в соответствии с его содержанием, в тему «Дух» под 10 мая (41, 317) ].
З мая 1849 г.
Ты никогда не ощущал в себе внутренней уверенности гения, предчувствия славы и счастья. Ты никогда не воображал себя великим, знаменитым, или хоть бы мужем, отцом, влиятельным гражданином. Это равнодушие к будущему, это полное недоверие, суть без сомнения указания. То, о чём ты мечтаешь, смутно и неопределённо; ты не должен жить, потому что ты сейчас не способен к жизни. Держи себя в порядке; оставь живых жить, сведи к одному твои мысли и сделай завещание того, что ты передумал, и того, что ты перечувствовал; это самое полезное, что ты можешь сделать.
Отвергнись от себя и возьми свою чашу — всё равно, наполненную мёдом или желчью, сделай так, чтобы Бог вошёл в тебя, вперёд пропитайся им, так, чтобы душа твоя сделалась храмом Св. Духа, делай добрые дела, содействуя счастью и совершенствованию других.
Только бы не было в тебе личного честолюбия, и тогда ты примиришься с жизнью или смертью, что бы ни случилось.
27 мая 1849 г.
Быть непонятым даже теми, кого любишь, вот чаша горести и крест жизни, это-то накладывает на уста выдающихся людей ту скорбную и грустную улыбку, которая поражает нас: в этом самое жестокое испытание людей, которые жертвуют собой, и это-то и должно было чаще всего сжимать сердце Сына человеческого; а если бы Бог мог страдать, то это была бы рана, которую мы наносили бы и Ему каждый день. Он, главное Он, всегда непризнанный, и в высшей степени непонятый. Увы! Увы! не тяготиться, не остывать, быть терпеливым, отзывчивым, добродушным, следить за рождающимся цветком и открывающимся сердцем, всегда надеяться, как Бог всегда любить, вот в чём долг.
Долг имеет свойство заставлять нас чувствовать реальность действительного мира и вместе с тем отрывает нас от него.
[ Это суждение включено Львом Николаевичем в книги «Круг чтения» (10 мая, тема «Дух»; 41, 316) и «На каждый день» (2 апреля, тема «Душа», 43, 185) с характерной подписью: не «Амиель», как при большинстве цитат этого автора, а «По Амиелю». Как и во всех иных подобных случаях, здесь это означает то, что Толстой пошёл на серьёзное редактирование текста, дабы подчеркнуть и усилить выраженную в нём мысль.
И действительно, рискнём утверждать, что Лев Николаевич именно улучшил это суждение женевского мыслителя. В его изложении оно стало чуть длиннее, но и содержательней, яснее своими смыслами:
«Чувство долга заставляет нас чувствовать действительность вещественного мира и участвовать в его жизни и вместе с тем отрывает нас от него и показывает нам его недействительность».
Итак, мысль Амиеля, как её понял Толстой, проста, и служит развитием известной евангельской этической максимы о невозможности служить «двум господам» (Матф., 6:24). Толстой цитирует соответствующий отрывок из евангелия в этой же теме и делает примечание: «Два господина эти: душа и тело».
Долг людей как детей (по разумению и духу) единого Отца-Бога – вознести каждому в себе и мире сына человеческого, то есть божественную, разумную и духовную свою природу. Приняв за руководство учение Христа – то высшее жизнепонимание, которое нашло в нём своё яснейшее и полнейшее выражение – человек неизбежно делается врагом миру: рабам и прислужникам учения мира, грехам и соблазнам, которым они предаются и лжам, которыми они оправдывают свою жизнь (верят в них сами, или даже не верят, но считают выгодным или необходимым размазюкивать их по умам детей и простецов). Но и в противостоянии миру такой человек помнит, что это он прозрел, а вокруг него враждующие с ним люди ещё грезят, и то, каким они видят мир и его в своём мире – не реальность, а дурной сон, видение, от которого их надо очунать. ]
30 декабря 1850 г.
Всякий бутон расцветает только раз, и у всякого цветка есть только один момент совершенной красоты, так же в саду души у каждого чувства есть как бы момент расцвета, т.е. единственный момент распустившейся прелести и царственного блеска.
Всякая звезда только раз в ночь проходит меридиан над нашими головами и блестит на нём только одно мгновение; так же в небе разумения существует для каждой мысли, если можно так выразиться, только один зенитный момент, во время которого она блестит во всей своей силе и царственном величии. Артист, художник, поэт или мыслитель, лови свои мысли и чувства в этот определённый, но беглый момент, чтобы остановить, увековечить их, так как это высшая их точка. До этого мгновения у тебя были только смутные намёки или тёмные предчувствия их; после него у тебя останутся только ослабленные воспоминания и бессильные раскаяния. Это мгновение есть мгновение идеала.
[ Лев Николаевич не использовал это суждение А. Амиеля в своих сборниках мудрой мысли, но, без сомнения, помнил его. Тому свидетельство – следующая его запись в Дневнике под 16 января 1904 г.:
«Как прав Амиель, что для всякого чувства и мысли есть свой зенит, на котором надо стараться удержать, запечатлеть чувство или мысль. Пропустишь – и не восстановишь. Так я думал о разбойничьей шайке правительств так сильно и ясно дня два тому назад, а теперь всё холодно и несильно» (55, 8)
В эти дни Лев Николаевич работал над статьёй о религии с “рабочим” названием «Камень главы угла». В результате именно эта статья не была написана, но обдуманное и написанное им в эти дни вошло в текст другой статьи – «Одумайтесь!». Это ОЧЕНЬ остро-злободневный, обличительный и нецензурный шедевр толстовской публицистики, так что смело можно утверждать, что «зенит» своей социально-обличительной и христианско-анархической мысли Лев Николаевич и тогда отнюдь не упустил!.. ]
Чем больше отталкиваешь свой крест, тем он становится тяжелее.
[ Краткое, афористичное и, без сомнения, одно из главнейших для Льва Николаевича суждений Амиеля, оказавшее на него ощутимое влияние.
Толстой включил его в неизменённом виде во все три основных сборника мыслей, составленных им: и в «Круг чтения», и в сборник «На каждый день», и в книгу «Путь жизни». В «Круге чтения» мы находим амиелеву мысль о кресте в записях на 2 апреля, объединённых темой «Усилие» (41, 223). Их открывает суждение, разъясняющее читателю тот смысл, который вкладывал Лев Николаевич в библейскую метафору «несения креста»:
«Настоящая жизнь – в том, чтобы становиться лучше, побеждать своё тело силою духа, приближаться к Богу. Это не делается само собой. Для этого нужно усилие. И это усилие даёт радость».
И далее сказанное от себя Толстой подкрепляет суждениями мудрых людей всех миров и эпох. Кроме Амиеля, это – Марк Аврелий, Конфуций, И. Кант, Р. У. Эмерсон и У. Э. Чаннинг. Марк Аврелий – будто вторит христианским рефлексиям Амиеля и Льва: «Неси своё бремя и знай, что в нём твоё благо…».
В сборнике «На каждый день» афоризм Амиеля о кресте мы находим под 26 сентября в теме «Нет зла» (44, 178). В книге «Путь жизни» соответствующий тематический раздел (XXVIII-й) озаглавлен просто «Зло», но шестой параграф, в котором мы обнаруживаем то же суждение Амиеля (45, 443), имеет характеристическое заглавие: «Сознание благотворности страданий уничтожает их тяжесть».
Свидетельство постоянного памятования Толстым амиелева образа тяжелеющего от неприятия его креста мы находим и в письме Льва Николаевича Софье Николаевне Зинченко от 25 ноября 1893 г. Мать Зинченко заболела алкоголизмом, и неизбежные в таких случаях «доброхоты» советовали Софье Николаевне избавиться от неё, отдав в российскую больницу – то есть на верную и мучительную смерть. Пребывая в сомнениях, Зинченко обратилась за советом к Толстому, и Лев Николаевич, расценив её сомнения как «голос совести», процитировал в своём ответе ей афоризм Амиеля и так пояснил его значение для Софьи Николаевны в разрешении её сомнений:
«Под крестом я разумею такую тяжесть, неприятность, бедствие, от которого человек может избавиться, отступив от требований своей совести. И крест свой надо нести бодро, тогда он становится менее тяжёлым» (66, 433) ].
Досада (le d;pit) — это злоба, которая боится обнаружиться; это бессильное бешенство, чувствующее своё бессилие.
Ничто так не походит на гордость, как уныние.
Для управления своей жизнью привычки важнее правил, потому что привычка есть живое правило, ставшее кровью и плотью. Переделать свои правила – это не важно, это значит переменить заглавие книги. Приобрести же новые привычки — это всё, потому что этим захватывается жизнь в её сущности. Жизнь есть только сплетение привычек.
6 апреля 1851 г.
Я не верю сам себе, не верю счастью, потому что знаю себя. Идеал отравляет для меня неполное обладание всем несовершенным. Всё, что определяет будущее и разрушает мою внутреннюю свободу, порабощает меня вещам или заставляет быть иным, чем я хотел и должен был бы быть, всё, что умаляет моё представление о совершенном человеке, делает мне больно, сжимает меня, огорчает меня, даже в мыслях, даже раньше времени. Я ненавижу бесполезные сожаления и раскаяния. Неизбежность последствий, связанных с каждым из наших поступков,— это главная мысль драмы, и мрачная и трагическая сторона нашей жизни удерживает меня более непреодолимо, чем рука командора. Я действую всегда только с сожалением и почти насильно.
Быть зависимым для меня невыносимо, но зависеть от непоправимого, от случайного, от непредвиденного и, главное, зависеть по своей же вине, зависеть от ошибки, т. е. лишиться своей свободы, своей надежды, лишиться сна и счастья — это ад!
Всё необходимое, роковое, вообще всё невменяемое я перенесу, мне кажется, с душевным мужеством. Но ответственность убийственно отравляет всякое горе. Поступок же, по существу своему, всегда свободен. И потому я поступаю как можно меньше.
Последний отпор личной воли, которая противится, скрывается, ищет покоя, удовлетворения, независимости!
Нет ли остатка эгоизма в этом бескорыстии, в этой боязни, в этой праздной чуткости? Ты хочешь исполнить долг, но где он, в чём он? Вот тут-то выступает желание и становится на место прорицателя. Последний вопрос таков: должно ли повиноваться своей природе, даже лучшей и самой духовной, или побеждать её?
Заключается ли жизнь главным образом в воспитании ума и духа или в воспитании воли и в чём состоит воля: в силе или в отречении? Если цель жизни в достижении отречения, то приходите болезни, препятствия, страдания всякого рода! Если же цель в проявлении человека со всеми его свойствами, то тогда надо обретать его целостность. Вызывать испытания — значит искушать Бога. В сущности, Бог справедливости заслоняет мне Бога любви. Я трепещу, но не доверяю. Всякий двойственный голос, борющийся в сознании, не есть ещё голос Божий. Спустись глубже в самого себя до тех пор, пока не услышишь только один голос, простой голос, уничтожающий всякое сомнение, дающий убеждение, ясность и спокойствие. Счастливы те, говорит апостол, которые находятся в согласии с самим собой и которые не осуждают себя в избираемом ими жребии. Это внутреннее тождество, это единство убеждений тем более трудно, чем более ум различает, разлагает и предвидит. Свободу трудно соединить с непосредственным единством инстинкта. Увы! надо, стало быть, тысячи раз взбираться на те же вершины, вновь приобретать уже достигнутые точки зрения, надо πολεμειν-πόλεμον [греч. быть готовым к брани]. Сердце, так же как и цари, под видом постоянного мира подписывает только перемирия. Итак, вечную жизнь нужно вечно приобретать. Увы, да! Даже мир есть борьба, или скорее борьба и деятельность это закон жизни. Мы находим покой только в усилии, как пламя находит существование только в горении. О, Гераклит! Стало быть, внешний вид счастья таков же, как и страдания; тревога и прогресс, рай и ад одинаково подвижны. Алтарь Весты и казнь Вельзевула горят тем же огнём. Да, в этом жизнь, жизнь двусторонняя, жизнь обоюдоострая. Один и тот же огонь уничтожает и освещает. Стихии Богов могут превратиться в стихию проклятых.
15 августа 1851 г.
Великое дело уметь быть готовым! Это драгоценное свойство, включающее в себя расчёт, глазомер и решительность. Для этого надо уметь резать, потому что не всё можно развязать; надо уметь освобождать существенное от опутывающих его мелочей, так как нельзя делать всех дел вместе, — одним словом, надо уметь упрощать свои обязанности, свои дела, свою жизнь. Уметь быть готовым — значит уметь тронуться с места.
Удивительно, как мы бываем обыкновенно опутаны тысячами препятствий и обязанностей, не существующих в действительности, но тем не менее запутывающих нас в свою паутину и препятствующих движению наших крыльев. Беспорядок делает нас рабами. Сегодняшний беспорядок уменьшает свободу завтрашнего дня.
Загромождение мешает свободе, а загромождение происходит от откладывания. Уметь быть готовым — значит уметь кончать. Ничто не сделано, что не окончено. Дела, которые мы оставляем за собой, впоследствии опять восстанут перед нами и затруднят наш путь. Пусть каждый наш день управится с тем, что его касается, очистит свои дела, пусть бережёт последующий день, и тогда мы всегда будем готовы. Уметь быть готовым – в сущности значит уметь умереть.
[ Для «Круга чтения» (24 июня, тема «Смерть»; 41, 437) Лев Николаевич не стал ничего переделывать в представленном ему тексте, но, к сожалению, взял из него только третий, заключительный, абзац (от слов «Загромождение мешает свободе…» до конца).
На наш взгляд, вся эта амиелева запись от 15 августа 1851 года, как она передана нам в русском переводе Марии Львовны Толстой – значительна по содержанию и великолепна изложением. Чего стоит одно только суждение о самопорабощении, самообескрыливании людей суетой ложных общественных ролей и обязательств! Недаром ведь – одна из заповедей в Нагорной проповеди Христа воспрещает именно давать обязательства, присягать, клясться, то есть брать на себя навязываемые лжехристианским обществом роли и звания, «загромождающие» для человека путь жизни в воле Бога – исполнения Его воли в единственном не ложном звании человека, члена всего прошлого, настоящего и будущего человечества.
В отрывке, взятом Толстым, есть довольно чёткая отсылка к поучению Христа, следующему в евангелии от Матфея как раз следом за вышеупомянутыми словами о «двух господах». «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём: довольно для каждого дня своей заботы» (Мф., 6: 34).
Но вне контекста предшествующих двух абзацев этот отрывок может быть понят читателем искажённо, как часто понимается и проповедь Христа: как требование человеку только сосредоточиться на суете и проблемах сегодняшнего дня и не откладывать обслуживание их на завтра, а не как мудрый совет попросту… не загружать ими себя, памятуя своё настоящее положение сына Бога и посланника Его в мире. Пока человек помнит его – он живёт.
Суждение Амиеля (а также сопутствующие ему мысли Марка Аврелия, Спинозы и Руссо) Лев Николаевич здесь же, в записях «Круга чтения» на 24 июня дополняет и уясняет для читателя своими мыслями:
«…Есть дело, которое всегда нужно и, чем ближе к смерти, тем нужнее, – дело души: растить, воспитывать душу».
Растится же душа – делами человека. Теми делами, без которых вера мертва. Теми делами, – пишет Лев Николаевич, – «которые всегда вполне закончены, – это дела любви, не ищущей награды». ]
6 сентября 1851 г.
Время великих людей уходит. Наступает эпоха муравейника, жизни толпы. Очень может случиться, что если только отвлечённое равенство восторжествует, то в век индивидуализма не будет больше появляться настоящих индивидуальностей. Постоянное уравнение и разделение труда сделают то, что общество будет всё, а человек — ничего.
Так же как дно долин поднимается вследствие оголения и осыпания гор, так всё среднее поднимается в ущерб всякому величию. Исключение сгладится. Плоскость всё менее и менее волнистая, без контрастов, без противоположений, однообразная — таков будет вид человеческого общества. Статистик отметит возрастающий прогресс, а моралист — постепенный упадок. Прогресс вещей, упадок душ. Полезное займёт место прекрасного, ремесло — искусства, политическая экономия – религии, арифметика — поэзии. Сплин сделается болезнью века равенства.
Неужели такова будет роковая судьба демократической эры? Не слишком ли дорого будет куплено всеобщее благосостояние, если оно куплено будет такою ценою? Неужели процесс творчества, который сначала стремился к постоянному выделению и увеличению без конца различий, вернётся назад, с тем чтобы одно за другим уничтожить эти различия? И равенство, которое в начале существования есть ещё инерция, оцепенение, смерть, станет, в конце концов, естественной формой жизни? Или, быть может, сверх равенства экономического и политического, к которому стремится социалистическая и не социалистическая демократия, принимая его слишком часто за предел своих усилий, установится новое царство духа, церковь как убежище, республика душ, в которой, сверх права и гнусной пользы, красота, самопожертвование, святость, героизм, энтузиазм, необыкновенное и бесконечное будут иметь поклонение и прибежище. Неужели утилитарный материализм, бесплодное благосостояние, поклонение своей плоти и своему я, поклонение временному и мамоне – представляют предел наших усилий и всю награду, обещанную нам за труды человеческого рода? Я не думаю этого. Идеал человечества без сравнения выше. Но животное первое заявляет требование, и потому, прежде чем вернуться к духовному благу, должно сначала уничтожить излишние страдания общественного происхождения.
18 ноября 1851 г.
Энергическая, с верою в себя утверждающая себя самоё субъективность, не боящаяся быть чем-либо особенным и определённым, не имеющая сознания своей субъективной иллюзии и не стыдящаяся его – мне совершенно чужда. Я преимущественно объективен в своей умственной жизни, и моя отличительная специальность состоит в том, что я могу стать на всевозможные точки зрения, видеть всякими глазами, — стало быть, не быть запертым ни в какую индивидуальную темницу. Отсюда способность к теориям и нерешительность в практике; отсюда критический талант и трудность самобытного творчества; отсюда тоже непродолжительная неопределённость убеждений и мнений до тех пор, пока способность моя оставалась инстинктом; но теперь, когда она стала сознательною и владеет собой, она может заключать и, в свою очередь, утверждать самоё себя. Так что эта способность, производившая прежде беспокойство, даёт теперь успокоение. Она говорит: успокоение ума только в абсолютном, чувство только в
бесконечном и душа только в божественном. Всё конечное неправдиво, неинтересно и недостойно занимать меня. Всё особенное неисключительно, а всё, что исключительно, отталкивает меня. Неисключительно только Всё; только через общение с Существом я нахожу свою цель. Только тогда, в свете абсолютного, всякая мысль становится достойной изучения, в бесконечном всякая жизнь — достойной уважения, в божественном всякое существо — достойным любви.
2 декабря 1851 г.
Отдели в самом себе частицу тайны, не распахивай себя всецело плугом исследования, но удержи в сердце своём невспаханный уголок пару для семян, приносимых ветром, и приберегай тенистый уголок для пролетающих птиц небесных; имей в душе своей место для нежданного гостя и алтарь для неведомого Бога. И если птица запоёт в твоей листве, не спеши подходить к ней, чтобы приручить её. И если ты ощутишь в глубине своего существа зарождение чего-то нового — мысли или чувства, не спеши подносить к ним света или взгляда; защити забвением рождающийся зародыш, окружи его миром, не сокращай его ночи, дай ему образоваться и вырасти и не разглашай своего счастья. Священное дело природы, всякое зарождение должно быть завешено тройным покрывалом стыдливости, молчания и тени.
Доброта есть основа такта, и уважение к другим — первое условие savoir vіvrе — уменья жить.
Кто молчит, того забывают, кто воздерживается, того ловят на слове (признавая его бессильным), кто не подвигается — пятится, кто останавливается, того перешли, перегнали, задавили; кто перестаёт расти, тот уже – уменьшается; кто перестаёт действовать, тот – отрекается от власти; состояние неподвижности есть начало конца, это опасный признак и предвестник смерти. Итак, жить — значит беспрестанно торжествовать, утверждать себя против разрушения, болезни, уничтожения и рассеяния нашего физического и нравственного существа. Жить, стало быть, значит беспрерывно желать или ежедневно возобновлять свою волю.
Не история учит совесть честности, но совесть учит этому историю. Факты развращают, мы исправляем их, не отступая от своего идеала. Душа морализирует прошедшее с тем, чтобы не быть деморализованной им. Как средневековые делатели золота, она находит в сосуде испытания только то золото, которое она вложила в него.
26 апреля 1852 г.
In der Beschr;nkung zeigt sich erst der Meister, — говорит Гёте [нем.- Лишь в чувстве меры мастерство приметно. Из стихотворения «Природа и искусство»]. Мужественное самоотвержение есть точно так же девиз мастеров жизни: мужественное — потому что храброе, деятельное, решительное, упорное — самоотвержение, стало быть, лишение, отречение, сосредоточение, ограничение. Самоотверженная энергия — это мудрость сынов земли. Это единственно возможная душевная ясность в этой жизни усилий и борьбы; это мир мученика и обещание победы.
28 апреля 1852 г.
Весеннее умиление, ты вновь вернулось и посетило меня после долгого отсутствия. Сегодня утром и поэзия, и пение птиц, и спокойные лучи, и воздух зеленеющих полей — всё подступило мне к сердцу. Теперь всё молчит. О молчание, как ты страшно! Страшно, как спокойствие океана, в непостижимую бездну которого погружается наш взгляд; ты показываешь нам в нас самих глубины, от которых кружится голова, неутолимые потребности, сокровища страдания и сожаления. Приходите же, бури! Они, по крайней мере, хоть колеблют поверхность этих волн, прикрывающих страшные тайны. Вейте, страсти! Подымая волны душевные, они ими скрывают бездонную пропасть. Нам всем, детям греха, сынам времени – вечность внушает невольный ужас, а бесконечность – какой-то таинственный страх. Нам кажется, что мы вступаем в царство смерти. Бедное сердце, ты жаждешь жизни, любви, мечты, и ты всё-таки право, потому что жизнь священна.
До какой степени иначе представляется жизнь и те мгновения, когда находишься с глазу на глаз с бесконечным! Как всё, что занимает, поглощает, волнует и наполняет нас обыкновенно, представляется нам вдруг пустым, ничтожным и тщетным. Мы представляемся самим себе марионетками, которые, серьёзно проделывая фантастические роли, принимают побрякушки за драгоценные вещи.
Как тогда всё преображается и кажется иным! Берклей и Фихте тогда правы, и Эмерсон тоже: мир есть только аллегория; мысль реальнее факта; волшебные сказки, легенды так же истинны, как и естественная история, даже более, так как они более прозрачные символы: собственно говоря, единственная сущность — это душа; что же всё остальное? Тень, предлог, образ, символ и сновидение; одно сознание только бессмертно, положительно и совершенно реально; мир есть фейерверк — величественная фантасмагория, цель которого есть увеселение и образование души. Сознание есть вселенная, солнце которого есть любовь.
[ Последний абзац был позаимствован Львом Николаевичем для «Круга чтения» почти целиком. Сравн.: «Круг чтения», записи на 29 мая, тема «Божественная природа души» (41, 354).
Подпись «по Амиелю» указывает нам на существенность внесённых Толстым в исходный текст правок. И действительно, предполагая сделать амиелев Le journal intime максимально понятным для народного русского читателя, а мысли, в нём выраженные, более яркими, отчётливыми в каждой их смысловой грани, Лев Николаевич значительно изменил и этот отрывок. Так, термины «аллегория» и «символ» были заменены, соответственно, на «подобие чего-то» и просто «подобие». Ушли из текста абстракции «сущности» и «положительности», а характеризующие мироздание лексемы «фейерверк» и «величественная фантасмагория» Толстой гениально свёл к понятию «игры» (вероятно, по Божьим правилам?), служащей «образованию и усилению души» разумного существа. Именно «усилению», а не «увеселению», как оказалось в русском переводе Марии Львовны – не исключено, что лишь по её описке… Наконец, удалив слово «вселенная» Толстой сделал яснее завершающую суждение Амиеля метафору любви как «солнца сознания» (le soleil de la conscience).
Данный отрывок, особенно в толстовском его переложении, наводит на множество размышлений о попытках Л.Н. Толстого к философскому осмыслению и развитию (или преодолению?) субъективно-идеалистических концепций, выраженных в сочинениях не только упоминаемых Амиелем Беркли, Фихте и Эмерсона, но и, скажем, в стихах особенно обожаемых Львом Николаевичем родных поэтов Фёдора Тютчева и Афанасия Фета. Амиель ведь тоже писал стихи, пусть и не совсем успешные… но поэтом он был, несомненно. Но это уже должно быть темой особого исследования. ]
29 апреля 1852 г.
Сегодня утром воздух был тих, небо слегка заволочено. Мне хотелось в саду проследить успехи растительности; я пересмотрел ирисы, сирень, клумбы и беседки. Прелестная неожиданность! На повороте одной из аллей почти скрытый в чаще chorchorus, со своими маленькими листиками, расцвёл за ночь. Свежий и нарядный как свадебный букет, этот венчаный кустик блестел передо мной во всей прелести начавшегося расцветания. Сколько весенней невинности и изящной целомудренной красоты было в этих белых венчиках, подобно мыслям, улыбающихся вам при пробуждении, скромно распустившихся над этой молодой листвой такой девственной зелени. Мать всех чудес, таинственная и нежная природа, отчего мы не живём ближе к тебе? Поэтические праздные юноши Топфера, его Карлы, его Юлии, страстные друзья и любовники твоих тайных прелестей, эти восхищённые и ослеплённые наблюдатели представлялись моему воображению как укоризна и урок. Скромный садик священника, узкий горизонт чердака заключают в себе для того, кто умеет смотреть и ждать, более поучительного, чем целая библиотека, даже чем библиотека «моего дяди»! [Имеется в виду некогда знаменитая книга соотечественника А. Амиеля женевца Родольфа Тёпфера (Rodolphe T;pffer, 1799 - 1846) «Библиотека моего дяди». – Р.А.] Да, мы слишком озабочены, слишком загромождены, слишком заняты и слишком деятельны! Мы слишком много читаем. Надо уметь сбрасывать через борт весь груз своих хлопот, забот и педантства. Сделаться молодым, простым, превратиться в ребёнка, жить настоящей минутой, быть благодарным, наивным и счастливым. Да, надо уметь быть праздным, что не значит ленивым. Во внимательном и сосредоточенном бездействии складки нашей души сглаживаются, она расправляется, развёртывается и потихоньку оживает, как стоптанная трава у дороги и как повреждённый лист растения, восстановляет свой ущерб, становится опять новой, самобытно-правдивой, оригинальной. Мечтание, как ночной дождь, заставляет вновь зеленеть усталые и поблекшие от дневного жара мысли. Нежное и плодотворное, оно будит в нас тысячи заснувших зародышей. Оно шутя накопляет материал для будущего и образы для таланта. Мечтание есть праздник мысли, и кто знает, что важнее и плодотворнее для человека: напряжённая ли работа недели или оживляющий отдых дня субботнего? Беззаботная праздность, так умно восхвалённая и воспетая Тёпфером, не только приятна, но и полезна. Это — целительная ванна, которая придаёт силу и гибкость всему существу – как душе, так и телу, это признак и праздник свободы, это радостный и целительный пир, пир бабочки, резвящейся и кормящейся в долинах и лугах. А душа, в сущности, — та же бабочка.
2 мая 1852 г. (Воскресенье).
Сегодня утром читал послание св. Иакова, толкование этого послания Селерье, некоторые мысли Паскаля, после того как провёл всё-таки более часа с детьми в саду. Я заставлял их всматриваться в цветы, кусты, обращал их внимание на жуков, улиток, чтобы развивать в них наблюдательность, чувство восхищения прекрасным и добродушие. Как велико значение первых бесед для раннего детства! Я это сознавал с благоговением. Невинность и детство священны. Сеятель, кидающий семена, отец или мать, которые бросают в душу ребёнка плодотворное слово, совершают священное дело и должны бы всегда совершать его религиозно, с благоговением и молитвой, ибо они трудятся для Царствия Божия. Всякий посев есть дело таинственное, попадает ли брошенное семя на земную почву или в души человеческие. Всякий человек подобен земледельцу; вся задача его, если её хорошо понять, заключается в разработке жизни и рассевании её повсюду; таково призвание человечества и призвание это — свято. И слово — его главное орудие. Мы слишком часто забываем, что слово в одно и то же время — и посев, и откровение. Последствия слова, сказанного вовремя, неисчислимы. О, как глубоко значение слова! Но мы тупы, потому что мы телесны. Мы видим камни, деревья по сторонам дороги, обстановку наших жилищ, мы видим всё, что есть вещь и материя. Но мы не различаем вереницы невидимых мыслей, которые наполняют воздух и постоянно бьют своим крылом вокруг каждого из нас.
[ Все эти три вышеприведённые «весенние» записи амиелева дневника (с 28 апреля по 2 мая 1852 г.) поражают не только своей содержательностью и глубиной, сопоставимыми с многостраничными трудами многих философов, не только интимным лиризмом, достойным стихотворной элегии, но и множеством христианских, евангельских образов. Источники своих рефлексий Амиель, кстати, называет здесь же сам: это евангелия (в частности, послание Иакова) и философия Паскаля. Мы встречаем в записях этих дней и образы ребёнка и детства как состояния той «простоты мудрости», к которой необходимо должны прийти люди, дабы мир мог войти в царство Божие. Тут же – образ расцветшей к радостному, беззаботному восприятию мира «души-бабочки» христианина, семантически близкий другим крылатым созданиям — «птицам небесным» из проповеди Христа (Мф. 6: 25-26). Наконец, один из священнейших для христианского сознания образов, восходящих к притче Христа (Мф. 13: 3 – 23; Мк. 4: 3 – 20; Лк. 8: 5 – 15), – слова Божьей истины и его проповедников-«сеятелей», обращающихся к детям и взрослым ради грядущего торжества царства Бога в мире.
И сами эти образы, и созерцательность и беззаботная радость, выраженные здесь швейцарским мыслителем, без сомнения, оказались особенно близки Толстому. Отрывок из записи от 2 мая 1852 г. он включил в почти неизменном виде в «Круг чтения» (41, 301), а в значительной редакции – в сборник «На каждый день» (43, 106).
Кажется, в период 1906-1910 гг., когда составлялся сборник «На каждый день», Толстой пересмотрел отчасти своё отношение к Амиелю, скорректировав прежние симпатии… Во всяком случае, в книге «На каждый день» образы отца и матери были вполне реалистично и разумно дополнены «воспитателем», а их общение с ребёнком из возвышенно-евангельского семени-слова превратилось во вполне обыденные «слова», которыми воспитатели (включая сюда и родителей) «бросают в душу ребёнка основу его миросозерцания». «Благоговение», с которым они это должны делать, оставлено, а вот упоминания «религиозности» и «молитвы» – удалены. Суждение «мы тупы, потому что мы телесны» – также пропало: вероятно, будучи расценено Толстым как излишнее для передачи мысли.
Отчего так получилось у Толстого с этим отрывком? Откуда эта эволюция от полноты симпатии и любования к его неполному, критическому приятию, необходимости смысловой «надстройки»?
Вопрос этот – непростой. Опять же, для подробного рассмотрения этой проблемы потребовалось бы особенное исследование.
Если совсем кратко: в жизни Толстого были несколько евангельских «птиц небесных» и, как минимум, три различные отношения к этому образу: наблюдателя, искателя, и… собственно «птицы небесной». Первые «птицы» были у молодого Льва общие с Амиелем: ими стали вышеупомянутый евангельский проповедник деятельной любви и братского сожития апостол Иаков, равно как и апостол Иоанн (предание о проповеди которого в старости Толстой-христианин особенно ценил).
Это не означает, что указанные образы сводятся именно к состоянию «птицы небесной». Они и не являются ими на высотах своей жизни. Они – ученики и сопутники учеников Христа, наставники. Но пока человек не созреет для ученичества, то есть пока не пробудится его разумное сознание к сомнению, поиску и возможности высшего, чем общее для его современников, понимания жизни – высота наставничества просто непостижима для такого человека, и всё, что он видит в людях, стоящих на этой ступени, – это их неотмирность, «святость», юродивость, даже безумие…
На следующем этапе – экзистенциальных исканий зрелых лет – Толстой, суммируя опыт своей жизни создал одни из самых близких ему образов пути от рабства учению мира: Пьера Безухова и князя Андрея Болконского в романе «Война и мир». Умирающий князь Андрей прозревает к новому пониманию жизни-любви, отрицающему старое, окружавшее его. (Когда к такому отрицанию пришёл в начале 1880-х гг. сам Лев и выразил его в сочинениях «Исповедь» и «В чём моя вера», его самого поспешили отнести к «нигилистам» и отрицателям едва ли не всей жизни…) Узы земных соблазнов и суеверий разорваны, и человек готов сделаться учеником Бога и Христа, «клевать зёрна» разумного учения жизни – «хлеба жизни», который «един на потребу»… Пиши Толстой этот свой роман тремя десятилетиями позже, когда не только общее с Паскалем и Амиелем поприще маломысленного сперва следования учению мира (установкам общества, церкви и др.) с постепенно нарастающими сомнениями в его истинности, но и второе поприще – ученичества, на котором он с Амиелем разошёлся – было пройдено, то, вероятно, автор не «убил» бы своего князя, а сделал бы тем, чем у него в романе лишь в самой малой части делается Безухов Пьер и чем вполне сделался сам Лев Николаевич в последние десятилетия жизни: общественным деятелем и просветлённым наставником-учителем. Такие земные поприща реализуются как рабами и прислужниками учения мира, так и учениками Бога. Невозможны они – только для срединного поприща и характерного для него переходного состояния сознания индивида: для учащегося послушника Христа, для «птицы небесной». Дело такого ученика: смиряться, доверять Богу, созерцать открывающуюся истину... Подниматься, насколько осилишь, по «ступенькам» Нагорной проповеди. Любовь к враждующим, отвечание любовью на вражду – один из тяжелейших уроков. Она предполагает стойкое видение в каждом (и глупом, и злом…) из ближних – Бога, любви к Нему и к человеку как земному проявлению Божественного.
Анализируя актуализации библейского образа «птицы небесной» в творчестве и жизни Л.Н. Толстого, современный исследователь И.Б. Мардов подчёркивает, что «человек является в земную жизнь непосредственно от Бога, Птицей Небесной, и она-то и действует в его духовной жизни» (Мардов И.Б. Лев Толстой на вершинах жизни. М., 2003. – С. 232).
(Но «крылья» этой птицы, надо здесь заметить, могут и спутать, и даже подрезать те самые родители и прочие ложные воспитатели, о которых говорит Амиель. Это и случается с большинством детей в наших лжехристианских обществах…).
«Птицы небесные», достигшие высшей ступени, возможности продуктивных поучения и наставничества словом и примером – это и обожаемые Львом Николаевичем евангельские апостолы, и некоторые его фавориты из числа исторических лиц: например, святой брат человечеству, птицам и детям Франциск Ассизский; или чех Ян Палечек, легенду о котором Толстой пересказал русскому читателю; или, наконец, французский мыслитель Фелисите Робер де Ламеннэ (1782 - 1854), в судьбе которого Толстой проследил проявившиеся в особенно яркой форме эти самые «ступени развития» от рабства и даже прислужничества (честолюбивого и/или корыстолюбивого) учению мира к отрицанию его в свете открывшейся разуму и совести высшей истины (см. очерк Л.Н. Толстого о Ламеннэ в «Круге чтения»).
На этапе разрыва человека с прежними единомышленниками, ученичества, его перестают понимать друзья и близкие, остающиеся рабами мира; но тогда они ещё могут сочувствовать ему и беспокоиться о нём. При достижении же полноты просветления разумного сознания человека в новом жизнепонимании, обретения им новых систем психоэмоциональных связей с миром, ценностей, приоритетов – как никогда делается актуальной заповедь о любви к враждующим: ибо прежде не понимающее духовной эволюции человека и оттого сочувственное ему окружение видит некоторый итог такой эволюции, видит новое и зрелое существо, и – ненавидит его! Образец тут – жена Толстого, Софья Андреевна, к 1890-м гг. определённо перешедшая от прежнего беспокойно-непонимающего сочувствия мужу к неприязни к нему именно в его ипостаси зрелого наставника, исповедника Христа, духовного учителя и практика. Он же – не мог, в свою очередь, удовлетворить её психоэмоциональных потребностей рабы и жертвы мирского и лжехристианского церковного учений. Как не может влезть назад в яйцо вставшая на крыло Птица. Как не пожелает присосаться к львице уже самостоятельный, подросший Лев…
«Не думайте, что я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл я принести, но меч,
Ибо я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её.
И враги человеку – домашние его.
Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня; и кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня;
И кто не берёт креста своего и следует за мною, тот не достоин меня» (Мф. 10: 34 – 38).
На суждения «птицы небесной», ученика Бога и учителя собственной души Анри Амиеля Лев Толстой 1900-х гг. мог смотреть уже только «сверху вниз»: со своей ступени «всемирного, или божеского» (как он сам называл его) жизнепонимания. Как человек, воротившийся от ступени неделания и смиренного созерцания и ученичества (о которой он рассказал, как только сам прошёл её, в 1893 году в особой статье «Неделание») к активной общественной жизни и наставничеству – но только уже общественной активности и учительству мудреца и обличителя неправд, ещё соблазнявших большинство его современников. Вот и в анализируемом отрывке (как и в ряде других) для Толстого стал важен именно этот, «практически-прикладной», аспект «посева» истины в сознании людей. ]
6 мая 1852 г.
Подобно горной флоре, женщины определяют с наиболее характерной точностью градацию возвышающихся друг над другом слоёв общества. Ступени цивилизации резче всего выражаются в них. Они менее резки в мужчинах. В женщинах они сменяются с правильностью явлений природы. В мужчинах они проявляют неожиданные особенности свободы. Дело в том, что мужчина своей деятельностью сам себя образует, женщину же образует судьба; мужчина своею энергиею изменяет и переделывает по-своему обстоятельства; женщина же подчиняется им и отражает их в своей кротости. Женщина скорее — род, мужчина — индивид.
Таким образом, странное дело, женщины в одно и то же время являются полом наиболее однообразным и вместе с тем наиболее различным: наиболее однообразным с точки зрения моральной, наиболее различным с точки зрения социальной. Братство в первом случае и иерархия во втором. Все ступени культуры, все условия жизни ясно выражены в их наружности, обхождении и вкусах; но их внутреннее братство выступает в их чувствах, инстинктах и их желаниях. Женский пол одновременно представляет естественное равенство и историческое неравенство. Он поддерживает единство рода и разграничивает категории общества; он приближает и разделяет, совокупляет и разъединяет, он порождает касты или разрушает их. В сущности, назначение женщины — удерживать старое, но она удерживает всё без разбора. С одной стороны, она удерживает дело Божье, то, что есть неизменного, возвышенного, истинно человеческого в человеке: поэзию, религию, добродетель, нежность, – с другой стороны, она удерживает дело случая, то, что есть преходящего, местного, искусственного в обществе, то есть обычаи, слабости, предрассудки и мелочности; она окружает одинаковой почтительной и упорной верой серьёзное и пустое, дурное и хорошее. Что делать! Нельзя отделить дыма от огня. Это роковой закон, и потому он хорош. Женщина — консерватор, предание, точно так же, как мужчина — прогресс. А потому, так как не может быть семьи и человечества без этих двух полов, без этих двух сил не может быть и истории.
14 мая 1852 г. (Ланси).
Вчера я философствовал на тему радости, молодости, улыбающейся весны и опьяняющих роз. Я проповедовал силу, забывая, что, если бы я был так же огорчен и испытан в жизни, как те два друга, с которыми я гулял, я бы рассуждал и говорил, как они.
Наши мировоззрения, как говорят, суть выражения нашего характера или оправдание нашего положения, то есть мы охотно принимаем за приобретённое то, что нам дано, мы думаем, что сами создали свою природу, и считаем свой жребий за завоевание. Иллюзия, порождённая нашим тщеславием, а также и потребностью свободы. Нам неприятно признать себя произведением случайных обстоятельств или раскрывшимся внутренним зародышем, а между тем мы получили всё, и часть, действительно нам принадлежащая, очень мала, ибо главным образом её составляют отрицание, противодействие, ошибки и заблуждения. Мы получаем всё — и жизнь, и счастье, но способ, каким мы это берём, — вот что наше. Будем же брать это доверчиво, не краснея, без боязни.
Примем от Бога и нашу природу, будем относиться к ней с любовью, твёрдостью и заботливостью: не примем зла и болезни, которые в нас, но примем самих себя, несмотря на болезни и зло. Не будем бояться чистой радости; Бог благ, и то, что Он делает, хорошо сделано. Примем с покорностью всё, даже и счастье, будем просить себе духа самопожертвования и отрешения от всего, а главное, духа радости и благодарности, истинного религиозного оптимизма, который видит в Боге отца и не требует благодарности за добрые дела свои. Надо дерзать быть счастливым и сметь высказывать это, признавая себя хранителем, а не творцом своего счастья.
12 августа 1852 г. (Ланси).
Всякая сфера жизни стремится к сфере более возвышенной и имеет уже откровения и предчувствия о ней. Идеал во всех своих формах есть упреждение, пророческое видение о жизни высшей, чем собственная, которой постоянно стремится достичь всякое существо. Эта жизнь, высшая по своему достоинству, по своей природе более внутренна, т.е. более духовна. Как вулканы приносят нам тайны недр земного шара, так и энтузиазм, экстаз суть преходящие взрывы этого внутреннего мира души. И человеческая жизнь не что иное, как приготовление к наступлению этой духовной жизни. Ступени посвящения в неё неисчислимы. Итак, бодрствуй, ученик жизни, кризолида ангела, работай над твоим будущим расцветом, потому что божественная Одиссея есть не больше, как ряд превращений всё более и более одухотворённых, где всякая форма есть результат предыдущих и вместе с тем необходимое условие тех, которые за ней следуют. Божественная жизнь есть ряд последовательных смертей, в которых дух отбрасывает свои несовершенства и свои символы и уступает возрастающему притяжению невыразимого центра тяжести солнца, разума и любви.
27 сентября 1852 г. (Ланси).
Сегодня мне исполнилось 31 год.
Самая прекрасная поэма – это жизнь, жизнь, которую в одно и то же время читаешь и сочиняешь, в которой увлечение и совесть соединяются и помогают друг другу, жизнь, которая признаёт себя микрокосмом и перед Богом представляет в малом виде всемирную божественную поэму. Да, будь человеком, то есть будь природой, будь духом, будь образом Бога, будь тем, что только есть самого великого, самого прекрасного и самого возвышенного во всех сферах существования, будь мыслью, бесконечной волей и воспроизведением великого целого. И будь всё, не будучи ничем, обезличиваясь, давай Богу войти в тебя, как воздух входит в пустое пространство, признавая своё эгоистическое я только за сосуд, содержащий божественную сущность. Будь кроток, сосредоточен и молчалив, чтобы слышать тихий и глубокий голос внутри тебя самого. Будь духовен и чист, чтобы войти в общение с чистым разумом. Входи часто в святилище твоей совести, входи в точку атома, чтобы освободиться от пространства, времени, материи, соблазна, рассеяния, чтобы уйти от твоих органов, от твоей собственной жизни, т. е. умирай часто и вопрошай себя перед лицом этой смерти, для приготовления к последней и настоящей. Тот, кто может без содрогания вообразить себя слепым, глухим, паралитиком, кого не ужасает болезнь, предательство, нищета, тот, кто без трепета может предстать перед лицом высшей справедливости, тот только может считать себя приготовленным к смерти, временной или совершенной.
О, как далёк я от этого, как далеко моё сердце от такого стоицизма! Но, по крайней мере, отрешиться от всего того, что может быть отнято, принимать всё как ссуду, как дар и дорожить только нетленным – вот что надо испытать. Верить в Бога доброго, отеческого и воспитывающего, умеряющего ветер для остриженной овцы, наказывающего только по необходимости и отнимающего только с сожалением: это убеждение даёт смелость и сознание безопасности. О! как мы нуждаемся в любви, нежности, привязанности, доброте и как мы уязвимы, мы, сыны Бога, мы, бессмертные и владыки, сильные как мир или слабые как червяки, смотря по тому, изображаем ли мы Бога или самих себя, опираемся ли мы на Существо или мы одни.
Только мировоззрение религиозное, религии деятельной, нравственной, духовной и глубокой, одно только оно придаёт жизни всё её достоинство и энергию. Оно делает неуязвимым и непобедимым. Землю можно победить только именем неба. Все блага даются только тому, кто ищет только мудрости. Только тогда бываешь сильнее всего, когда вполне бескорыстен, и мир у ног того, кого он не может обольстить. Почему? Потому что дух властвует над материей и мир принадлежит Богу. «Мужайтесь, — сказал небесный голос, — я победил мир!»
Боже, дай силы слабым, желающим доброго.
[ Как и предыдущая из проанализированных нами, эта запись – а точнее, её последние два абзаца, – была использована Л.Н. Толстым в двух его сборниках мудрой мысли: в «Круге чтения», в теме 9 октября «Божественная природа души» (42, 134) и в книге «На каждый день», в теме 21 апреля «Усилие самоотречения» (43, 223). Смысловая связь этих тем ясна и вполне коррелирует с общим содержанием амиелевой записи от 27 сентября 1852 г.: усилия самоотречения необходимы во имя торжества высшей, духовной, божеской природы человека, преодоления страха страданий и смерти.
Но, несмотря на тематическое совпадение, Лев Николаевич, судя по всему, явно не был удовлетворён тем, как, в каких выражениях Амиель передал эти свои драгоценные мысли на письме. Он отредактировал текст выбранных им абзацев – и местами до неузнаваемости!
Так, в варианте «Круга чтения» (более пространном и раннем) в первом предложении («Только мировоззрение религиозное…» и т.д.) характеристики «деятельности», «нравственности», «духовности» и «глубины» приданы составителем не «религии», а – что более точно – «религиозному сознанию» человека. Остальной текст не изменён (см. 42, 134). Но зато в книге «На каждый день» этого предложения или какой-либо его модификации мы не отыскиваем совершенно, а следующий за ним текст записи (от слов «Все блага даются…» до конца) – сильно изменён и сокращён до поистине изящной афористичности: «Высшее благо дано тому, кто ищет только праведности. Быть самоотверженным значит быть сильным, и мир у ног того, кого он не может соблазнить» (43, 223).
Итак, по мысли Льва Николаевича, устремляться надо не к «мудрости», то есть некоему индивидуальному интеллектуальному и эмоциональному особому пониманию и восприятию мира, а именно к «праведности», то есть повседневным делам добра и любви, совершаемым не по мудрой уверенности в их оправданности, а только по доверию к Богу и Его учению о единых законах жизни всякого разумного и нравственного существа. Первичны любовь, доверие и дела, а никак не полнота понимания или точность истолкования слова Божия людям. Не надо перетолковывать, лукавить, чтобы избежать труда личных усилий совершенствования – надо честно исполнять хоть даже немногое, что понято наверняка. И, исполняя это истинно понятое, человек будет искать для себя не всех благ (включая блага низшей, животной жизни), а именно высшего блага: уверенности и радости, блаженства в исполнении закона любви. ]
6 ноября 1852 г.
Я способен на все страсти, потому что они все во мне; как усмиритель диких зверей, я держу их в клетках и на привязи, но слышу иногда их рычания. Я задушил в себе не одну зарождающуюся любовь. Почему? Потому что верным пророческим чутьём нравственного сознания я чувствовал, что она не живуча и менее продолжительна, чем моя жизнь. Я задушил её в пользу будущей, окончательной привязанности. Любовь чувственная, воображаемая и сентиментальная – я видел тщету её и отбросил, я хотел любви настоящей и глубокой. И я теперь верю в неё. Я не хочу этих страстей, которые вспыхивают как солома, ослепляют, сжигают и иссушают; я призываю, надеюсь и жду великой, святой, важной и серьёзной любви, которая живёт всеми фибрами, всеми силами души. И если мне суждено остаться одиноким, я предпочитаю унести с собой свою надежду и мечту, чем связать неравным браком свою душу (m;sailler mon ;me).
8 ноября 1852 г.
Ответственность перед собою – это мой главный, невидимый кошмар. Страдать по своей вине — это страдания проклятых, потому что смешная сторона этого увеличивает страдания. Нет ничего хуже, как стыдиться перед самим собою. У меня бывает сила и энергия только против зол, приходящих извне, но непоправимое зло, сделанное мною самим, отказ от своей воли на всю жизнь, от своего спокойствия, свободы — одна мысль эта приводит меня в бешенство. Я должен платить за своё преимущество. Преимущество же моё в том, что я присутствую при драме своей жизни, сознаю трагикомедию моей судьбы; мало того, знаю секрет этого трагикомизма, состоящего в том, что я не могу принимать серьёзно моих иллюзий, что я смотрю на себя из залы на сцену, с того света на эту жизнь и должен притворяться, что интересуюсь своей индивидуальной ролью, тогда как я пользуюсь доверенностью сочинителя, не считающего важными все эти обстоятельства и знающего то, чего не знают зрители. Это странное положение, которое становится жестоким, когда страдание заставляет меня возвратиться к моей маленькой роли, с которой оно меня связывает, предупреждая меня о том, что я слишком эмансипируюсь после моих разговоров с поэтом, предполагая, что я могу освободиться от роли слуги в комедии. Шекспир должен был испытать это чувство, и Гамлет, мне кажется, где-то и выражает его. Это двойничество, Doppelg;ngerei, – совершенно немецкое, которое вполне объясняет столь обычное отвращение от общественной жизни немецких мыслителей. Есть какая-то деградация, гностическое падение в том, чтобы, сложив свои крылья, вернуться в грубую скорлупу простого смертного. Без страдания, которое составляет ту бечёвку, на которой держится этот смелый летучий змей, человек поднялся бы слишком скоро и слишком высоко, и избранные люди были бы потеряны для своего рода, как баллоны, которые без тяготения не вернулись бы из небесных пространств.
Как же увеличить в себе смелость для деятельности?
Допуская в себе бессознательность, непосредственность, инстинкт, которые возвращают к земле и указывают на добро относительное и полезное.
Практически веруя в провидение, которое прощает и позволяет исправить испорченное, более наивно и просто принимая условия человеческой жизни, менее боясь труда, менее рассчитывая и более надеясь, то есть уменьшая ответственность предвидением и уменьшением ответственности уменьшая робость, приобретая более опытности потерями и уроками.
Ошибка тем опаснее, чем более она заключает правды... Для того чтобы решить, что верно, пересмотри раз и другой, для того чтобы узнать, что красиво, – взгляни только один раз.
Всякий понимает только то, что находит в себе.
6 января 1853 г.
Религия ребёнка зависит от образа действий, а не от образа выражений его родителей. Внутренний и бессознательный идеал, направляющий их жизни, есть именно то, что доходит до ребёнка; слова же их, выговоры, наказания, вспышки даже, для него не что иное, как комедия, гром; веру же их он предчувствует и чувствует инстинктом. Ребёнок видит, каковы мы, сквозь то, чем мы хотим казаться; от этого-то его репутация физиономиста. Он распространяет свою власть над каждым из нас, насколько может. Это тонкий дипломат. Он бессознательно подвергается влиянию каждого и отражает его, преображая посредством своей собственной природы; это увеличивающее зеркало. Вот почему первый принцип воспитания следующий: воспитывай сам себя; и первое правило, которому надо следовать для того, чтобы владеть волей ребёнка, – овладей своей.
[ В работах Льва Николаевича «На каждый день» и «Путь жизни» – несколько иная тематическая структура, нежели в «Круге чтения»: тема воспитания там как самостоятельная не рассматривается. Вот почему, несмотря на то, что запись дневника Анри Амиеля от 6 января 1852 г. затрагивает одну из самых животрепещущих для Толстого тем детского воспитания, текст её встречается нам только в «Круге чтения» – разумеется, в теме «Воспитание» (записи на 26 декабря, см. 42, 380).
Редакция, которой подверглась в «Круге чтения» эта запись – значительна, и, как обычно, служит у Толстого уточнению и уяснению той истины, которую сообщает в ней Амиель. Уточнено, что результат воспитания не зависит от «словесных наставлений» родителей (у Амиеля, как мы видим, употреблён менее ясный оборот «образ выражений», l’image d’expressions), а зависит от их веры, руководящей их поступками даже на уровне несознаваемого. То есть, по уточнению Льва Николаевича, их «внутренний идеал» должен быть религиозным. Образ ребёнка как «увеличивающего зеркала» в его обратной коммуникации с воспитателями – изъят Толстым: вероятно, как вызвавший у Льва Николаевича, многолетнего педагога-теоретика и практика и отца многочисленного семейства, ряд сомнений…
В остальном Толстой почти не изменил текста данного рассуждения Амиеля, тем самым как бы выразив полноту согласия с его основным положением.
Это положение Толстой разделял с давно покойным к тому времени женевским мыслителем даже в последние годы своей жизни. Так, к примеру, накануне состоявшейся 14 сентября 1909 г. беседы с народными учителями земских школ Лев Николаевич подготовил статью «В чём главная задача учителя?», напечатанную в 1910 г. в журнале «Свободное воспитание». Здесь он называет «великим грехом» взрослых воспитателей внушение детям в возрасте беззащитности от обмана «коварной лжи», которая «извратит всю их последующую жизнь» (Толстовский листок. Толстой и о Толстом. – Вып. 11. – М., 2000. – С. 145). Известно, что к таковой лжи «поздний» Толстой, Толстой-христианин, относил, к примеру, религиозные и государственно-патриотические суеверия и догмы, в которые тайком не верят сами взрослые и живут независимо от них (те, кто не совсем без мозгов…), но которые, ради суеверия мнимых общественных благ или «необходимости» всегда внедряемы в массовое сознание обитателей государств, и всегда начиная с детства.
Истиной же, которую можно и нужно сообщать ребёнку, для Толстого до конца его земной жизни оставалась христианская религиозная нравственность, формирующая у человека ряд убеждений и привычек: помнить и любить Бога и ближних, никого не насильничать, не ругать, помогать людям воздерживаться от табака, водки, блуда, осуждения друг друга (Там же).
Под тем же днём 26 декабря в «Круге чтения» мы находим такие рассуждения Толстого, относящиеся, пожалуй, не столько к Амиелю и его кабинетным рефлексиям, сколько к личному педагогическому опыту Льва Николаевича:
«Для детей важнее всего приучить их к умеренности, простоте жизни, труду и милосердию. Но как же приучить их к этому, когда дети видят, что родители дорожат роскошью и увеличением её, предпочитают праздность труду и живут в избытке среди людей нуждающихся.
Всё нравственное воспитание детей сводится к доброму примеру. Живите хорошо или хоть старайтесь жить хорошо, и вы по мере вашего успеха в хорошей жизни хорошо воспитаете детей» (42, 381).
В том же «Круге чтения» Толстой опубликовал (после записей на 5 мая, также посвящённых воспитанию) выдержки из своего письма Павлу Ивановичу Бирюкову, написанного ещё весной 1901 г. (не позднее 5 мая; полный текст письма см.: 73, 62 - 69). Вот несколько наиболее значительных выдержек из него (в редакции Л.Н. Толстого специально для «Круга чтения»):
«В основу всякого воспитания должно стать прежде всего то, что заброшено в наших школах: религиозное понимание жизни, и не столько в форме преподавания, сколько в форме руководящего начала всей воспитательной деятельности. Религиозное понимание жизни, которое, по моему разумению, может и должно стать основой жизни людей нашего времени, выраженное наиболее кратко, будет такое: смысл нашей жизни состоит в исполнении воли того бесконечного начала, которого мы сознаём себя частью; воля же эта — в соединении всего живого и прежде всего людей: в братстве их, в служении друг другу.
<...>
Дети находятся, всегда — и тем более, чем моложе — в том состоянии, которое врачи называют первой степенью внушения, И учатся и воспитываются дети только благодаря этому их состоянию. (Эта их способность ко внушению отдаёт их в полную власть старших, и потому нельзя быть достаточно внимательным к тому, что и как мы внушаем им.) Так что учатся и воспитываются люди всегда только через внушение, совершающееся двояко: сознательно и бессознательно. Всё, чему мы обучаем детей — от молитв и басен до танцев и музыки, — всё это сознательное внушение; всё то, чему независимо от нашего желания подражают дети — в особенности в нашей жизни, в наших поступках, — есть бессознательное внушение. Сознательное внушение — это обучение, образование; бессознательное — это пример, воспитание в тесном смысле, или, как я назову, это просвещение. На первое в нашем обществе направлены все усилия; второе же невольно, вследствие того, что наша жизнь дурна, находится в пренебрежении. Люди, воспитатели, или, самое обыкновенное, скрывают свою жизнь и вообще жизнь взрослых от детей, ставя их в исключительные условия (корпуса, институты, пансионы и т. п.), или переводят то, что должно происходить бессознательно, в области сознательного: предписывают нравственные, жизненные правила, при которых необходимо прибавлять: fais се que je dis, mais ne fais pas ce que je fais (делай то, что я говорю, но не делай того, что я делаю).
<...>
Живёт какая-нибудь семья банкира, землевладельца, чиновника, художника, писателя богатой жизнью — живёт, не пьянствует, не распутничает, не бранясь, не обижая людей, и хочет дать нравственное воспитание детям; но это так же невозможно, как невозможно выучить детей новому языку, не говоря на этом языке и не показывая им книг, написанных на этом языке. Дети будут слушать правила о нравственности, об уважении к людям, но бессознательно будут не только подражать, но и усвоят себе, как правило, то, что одни люди призваны чистить сапоги и платье, носить воду и нечистоты, готовить кушанье, а другие — пачкать платье, горницы, есть кушанья и т. п. Если только серьёзно понимать религиозную основу жизни — братство людей, то нельзя не видеть, что люди, живущие на деньги, отобранные от других, и заставляющие этих других за эти деньги служить себе, живут безнравственной жизнью, и никакие проповеди их не избавят их детей от бессознательного безнравственного внушения, которое или останется в них на всю жизнь, извращая все их суждения о явлениях жизни, или с великими усилиями и трудом будет, после многих страданий и ошибок, разрушено ими.
Итак, воспитание, бессознательное вкушение, есть самое важное. Для того же, чтобы оно было хорошее, нравственное, нужно, страшно сказать, чтобы вся жизнь воспитателя была хорошая. Что назвать хорошею жизнью? — спросят. Степеней хорошества бесконечно много, но одна есть общая и главная черта хорошей жизни: это стремление к усовершенствованию в любви. Вот это самое, если есть в воспитателях и если этим заразятся дети, то воспитание будет недурное.
Для того чтобы воспитание детей было успешно, надо, чтобы воспитывающие люди не переставая воспитывали себя, помогали бы друг другу все более и более осуществлять то, к чему стремятся. Средств же для этого, кроме главного — внутреннего, работы каждого человека над своей душой, — может быть очень много. Надо искать их, обдумывать, прилагать, обсуждать...» (41, 304 - 306).
Итак, влияние педагогических взглядов Анри Амиеля на Толстого по проблеме педагогических воздействий на детей – несомненно. Но – не исключительно. Теоретические подступы и практические наработки, подводившие Льва Николаевича к признанию решающего значения нравственного примера педагога и воспитателя, были приобретены им ещё в молодые годы, когда дневника Амиеля он не знал, зато пребывал под несомненным влиянием сочинений другого, куда более знаменитого женевца – Жана Жака Руссо.
В издававшемся им в 1862 г. журнале «Ясная Поляна» Толстой критиковал систему образования в России, считая, что казённые школы и университеты отрывают людей от жизни, а не приближают к ней. Молодой Лев попытался на практике осуществить систему воспитания, изложенную Руссо в обожаемом «Эмиле». По его мнению, «единственный метод образования есть опыт, а единственный критериум его есть свобода» (Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 22-х т. Т. 16. – М., 1983. – С. 28). При этом он призывал основываться на природных задатках обучаемых, на их изначальном совершенстве: «человек родится совершенным, – есть великое слово, сказанное Руссо, и слово это, как камень, останется твёрдым и истинным. Родившись, человек представляет собой первообраз гармонии правды, красоты и добра» (Там же. – Т. 15. – С. 31). В дальнейшем человек теряет эту гармонию, считает Толстой, ибо воспитание портит человека. Поэтому нужно лишь не мешать свободному развитию ребёнка, нужно предоставлять ему больше свободы, самостоятельности, инициативы в обучении и вообще в понимании жизни. Роль учителя сводится при этом к роли помощника, собеседника, а роль наставника, применяющего методы принуждения и насилия, Толстой, в будущем проповедник христианского непротивления, уже решительно отвергает.
Ни в чём, как в воспитательных (или, скорее, развратительных?) действиях учителей и родителей, не сказывается в большей мере вредоносное давление на ребёнка мира взрослых, каждый из которых, зажатый в своём общественном положении банкира, царя, купца, жулика, политика, рабочего, нищего, профессора и т.п., завидует детской свободе и чистоте, возводя свою зависть «в принцип и теорию» (Пед. соч. - С. 243). «Я убеждён, - пишет Л.Н. Толстой в статье 1862 года “Воспитание и образование”, – что воспитатель только потому может с таким жаром заниматься воспитанием ребёнка, что в основе этого стремления лежит зависть к чистоте ребёнка и желание сделать его похожим на себя, то есть более испорченным». (Выдел. наше. – Р.А.).
В последующие годы Толстой скорректировал свои воззрения на воспитание, основываясь на учении Христа, понятом им в его настоящих силе и значении. Люди не следуют этому учению, грешат, и приёмы своих грехов и их оправданий (суеверий, или попросту лжей) передают «по наследству», как вербально, так и примером своих дурных поступков. Зависти к детям нет, но есть страх и неприязнь к той истине, которая выражается в глазах всякого явившегося в мир и ещё не совращённого им ребёнка – птицы небесной, чьи крыла неизбежно будут кощунственно искалечены во имя пресловутой «социализации индивида в социуме»… ]
20 марта 1853 г.
Сон есть просеивание своих волнений, сбрасывание своей тины, успокоение своей души, вылечивание своей лихорадки, возвращение себя в недра материнской природы и там преображение себя в лучшего и более сильного. Сон есть некоторого рода невинность и очищение. Благословен тот, кто дал сынам человеческим этого верного и твёрдого спутника жизни, этого ежедневного восстановителя и утешителя.
27 октября 1853 г.
Благодарю тебя, Господи, за час, который я только что провёл в Твоём присутствии. Я узнал Твою волю, я оценил свои ошибки, счёл свои слабости и почувствовал Твою доброту ко мне. Я насладился своим ничтожеством. Ты дал мне мир Твой. В горечи сладость, в горе радость, в сокрушении сила, в Боге казнящем – Бог любящий. Потерять жизнь, чтобы прибрести её, отдавать, чтобы получить её, ничего не иметь, чтобы всё покорить, отречься от своего я, чтобы Бог отдался нам, – какая невозможная задача и какая дивная действительность! Без страдания не узнаешь истинного счастья, и выкупленный счастливей избранного.
(В тот же день).
Торжество страданий, превращение зла в добро – есть преимущественно божественное чудо. Вернуть посредством любви свободное существо к Богу и грешный мир к добру — это довершение творческого дела, это вечная воля бесконечного милосердия. Всякая обращающаяся от зла к добру душа есть символ истории мира. Быть счастливым, иметь жизнь вечную, быть в Боге, быть спасённым – всё это одно и то же: это решение задачи, цель существования. И блаженство растёт, как может расти и горе. Неизменно мирный и вечный рост, всё более глубокое вникновение, всё более сильное и духовное овладевание небесной радостью – вот в чём счастье. Счастью нет границ, потому что в Боге нет ни дна, ни берегов, а счастье есть овладевание Богом через любовь.
[ Для «Круга чтения» заимствован, и практически в неизменном виде содержательный и глубокий отрывок – со слов «Быть счастливым, иметь жизнь вечную, быть спасённым…» до слов «…счастье есть овладевание Богом через любовь» (31 мая, тема «Радость»; см.: 41, 357).
Но вот в более позднем по времени составления сборнике ежедневных чтений «На каждый день» (31 июля, тема «Жизнь – благо»; см.: 44, 68), равно как и в последнем толстовском сборнике мудрой мысли, тематической антологии «Путь жизни» (1910) мы находим этот же отрывок вот в такой, на наш взгляд отнюдь не безупречной и не самой удачной, редакции:
«Быть счастливым, иметь жизнь вечную, быть в Боге, быть спасённым – всё это одно и то же: это – решение задачи жизни. И благо это растёт, человек чувствует всё более сильное и глубокое овладевание небесной радостью. И благу этому нет границ, потому что благо это есть свобода, всемогущество, полное удовлетворение всех желаний».
Условия, при которых жизнь есть благо, названы и в исходном тексте Амиеля, равно как описывается им и состояние блаженства и радости. Так что данная редакция, на наш взгляд, не только литературно неудачна, но и избыточна, не нужна. ]
Центр жизни ни в мысли, ни в чувстве, ни в воле, ни даже в сознании, насколько оно мыслит, чувствует и хочет, потому что нравственная истина может быть усвоена всеми этими средствами и всё-таки ускользнуть от нас. Глубже нашего сознания находится наше существо: наша сущность, наша природа. Только те истины, которые входят в эту область, сделавшись нами самими, неожиданно и невольно, инстинктивно и бессознательно, только те составляют действительную нашу жизнь, то есть более, чем нашу собственность. Пока мы различаем какое-либо пространство между истиной и нами, мы вне её. Мысль, чувство, желание, сознание жизни – всё это ещё не есть жизнь. В сущности, мы можем найти мир и спокойствие только в жизни, и в жизни вечной. Жизнь же вечная – это жизнь божественная, это Бог. Быть божественным существом – вот в чём, стало быть, цель жизни: только тогда истина не может быть нами утрачена, потому что она уже более не вне нас, ни даже в нас, но мы сами составляем истину, а истина — нас; мы тогда истина, воля и дело Божье. Свобода делается тогда нашей природой, творение составляет одно с Творцом, соединяется с ним любовью, делается тем, чем оно должно быть. Его воспитание окончено, и начинается его окончательное блаженство. Солнце времени заходит, и появляется свет вечного блаженства.
Наши плотские сердца могут назвать это мистицизмом, но это мистицизм Христа. «Я и Отец одно. Я в Отце моём, и вы во мне, и я в вас».
[Сравн.: «Круг чтения», 15 июля, «Слияние своей воли с волей Бога»: 41, 504 – 505. Редакции здесь не значительны. Особо стоит отметить, что слова: «Глубже нашего сознания находится наше существо…» выделены у Толстого курсивом, как ключевые. ]
17 декабря 1854 г.
Когда мы не делаем ничего особенного, тогда только мы живём всем существом нашим. И мы перестаём расти только для того, чтобы овладевать собою и созревать. Воля перестаёт действовать, но природа и время действуют постоянно, и, несмотря на то, что жизнь наша уже не есть наше дело, дело жизни всё-таки продолжается. С нами, без нас или вопреки нам наше существование проходит все свои видоизменения; наша невидимая Психея ткёт шёлк своей кризолиды, наша судьба совершается, и каждый час нашей жизни приближает нас к тому расцвету, который мы называем смертью. Итак, эта деятельность неизбежна; сон и праздность не останавливают её, но она может сделаться свободной и нравственной, может стать радостью вместо ужаса.
Ничто так не характеризует человека, как его обращение с дураками.
[Сравн.: «Круг чтения», 25 октября, тема «Достоинство человека»; 42, 172. Эта запись Амиеля стала довольно популярным афоризмом. ]
Нам очень трудно не соглашаться с нашим самолюбием и не находить приятными тех, кто нас одобряет.
[Сравн.: «Круг чтения», 7 августа, тема «Тщеславие»; 41, 556. Всё высказывание выделено здесь у Толстого курсивом, что означает особенную, по мнению составителя, важность именно этой мысли].
Будем правдивы: в этом тайна красноречия и добродетели, в этом нравственное влияние, в этом высшее правило искусства и жизни.
[Сравн.: «Круг чтения», 15 мая, тема «Истина»; 41, 327].
16 апреля 1855 г.
О, какая сладостная вещь — хоть немного самого простого, наивного счастья! Даже теперь духовая музыка, остановившаяся на улице, заставляет вздрагивать моё сердце, как в 18 лет. Благодарю тебя, Боже мой! Уже несколько недель и месяцев я считал себя стариком. Приходите же, поэзия, природа, молодость, любовь, перемесите жизнь вашими волшебными руками, начните вновь во мне ваши бессмертные хороводы, пойте свои песни сирен, дайте мне пить из чаши бессмертия, верните меня на Олимп моей души. Или нет, лучше без язычества! Бог радости и печали, делай из меня что хочешь; хороша и печаль, хорошо и веселье. Ты ведёшь меня через веселье. Я принимаю его от тебя и благодарю за него.
27 июля 1855 г.
С точки зрения счастья вопрос жизни неразрешим, так как самые высокие наши стремления мешают нам быть счастливыми. С точки зрения долга то же затруднение, так как исполненный долг даёт мир, а не счастье. Только божественная святая любовь и обладание Богом верою уничтожает это затруднение, потому что если жертва стала радостью постоянной, растущей, ненарушимой радостью, то душа обеспечена достаточным, хотя и неопределённым питанием.
[ Амиель здесь продолжает тему условий радости и блага человеческой жизни, затронутую в комментированной нами выше записи от 27 октября 1853 г. Поэтому неудивительно, что у неё в толстовских антологиях практически та же судьба, что и у записи 27 октября: Лев Николаевич включил её во все три основных своих сборника, но везде – не в исходном виде, а с собственными правками.
Так, в «Круге чтения», в записях под 27 января («Любовь»; 41,62) первые два предложения перефразированы с сохранением основного смысла: отрицания высоких стремлений и долга как пути к счастью. Третье же предложение стало яснее по смыслу: стилистически корявый в русском переводе Марии Львовны оборот «обладание Богом верою» заменён на «слияние с Богом», а «достаточное, хотя и неопределённое питание» души человека превращено редакторским волшебством Льва Николаевича во вполне определённое «неперестающее благо»: благо не в виде награды Свыше, а в самой радости от усилий самоотречения.
Вариант в сборнике «На каждый день» – ближе к оригинальной записи Амиеля. Первые два предложения на этот раз процитированы без изменений, точно по переводу Марии Львовны. А вот судьба третьего, завершающего запись, предложения – различна в книгах «На каждый день» и «Путь жизни». В сборнике «На каждый день» (21 декабря, «Усилие самоотречения») перед нами ещё – какая-то промежуточная, явно не завершённая редакция: из неуклюжего «обладания Богом верою» в переводе Марии Львовны и «слияния с Богом» в «Круге чтения» Толстой слепил оборот «слияние с Богом верою» (44, 369). В книге «Путь жизни» (отдел ;;V, «Самоотречение») эта «вера», как смысловая тавтология (ибо «сливаться» с Богом без веры нельзя), снова отпала, а кроме того был окончательно решён и вопрос с «питанием души». И вот финал всех редакторских метаний Толстого (по кн. «Путь жизни»):
«С точки зрения счастья вопрос жизни неразрешим, так как самые высокие наши стремления мешают нам быть счастливыми. С точки зрения долга то же затруднение, так как исполненный долг даёт мир, а не счастье.
Только божественная, святая любовь и слияние с Богом уничтожают это затруднение, потому что тогда жертва становится постоянной, растущей, ненарушимой радостью» (45, 399). ]
21 января 1856 г.
Вчерашний день для меня так же далёк, как прошлый год; всё прошлое представляется моей памяти стоящим на одном плане, как звёздное небо моему глазу. Я также не могу найти в моей памяти ни одного дня из прошлого, как не мог бы найти стакана воды, вылитого в озеро; они не пропали, но распустились, индивидуальное вошло в общее; разделения времени суть категории, не могущей формировать моей жизни, так же как и отделения, намеченные тростью-палкой на поверхности воды, не оставляют на ней продолжительного отпечатка. Я – течение, и надо примириться с этим.
22 октября 1856 г.
Жизнь есть обучение прогрессивному отречению, постоянному уменьшению наших требований, наших надежд, наших сил, нашей свободы. Круг всё более суживается: хотел всё узнать, всё видеть, всего достигнуть, всё завоевать, и во всех направлениях приходишь к своему пределу. Non plus ultra. Богатство, слава, любовь, власть, здоровье, счастье, долголетие – все блага, которыми пользовались другие люди, представляются сначала обещанными и достижимыми, а потом надо дунуть на эту мечту, уменьшать постепенно свою личность, сделать себя маленьким, смиренным, чувствовать себя ограниченным, слабым, зависимым, незнающим, хилым, бедным, всего лишённым, и положиться во всём на Бога, потому что не имел ни на что права и потому что дурен. В этом-то ничтожестве и находишь ещё жизнь, потому что искра Божия в глубине его. Смиряешься и в доверчивой любви вновь завоёвываешь истинное величие.
27 октября 1856 г.
В важных вопросах жизни мы всегда одни, и наша настоящая история почти никогда не может быть понята другими. Лучшая часть этой драмы есть монолог или, скорее, задушевное рассуждение между Богом, нашей совестью и нами. Слёзы, горести, уныние, обманы, оскорбления, хорошие и дурные мысли, решения, нерешительности, взвешивания — всё это наши тайны; почти всё это не сообщаемо и не передаваемо другим, даже когда мы и хотим высказать это, даже когда пишем об этом. Самое драгоценное в нас никогда не показывается, оно не находит себе выхода даже в дружбе, достигает даже нашего сознания только отчасти, проявляется вполне только в молитве и, вероятно, может быть понято только Богом, потому что наше прошедшее уходит от нас. Наша монада может подвергаться влиянию других, но она всё же остаётся в своём центре так же непроницаема для них, и в конце концов мы сами же остаёмся вне нашей собственной тайны. Центр нашего сознания бессознателен, так же как ядро солнца тёмно. Всё, что мы есмь, всё, чего мы хотим, делаем, знаем, – всё более или менее поверхностно, и тьма непостижимой сущности находится ниже лучей нашей периферии.
Но тёмное существует только для того, чтобы перестать быть им, оно есть необходимое условие всякой победы и всякого прогресса. Называйся оно предопределением, смертью, ночью или материей – оно всё-таки пьедестал жизни, света, свободы, духа, потому что оно сопротивление, т. е. точка опоры деятельности, условия её развития и торжества.
[Сравн.: «Круг чтения», 30 сентября, тема «Мудрость»; 42, 107.
Толстой взял из записи Амиеля от 27 октября 1856 г. только два первые предложения и прибег к небольшой редакции: уточнил, что описываемая Амиелем «драма» «происходит в нашей душе».
Проблема естественной уединённости человека на вершинах его духовной и интеллектуальной жизни поднимается Львом Николаевичем в «Круге чтения» ещё как минимум в одной теме с характерным, «говорящим» названием: «Всё в себе».
Любопытно посмотреть в связи с этим, кто из предшественников и современников Толстого и Амиеля были их единомышленниками и единочувственниками по восприятию природы, Божьего мира и себя в нём – своей высшей жизни.
Среди часто встречающихся имён: немецкий философ Артур Шопенгауэр, увлечение которым Толстой пережил в зрелые годы, сохранив и впоследствие к нему уважение, американские философы-трансценденталисты Ральф Эмерсон и Генри Торо, американская же философствующая писательница Люси Малори. Особо следует отметить русского поэта-философ Фёдор Тютчева. Лев Николаевич в принципе не жаловал стихов, но в числе немногих высоко оценённых им стихотворений всегда было тютчевское «Silentium!». Оно настолько совпадало с толстовским пониманием естественного одиночества мысли и духа человека, что Лев Николаевич включил его в «Круг чтения» как раз под 30 сентября, вместе с суждениями собственными и Анри Амиеля.
Наконец, среди единомышленников Анри Амиеля встречаются в «Круге чтения» и его соотечественники: Паскаль, Ламенэ и Мопассан. Сразу за цитатой из записи Амиеля от 27 октября 1856 г. в тексте «Круга чтения» на 30 сентября Толстой пересказывает и развивает памятную ему мысль Паскаля:
«Паскаль говорит: человек должен умирать один. Так же должен и жить человек. В том, что главное в жизни, человек всегда один, т.е. не с людьми, а с Богом» (42, 108).
И будто вторит Амиелю и Льву другой великий француз и их младший современник – Ги де Мопассан, устами героя своей новеллы «Одиночество», которую Толстой попросил Л. П. Никифорова специально перевести на русский язык и включил в одно из «недельных чтений» «Круга чтения» (см. после записей на 11 августа):
«Что до меня касается, то я теперь от всех замкнул свою душу. Я никому не говорю, во что я верю, что я думаю, что люблю. Зная, что я осуждён на ужасное одиночество, я равнодушно гляжу на всё и не высказываюсь. Что мне за дело до чужих мнений, ссор, удовольствий и верований. Не будучи в состоянии делиться ничем с людьми, я безучастен ко всему. Моя невидимая мысль остаётся неизведанной. У меня есть банальные фразы в ответ на обыденные вопросы и улыбка, когда мне не хочется отвечать» (41, 566).
Впрочем, кажется, персонаж новеллы Мопассана ещё только на пути к той глубине понимания одиночества человека в мире, которое открылось Амиелю и Льву: недаром он продолжает ещё пытаться вести привычный образ жизни, поддерживать прежние связи и ничем не эпатировать тех, общение с которыми уже не может ценить. Своего рода лицемерие, неизбежное при первых шагах на пути разрыва с миром, на пути к Богу. Он уже признаёт, что разлучён своими зрелыми пониманием и чувствованием бытия с легкомысленным большинством своего окружения, но ещё не осознал сближения с истиной и с Богом, не познал самой истины… ]
17 декабря 1856 г.
Как часто мы лицемерим, когда, оставаясь наружно и для других самими собой, сознаём в себе и для себя внутреннюю перемену. Это не есть лицемерие в прямом смысле слова, потому что мы не представляем другое лицо, а самих себя, но это всё-таки нечто вроде лжи. Эта ложь унижает, и унижение это есть наказание, вроде того, которое накладывает маска на лицо, это есть наказание, которое наше настоящее несёт за прошедшее, и это унижение полезно, потому что оно производит стыд, а стыд порождает раскаяние. И, таким образом, в правдивой душе зло превращается в добро и падение приводит к возрождению.
Долг состоит в том, чтобы быть полезным не так, как нам хочется, но так, как возможно.
Стремление к личному благу есть только продолжение в нас животности; человечность же начинается в человеке только с отречением от него.
[ Сравн.: «Круг чтения», 4 августа, тема «Самоотречение»; 41, 549. Вместо «человечности» у Толстого: «человеческая жизнь».
«Человеческая жизнь» для Толстого – это жизнь не для себя, а для других, жизнь в самоотвержении, в исполнении закона деятельной любви, в преодолении страха страданий и смерти. ]
Кто хочет вполне ясно всё рассмотреть перед тем, как решиться, никогда не решается. Кто боится раскаяния, боится жизни.
Судить – значит видеть правду, это значит заботиться о справедливом и, следовательно, быть беспристрастным, более того — быть бескорыстным, более этого — быть безличным.
Легко сделать то, что трудно другим — в этом талант; сделать то, что невозможно таланту, — в этом гений.
Обучая, мы учимся, рассказывая — наблюдаем, утверждая — следуем, показывая — видим и, когда пишем, — думаем. Качая воду, мы притягиваем её в свой колодезь.
28 мая 1857 г.
Мы останавливаемся в Женеве, чтоб слышать «Тангейзера» Ричарда Вагнера, исполненного в театре немецкой действующей труппой. Вагнер — могущественный ум и владеет чувством высокой поэзии. Его произведение даже больше поэтично, чем музыкально. Уничтожение лирического элемента, следовательно и мелодии, у него систематично и умышленно. Нет более ни дуэтов, ни трио; монолог и арии также исчезли. Остаётся декламация, речитатив и хоры. Чтобы избегнуть условности в пении, Вагнер впал в другую условность, в ту, чтобы не петь. Он подчиняет голос отдельно произносимым словам, и из страха, чтобы муза не улетела, он отсекает ей крылья. Поэтому его произведения скорее симфонические драмы, чем опера. Голос низведён на степень инструмента, поставлен на уровень со скрипкой, цимбалами и гобоями, и с ним обходятся как с инструментом. Человек низведён с своего высшего положения, и центр тяжести произведения переходит в палочку дирижёра.
Это музыка обезличенная, музыка новогегелианская, музыка – толпы, вместо музыки – личности.
В этом случае она действительно музыка будущего, музыка социальной демократии, заменяющая аристо-кратическое, героическое и субъективное искусство. Увертюра мне ещё менее понравилась, чем в первый раз; она соответствует дочеловеческой природе; всё в ней громадно, дико, первобытно, как шум лесов и рёв животных. Это чудовищно и тёмно, потому что человек, т. е. дух, ключ к загадке, личность, созерцатель, отсутствует. Замысел пьесы широк: это борьба сладострастия с чистой любовью, словом – плоти с духом, животного с ангелом в человеке. Музыка всё время выразительна, хоры прекрасны, оркестровка умелая, ensemble утомителен и преувеличен, слишком полный, слишком тяжёлый; в ней недостаёт, в конце концов, весёлости, лёгкости, естественности и живости, т.е. крыльев и улыбки. В поэтическом смысле чувствуешь себя охваченным ею, но музыкальное наслаждение нерешительно, часто сомнительно и ничего не помнишь, кроме впечатления.
Музыка Вагнера представляет отречение от себя и освобождение всех побеждённых сил. Это возвращение к спинозизму, торжество предопределения. Эта музыка имеет своё начало в двух направлениях нашего времени – материализма и социализма, двух направлениях, ложно понимающих истинное назначение человеческой личности и поэтому жертвующих ею для целостности природы или общества.
18 июня 1857 г.
Я только что окончил чтение Бирана. Нет ничего меланхоличнее и утомительнее этого дневника Майн-де-Биран. Эго неизменное однообразие рассуждений, повторяющихся без конца, раздражает и приводит в уныние. Так вот она, жизнь знаменитого человека в самых интимных её подробностях. Это длинное повторение, с незаметным перемещением центра в его взгляде на самого себя. Этому мыслителю нужно тридцать лет, чтобы двинуться с эпикурейского спокойствия к квиетизму Фенелона, и то только отвлечённо, так как практическая жизнь остаётся всё та же, и всё его антропологическое открытие состоит в повторении теории трёх жизней (низшей, человеческой и высшей), которая есть уже у Паскаля и даже у Аристотеля. И это во Франции называется философом! Рядом с великими философами какой слабой представляется эта умственная жизнь! Это путешествие муравья, совершающееся в пределах поля, крота, тратящего свои дни на устройство своей норы. Каким душным показался бы тот круг, которым ограничиваются крот и муравей, ласточке, перелетающей через Старый Свет и сфера жизни которой заключает в себе Африку и Европу.
Я испытываю с книгой Бирана что-то вроде асфиксии и то же, как и всегда, омертвение по сочувствию и внушение по симпатии. Я чувствую к нему сострадание, и я боюсь своей жалости, потому что я чувствую, как я сам близок к тем же страданиям и тем же ошибкам.
26 июля 1857 г. (Вандевр).
В десять часов вечера, под звёздным небом, толпа деревенских жителей, ставших под окнами гостиной, орала безобразные шансонетки. Почему это ухарское карканье умышленно фальшивых нот и насмешливых слов – весёлость этих людей? Зачем это бесстыдное хвастовство безобразием? Почему эта отвратительная гримаса антипоэзии есть их способ развернуться и расцвести в этой величественной, безмолвной и тихой ночи? Почему? По тайному и печальному инстинкту.
По потребности чувствовать себя обособленной личностью, по потребности самоутверждения исключительного, эгоистического, идолопоклоннического обладания самим собой, противопоставляя своё я всему остальному, грубо противополагая его природе, нас окружающей, поэзии, восхищающей нас, гармонии, соединяющей нас с другими, и обожанию, влекущему нас к Богу. Нет, нет и нет; один я и довольно; я в отрицании, в безобразии, в кривлянии и насмешке; я в своём самодурстве, в своей независимости и в своём безответственном самовластии; освобождённый смехом, вольный как демон, ликующий от своеволия, я — хозяин самого себя, непобедимая монада, существо, довольствующееся собой, живущее наконец хоть раз само собой и для себя самого. Вот что в основании этой радости; это эхо сатаны, искушение сделаться центром всего. Но это также мгновенное сознание абсолютной стороны личной души, это грубое возвеличение субъекта, злоупотребляющего своим правом субъективности, это карикатура нашего драгоценнейшего преимущества, пародия нашего апофеоза и опозорение нашего высшего величия. Ревите же, пьяницы! Ваш отвратительный концерт, в своём отталкивающем безобразии, всё-таки свидетельствует, не зная того, о величии и высочайшем могуществе души.
24 сентября 1857г.
Вчера я размышлял об Атала и о Рене — и Шатобриан мне стал понятен. Великий художник, но не великий человек, огромный талант, но ещё более огромная гордость; пожираемый честолюбием, но нашедший в мире достойной любви и обожания только свою личность; неутомимый в труде, способный ко всему, кроме действительного самопожертвования, самоотречения и веры. Завистливый ко всякому успеху, он всегда был в оппозиции для того, чтобы иметь право отрицать всякую заслугу и всякую славу, кроме своей.
Легитимист во время империи, парламентарист во время легитимизма, республиканец во время конституционной монархии, защитник христианства во Франции во времена философов, отвернувшийся от религии, как только она снова стала серьёзной силой, — тайна этих безграничных противоречий заключается в потребности быть единым, как солнце, в неутолимой жажде торжества, неизлечимом и ненасытном тщеславии, которое присоединяет к жестокости тирании высшее отвращение к какому-либо разделению славы. Великолепное воображение и отвратительный характер, неоспоримая сила, но антипатичный эгоизм, сухое сердце, могущее терпеть около себя только обожателей и рабов. И всё-таки — измученная душа и печальная жизнь, несмотря на его ореол славы и лавровые венки.
Особенно завистливый и раздражительный, Шатобриан с самого начала воодушевляется задором, потребностью противоречить, уничтожить и победить, и это остаётся постоянным и особенным мотивом его деятельности. Руссо представляется мне его исходной точкой, человеком, у которого, по противоположности и сопротивлению, он будет черпать все свои возражения и нападки. Руссо революционер; Шатобриан напишет свой «Опыт о революциях». Руссо республиканец и протестант; Шатобриан сделается роялистом и католиком. Руссо буржуа; Шатобриан будет прославлять только дворянство, честь, рыцарство и героев. Руссо завоевал для французской литературы природу, в особенности природу гор, озёр Савойи и Швейцарии, он отстаивал её перед цивилизацией; Шатобриан вооружится новой колоссальной природой океана и Америки, но заставит своих дикарей говорить языком Людовика XIV, заставит Атала преклоняться перед католическим миссионером и освятит мессой страсти, зародившейся на берегах Миссисипи. Руссо создал апологию мечтательности; Шатобриан воздвигнет ей памятник, чтобы разбить его в Рене. Руссо красноречиво проповедует деизм в «савойском священнике»; Шатобриан обовьёт гирляндами своей поэзии римский символ в Гении христианства. Руссо требует восстановления естественного права и проповедует будущность народов; Шатобриан будет воспевать прелести прошедшего, пепел истории и благородные развалины империи. Постоянная рисовка, ловкость, предвзятость, потребность известности, задача воображения, вера по заказу, редко искренность, честность, правдивость. Всегда действительное равнодушие, принимающее личину страсти к истине; всегда искание славы вместо преданности добру; всегда тщеславный художник, а не гражданин, не верующий, не человек — Шатобриан всю свою жизнь играл роль соскучившегося колосса, улыбающегося из жалости перед карликом-миром и притворяющегося в том, что он из презрения ничего не хочет брать от него, тогда как он мог бы взять от него всё своим гением.
Мы никогда не бываем более недовольны другими, как когда мы недовольны собой. Сознание вины делает нас нетерпимыми, а наше лукавое сердце старается раздражиться тем, что вне его, для того чтобы заглушить то, что внутри его.
[ На это, завершающее запись 24 сентября 1857 г., высказывание Амиеля Лев Николаевич обратил достойное его внимание, но, к сожалению, по каким-то, вероятно сугубо «техническим», причинам в основной текст «Круга чтения» оно не попало. Мы находим его в черновых (добавочных) материалах в теме «Соблазны» вот в такой превосходной редакции Толстого:
«Мы бываем наиболее недовольны другими, когда мы недовольны сами собою. Сознание наших дурных поступков раздражает нас и наше сердце в своей хитрости нападает на то, что вне его, с тем, чтобы заглушить то, что оно чувствует» (42, 464).
Как видим, смысл амиелева суждения из дневниковой записи 24 сентября 1857 г. – совершенно не пострадал. Напротив, Толстой сделал текст изящнее, проще для понимания, и отсёк в нём лишнее, неорганичное высказыванию, сбивающее читательское внимание: чуждую ему церковно-богословскую категорию «вины», ненужно-эмоциональные и книжные характеристики: «нетерпимость» (людей) и «лукавство» (сердца).
Отсутствие данной мысли Амиеля в окончательном печатном варианте «Круга чтения» тем удивительнее, что в печатных публикациях черновых материалов (в Полном собрании сочинений Толстого) оно напечатано курсивом: то есть Толстой придавал ему особенную важность.
Уже без курсива, но в той же толстовской редакции, эта же амиелева запись от 24 сентября 1857 г. всё же попала в другую составленную Л.Н. Толстым антологию мудрой мысли – «На каждый день» (22 апреля. Усилие смирения; 43, 225). ]
Способность умственных превращений есть первая способность критика. Без неё он неспособен понять другие умы, вследствие этого он должен молчать, если он правдив. Добросовестному критику предстоит критика самого себя: о том, чего не понимаешь, не имеешь права судить.
14 июня 1858 г.
Без обладания вечностью, без религиозного взгляда на жизнь эти беглые мгновения суть только поводы к ужасу.
Счастье должно быть молитва и несчастье также. Вера в нравственный порядок, в отеческое покровительство божества возникла передо мной во всей своей серьёзной прелести.
Мысли, люби, действуй и страдай в Боге – в этом великая наука.
14 июля 1858 г.
Мечтал один, сидя у окна, после десяти часов вечера, когда звёзды зажигались между облаками, а огни соседей один за другим потухали в окрестных домах. Мечтал о чём? О смысле этой трагикомедии, которую мы все тут играем. Увы, увы! Я был так же грустен, как Экклезиаст. Сто лет представлялись мне сном, жизнь – одним дыханием и всё — ничтожеством. Сколько нравственных мучений — и всё это, чтобы умереть через несколько минут. Чем интересоваться и зачем?
Время – ничто для души; дитя, твоя жизнь полна и сей день стоит сотни лет, если ты в течение этого дня найдёшь Бога.
Обязанность, которую ты предчувствуешь, связывает тебя с того самого момента, как ты угадал её.
[И снова перед нами глубокая и волшебной красоты маленькая элегия в прозе: свидетельство поэтического таланта женевского мыслителя. Без сомнения, она обаяла Льва Николаевича и формой (без ненавистных Толстому стихотворных размеров и рифм), и содержанием: три предложения из первого и второго абзацев этой записи из дневника Амиеля он включил во все три главные свои антологии мудрой мысли. В «Круге чтения» они приведены в теме 15 июля «Слияние своей воли с волей Бога» (41, 504), а в книгах «На каждый день» и «Путь жизни» – в теме «Жизнь в настоящем» (43, 112; 45, 334). Христианский смысл такого тематического сближения понятен: идеал жизни человека «в настоящем», без пустых переживаний и сует о грядущем или прошлом, тем более осуществим, чем больше человек признаёт главенство в своей жизни воли Бога, записанной в поучениях мудрецов и религиозных учителей человечества и в сердце каждого неразвращённого человека, – тем самым всё более и более отказывая в повиновении всякой человеческой греховной власти (собственной или других людей: правительства и его прислужников, всякого начальства и т.п.).
Любопытно проследить и «судьбу» редактирования Толстым выбранного им отрывка.
В «Круге чтения» и «На каждый день» он выглядит так:
«Сколько нравственных мучений – и всё это, чтобы умереть через несколько минут! Чем интересоваться и зачем?
Но ведь время – ничто, и жизнь твоя полна, и сей день стоит сотни лет, если ты в течение этого дня найдёшь Бога» (41, 504; 43, 112).
Различие – бросается в глаза. В дневнике женевца – интимная беседа с самим собой.
(Звучит даже обращение: «дитя» – обращение Амиеля к себе, но не плотскому и умственному, а к тому вечному духовному существу, которое не стареется (потому «дитя») и для которого «время ничто». Научиться полагать свою истинную жизнь в этом духовном – одно из полезнейших, необходимых приобретений христианина).
Толстой же в своей отредактированной версии амиелевых дум обращается с его словами, конечно, не к себе, а к своему читателю, и убеждает именно его.
Эта диалоговость получила развитие в книге «Путь жизни». Кто хорошо знаком с толстовской публицистикой, в особенности 1880-1900-х гг., тот знает об одном из излюбленных риторических приёмов Льва Николаевича: отвечании в тексте на все представляющиеся ему возможные возражения читателей по обозначенной в публицистическом выступлении проблематике. Вот и в книге «Путь жизни», являющейся по своей структуре многотемным религиозным и этико-философским исследованием, Толстой, посредством цитирования всё того же отрывка из той же записи Амиеля 14 июля 1858 г., сумел в нескольких строчках представить и возражения сомневающегося или неверующего человека, и свой (пусть и в «соавторстве» с Амиелем!) ответ возражателю:
«“Сколько нравственных мучений – и всё это, чтобы умереть через несколько минут! Стало быть, не о чем и заботиться”.
Нет, неправда. Есть твоя жизнь сейчас. Времени нет, и сей час сто;ит сотен лет, если ты в сей час будешь жить с Богом» (43, 112).
Подписал Толстой это суждение: «По Амиелю», тем самым признав значительность внесённых им правок. ]
14 июля 1859 г.
Я только что перечёл «Фауста». Увы! Каждый год я бываю вновь охвачен этой беспокойной жизнью и этой тёмной личностью. Это именно та тоска, к которой меня влечёт, и я встречаю в этой поэме всё больше и больше слов, поражающих меня прямо в сердце. Бессмертный, злотворный, проклятый тип. Призрак моей совести, привидение моего мучения, изображение непрерывной борьбы, которая не нашла своей пищи, своего мира, своей веры, – не есть ли ты пример жизни, пожирающей себя, потому что не встретила своего Бога, и которая в своём блуждании через миры несёт с собою, как комета, неугасимый пожар желания и казнь неизлечимого разочарования? Я тоже приведён к небытию и чувствую себя охваченным тоской по неизвестному, измученным жаждой бесконечного, уничтоженным перед невыразимым, я содрогаюсь на краю великой пустоты своего внутреннего существа.
Я тоже иногда ощущаю эти глухие бешенства жизни, эти отчаянные порывы к счастью, но чаще всего полное изнеможение и молчаливую безнадёжность. А отчего это? От сомнения в мысли, в самом себе, в людях и в жизни, от сомнения, которое расслабляет волю, лишает возможности исполнения, которое заставляет забывать Бога, пренебрегать молитвой, обязанностями, от тревожного, разъедающего сомнения, которое делает существование невозможным и насмехается над всякой надеждой.
17 июля 1859 г.
Всегда и везде спасение есть мука, освобождение – смерть, успокоение в жертве. Чтобы получить благодать, нужно целовать раскалённое железо креста; жизнь есть ряд терзаний, Голгофа, на которую восходят, только изранив себе колена. Развлекаешься, рассеиваешься, одуряешься, чтобы избавить себя от испытания, отворачиваешься, стараясь не видать свою via dolorosa [лат. "путь скорби”; так традиционно именуется одна из улиц Иерусалима, по которой, как принято верить, пролегал путь Иисуса Христа на Голгофу, к месту распятия. – Р.А.]. И всё-таки надо вернуться к ней. Надо признать, что каждый из нас носит в самом себе своего палача, своего демона, свой ад в своём грехе и что этот грех его — его идол, и что этот идол, который соблазняет волю его сердца, – есть его проклятие. "Умереть греху" – это удивительное слово христианства остаётся высшим теоретическим разрешением внутренней жизни. В этом только спокойствие совести, а без этого спокойствия нет мира.
Я только что прочёл семь глав Евангелия. Это чтение действует успокоительно. Исполнять свой долг любовно и послушно, делать добро — вот главные выступающие мысли. Жить в Боге и делать Его дело — вот религия, спасение, вечная жизнь, вот действие и признак святой любви и святого духа. Это новый человек, провозглашённый Иисусом, новая жизнь, в которую входишь вторым рождением. Переродиться — это значит отказаться от прежнего себя, от природного человека, от греха, это значит усвоить себе другое начало жизни, это значит существовать для Бога другим человеком, с другой волей, с другой любовью.
9 августа 1859 г.
Природа забывчива. Мир — кажется, ещё более; стоит человеку только не противиться этому, и забвение окутает его как саван. Это быстрое и неумолимое растяжение всеобщей жизни, которое покрывает, заливает и поглощает отдельные существа, которое стирает нашу жизнь и уничтожает память о нас, убийственно грустно. Родиться, суетиться, исчезнуть — в этом вся эфемерная драма человеческой жизни. Едва ли в нескольких сердцах, а то и ни в одном, память о нас пройдёт, как волна по воде, как дуновение ветра в воздухе. Если нет ничего бессмертного в нас, то как ничтожна эта жизнь! Как сновидение, которое дрожит и улетает при первом свете зари, всё моё прошедшее, всё моё настоящее распускается во мне и отдаляется от моего сознания, когда оно возвращается само на себя. Я чувствую себя тогда пустым и ничего не имеющим, как выздоравливающий, который ничего не помнит. Мои путешествия, мои чтения, мои изучения, мои планы, надежды — исчезли из моего сознания. Это странное состояние. Все мои способности уходят как плащ, который снимаешь, как кризолида бабочки. Я чувствую, что перехожу в другую форму или, скорее, возвращаюсь в первобытное состояние.
Я присутствую при своём раздевании. Я забываю ещё больше, чем забываем. Я медленно, живой ещё, вхожу в свой гроб. Я испытываю невыразимый мир уничтожения и неясную тишину нирваны; я чувствую, как передо мной и во мне течёт быстрая река времени, скользят бестелесные тени жизни, и чувствую это с каталептическим спокойствием.
13 декабря 1859 г.
[Ниже А. Амиель говорит о серии лекций швейцарского богослова Эрнеста Навиля "Вечная жизнь, семь речей, прочитанных в Женеве и Лозанне в 1859 — 1860 гг.". Книжная публикация их состоялась в 1861 г. - Р.А.]
Пятая лекция о «вечной жизни» (доказательство Евангелия сверхъестественным) также талантлива и красноречива, но оратор не понимает, что сверхъестественное должно быть исторически доказано, если же нет, то он не должен выходить из области веры и вступать в область истории и науки. Он приводит Штрауса, Ренана, Шерера, но он берёт только их букву, не дух. Всё тот же картезианский дуализм, отсутствие генетического, исторического, умозрительного и критического смысла. Идея живой эволюции не проникла ещё в сознание оратора. С самыми лучшими намерениями быть объективным он остаётся субъективным, риторичным. Это происходит оттого, что он полемизирует, а не ищет.
Нравственность у Навиля преобладает над рассудочностью и мешает ему видеть то, чего он не хочет видеть; в его метафизике воля первенствует над рассудком и в его личности характер выше ума — всё это последовательно. Вследствие этого он может удержать то, что расшатано, но не может побеждать; он консерватор истин или верований, но лишён инициативы и обновления. Он проповедует, но не внушает. Популяризатор, вульгаризатор, апологет, оратор высшего достоинства, он, в сущности, схоластик: он рассуждает точь-в-точь, как в XII веке, и защищает протестантизм, как тогда защищали католичество. Лучший способ доказать недостаточность такой точки зрения состоит в том, чтобы выказать посредством истории, до какой степени стара уже эта точка зрения. Это химера простой и безусловной правды, совершенно в духе католицизма и антиисторична.
Ум Навиля математичен, а предмет его — нравственность; математизировать нравственность — вот его дело. Как только дело касается того, что развивается, изменяется, образовывается, как только приступают к подвижному миру жизни, и особенно жизни духовной, он уже более не компетентен. Язык для него есть только система определённых знаков: человек, народ, книга — это определённые геометрические фигуры, свойства которых нужно исследовать. Вот ещё приложение закона внутренних противоречий, потому что Навиль любит жизнь сердцем, если он её теоретически понимает.
Всякая потребность утихает, а всякий порок увеличивается от удовлетворения.
[Сравн.: «Круг чтения», 20 августа, тема «Простота» (41, 583). Популярный афоризм. ]
Упрямство — это воля, утверждающая, но не могущая оправдать себя, это настаивание без достаточной, настоящей причины, это упорство самолюбия, подставленное вместо упорства разума или совести.
17 апреля 1860 г.
Ночные птицы улетели. Мне лучше. Я был в состоянии совершить свою обычную прогулку. Все бутоны распустились, и молоденькие ростки зеленели на всех сучьях. Странное действие производят на больного журчание светлых вод, весёлое щебетание птиц, молодая свежесть растений, шумные игры детства! Или, скорее, мне было странно смотреть глазами слабого или умирающего на это проявление жизни и вступать в него. Этот взгляд очень грустен. Чувствуешь себя отрезанным от природы, вне общения с нею, потому что она — вечная сила, радость и здоровье. «Не мешайте живым! — кричит она нам. — Что вы омрачаете мою лазурь вашими горестями? Каждому своя очередь; сторонитесь!» Чтобы придать себе смелости, надо сказать себе: «Нет, полезно показывать миру страдания и умаления, они придают особенный вкус радости беззаботных и служат предупреждением для мыслящих».
Жизнь была дана нам в долг, и мы должны показать своим спутникам, как мы употребляем её до конца. Мы должны показать своим братьям, как должно жить и умирать. Эти первые предупреждения имеют, кроме того, ещё и божественную цену. Они позволяют нам заглянуть за кулисы жизни, увидать её страшную действительность и неизбежный конец. Они учат нас сочувствию. Они советуют нам пользоваться временем, пока ещё светло. Они учат нас благодарности за те блага, которые остаются нам, и смирению по отношению тех даров, которые даны нам. Эти страдания, стало быть, благо, они — призыв свыше, они — удар отцовского хлыста.
Какая хрупкая вещь здоровье и какая тонкая оболочка защищает нашу жизнь от поглощения извне и от расстройства внутри её! Дуновение! И лодочка трескается или опрокидывается! Безделица, и всё погублено! Туча — и всё темно! Жизнь есть тот цветок, который завядает в одно утро и скашивается ударом крыла; это светильник вдовы, который потухает от малейшего дуновения. Чтобы живо ощущать поэзию утренней зари, надо высвободиться из когтей коршуна, называемого болезнью. Вверху и внизу всего — кладбище. Единственная достоверность в этом мире пустых треволнений и бесконечных беспокойств — это смерть и предвестник смерти, разменная монета её — страдание.
Пока отворачиваешься от беспощадной действительности, трагическая сторона жизни скрывается, но как только посмотришь ей в лицо, то тотчас же восстановляются истинные отношения вещей и торжественное опять вступает в жизнь. Ясно видишь, что раньше только играл, дулся, противился, забывал и был не прав.
Надо умирать и отдать отчёт своей жизни — вот во всей своей простоте великое наставление болезни. Сделай как можно скорее всё то, что тебе надо сделать, приведи себя в порядок, подумай о своём долге, приготовься к отъезду — вот что кричат тебе совесть и разум.
3 мая 1860 г.
Перевёл стихами страницу из «Фауста» Гёте, в которой излагается пантеистическое исповедание веры. Мне кажется, что дело идёт недурно. Но какая разница между двумя языками в отношении ясности; это растушёвка и резец: один изображает усилие, другой обозначает результат действия; один заставляет испытывать нечто неопределённое, пустое, бесформенное, другой — определяющий, утверждающий, рисующий даже неопределённое; один изображает причину, силу, преддверья, из которых выходят предметы, другой — сам предмет. В немецком языке тёмная глубина бесконечного, во французском — радостная ясность конечного.
5 мая 1860 г.
Стариться труднее, чем умирать, оттого что один раз целиком отказаться от какого-нибудь блага легче, чем каждый день по мелочам возобновлять жертву им. Переносить спокойно своё увядание и сознательно принимать своё умаление есть более горькая и редкая добродетель, чем презрение смерти. Над преждевременной и трагической смертью есть некоторый ореол, а в возрастающей дряхлости — только долгая печаль. Но рассмотрим это получше: безропотная и религиозная старость представится тогда более трогательной, чем героическая пылкость молодых годов.
Созревание души дороже, чем блеск и избыток сил, и вечное в нас должно воспользоваться тем разрушением, которое производит в нас время. Эта мысль утешает.
[ Последний абзац из этой записи (без слов «Эта мысль утешает»), являющий собою даже вне контекста законченное и глубокое по смыслу и кратко-афористичное по форме суждение, Лев Николаевич использовал в двух своих сборниках мудрой мысли без какой-либо редакции. Сравн.: «Круг чтения», 24 декабря, тема «Рост», 42, 377; «На каждый день», тема «Нет зла», 43, 115.
По мысли Толстого, в старении, в увядании животного существа человека «нет зла» для тех, кто понимает жизнь не в этом животном, а в разумении и духе. «Рост физический, – пишет Лев Николаевич в записях «Круга чтения» на 24 декабря, – это только приготовление запасов для работы духовной, служения Богу и людям, которое начинается при увядании тела. <...> Сознай свою духовную сущность, живи ею, и вместо отчаяния ты узнаешь ничем не нарушимую и всё увеличивающуюся радость» (42, 377 - 378). ]
22 мая 1860 г.
Во мне есть какая-то тайная сдержанность, мешающая мне выказывать моё настоящее волнение, сказать то, что может нравиться, отдаться настоящей минуте, — глупая сдержанность, которую я всегда с грустью замечал в себе. Моё сердце никогда не осмеливается говорить серьёзно, стыдясь лести и боясь не найти подходящего оттенка. Я всегда шучу в настоящую минуту, и только когда она прошла, испытываю волнение. Моей непокорной природе противно признавать торжественность настоящей минуты; иронический инстинкт, происходящий от моей застенчивости, всегда заставляет меня легко относиться к тому, чем я обладаю, под предлогом чего-то другого и другого момента. Страх увлечения и недоверие к самому себе преследуют меня даже тогда, когда я растроган, и по какой-то непобедимой гордости я не могу решиться сказать какой-нибудь минуте: остановись! Реши мою судьбу! Будь высшей минутой! Выделись из однообразного фона вечности и отметь собою единственную точку моей жизни.
Свободное существо, которое отдаётся самому себе, этим же самым отдаёт себя дьяволу; в нравственном мире нет земли без хозяина, а неопределённые земли принадлежат лукавому.
[Сравн.: «Круг чтения», 2 ноября, тема «Соблазн» (42, 191).
Соблазн – в служении себе и угождении миру, а не Богу. Человек с детства приучается безбожным социальным окружением к греховному повиновению авторитетам, старшим, начальству, правительству… и всё ради того, чтобы услужить, в конечном счёте, себе, любимому: не потерять приятностей и выгод антихристовой «социальности», «адекватности» требованиям и ожиданиям социума.
Примечательно, что здесь же, в записях «Круга чтения» под 2 ноября, с Амиелем соседствуют как единомышленники – преимущественно сам Лев Николаевич, а также Блез Паскаль. Отобранные для публикации в «Круге чтения» мысли настолько перекликались с толстовскими, что помощники Льва Николаевича в составлении антологии даже в нескольких местах ошиблись, подписав несколько мыслей Толстого именем Паскаля (Там же, с. 582 - 583).
Паскалев же отрывок – пожалуй, даже актуальней в наши дни, чем во времена Толстого. Он – о грехе тщеславия и соблазне пресловутого «имиджа» (говоря современным языком): «воображаемой жизни в мыслях людей», как определяет этот соблазн Паскаль. Заботясь о приукрашении в чужих глазах своего ложного образа, человек отказывается от совершенствования своей настоящей личности (42, 192). А портится, рушится «имидж» – и человек остаётся ни с чем… и так лукавый получает ещё одну соблазнённую, обманутую им жертву. ]
28 апреля 1861 г.
Так же как сновидение по своей природе преобразует события до сна – душа превращает в психические явления мало определённые впечатления организма.
Неловкое положение тела становится кошмаром, тяжёлый грозовой воздух вызывает нравственные страдания. Воображение и сознание, – не вследствие механического воздействия и прямой причинности, но по своей природе – производят аналогичные действия: они переводят на свой язык и отливают в свою форму то, что приходит к ним извне. Таким образом сновидение может служить медицине и прорицанию. Таким же образом метеорологическое явление вызывает из души страдания, которые она смутно скрывала внутри себя. Жизнь вызывается только внешними явлениями и не производит никогда ничего, кроме самоё себя; оригинальность состоит в том, чтобы быстро и ясно реагировать против внешних влияний и давать им нашу индивидуальную форму.
Думать — это значит сосредоточиться в своём впечатлении, освободить его в себе и проявить его в своём личном суждении. В этом же и облегчение, освобождение и победа над собой.
Всё, что приходит извне, есть вопрос, на который мы должны отвечать, давление, которому мы должны противодействовать до тех пор, пока мы живём и хотим оставаться свободными. Развитие нашей бессознательной природы следует по астрономическим законам Птоломея. Оно всё — перемена, цикл, эпицикл и превращение.
25 ноября 1861 г.
Искусство есть рельефное выдвигание мыслей природы. Упрощение линии и высвобождение невидимых фигур. Под огнём вдохновения выступают рисунки, начертанные симпатическими чернилами: таинственное становится очевидным, смутное делается ясным, сложное — простым, случайное — необходимым. Одним словом, искусство раскрывает природу, выражая её намерения и формулируя её желания. Всякий идеал есть разгадка длинной загадки. Великий художник всегда упрощает.
[ Сравн. «Круг чтения», 2 июля, тема «Искусство»:
«Искусство есть такое воздействие на людей, при котором в душах их таинственное становится очевидным, смутное делается ясным, сложное – простым, случайное – необходимым. Истинный художник всегда упрощает» (41, 463).
Под суждением стоит подпись не «Амиель», как в случае с более-менее точным цитированием, а «По Амиелю». Как и во многих других случаях, когда Амиель в своём дневнике затрагивал глубокие и важные для Толстого проблемы, здесь не обошлось без значительной редакции. «Великий художник» повышен Толстым в звании до «истинного», то есть следующего в своём творчестве не одной из модных и вожделенных толпе «правд» (за что толпа и величает его!), а только единой Божьей Правде-Истине. Удалены все апелляции к природе, её «мыслям», «линиям», «намерениям» и «желаниям». Хотя, как мы рискуем утверждать, толстовское восприятие природы как раз сближается с выраженным здесь восприятием Амиеля, равно как и с восприятием обожаемого Львом Николаевичем Ф. И. Тютчева с его нетленным и еретическим:
Не то, что мните вы, природа
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...
Проблемы эстетики и искусства занимали Толстого в течение, по меньшей мере, десятилетия до 1892 г., когда он познакомился с «Задушевным дневником» Амиеля. Исследователи выделяют особую серию толстовских статей об искусстве, начиная с статьи 1882 г. для «Художественного журнала» Н. А. Александрова, и вплоть до итогового фундаментального трактата 1897-1898 гг. «Что такое искусство?». В 1889-1891 гг. пишется другая фундаментальная статья – «Наука и искусство». Толстой обдумывает общие определения науки и искусства, изучает направления и предметы современного ему научного знания, знакомится с сочинениями Шаслера, Спенсера, Дидро, Гюйо.
Первое же свидетельство о знакомстве с Амиелем, его дневником, как мы помним, состоялось осенью 1892 г. И в записях Дневника Льва Николаевича на 1 октября 1892 г., вместе с первым упоминанием Толстым женевского мыслителя («Читаю Amiel’a, недурно») мы находим и первые, без сомнения навеянные именно Амиелем, толстовские размышления, имеющие не только религиозное и этическое, но и эстетическое значение.
Вот эти, достойные неоднократного и постоянного цитирования, прозрения гениального ума о смысле жизни и смерти, о Боге, любви, добре, красоте и радости:
«Нынче ездил на Козловку, думал в первый раз: Как ни страшно это думать и сказать: цель жизни есть так же мало воспроизведение себе подобных, продолжение рода, как и служение людям, так же мало и служение Богу. <...> Жизнь не может иметь другой цели, как благо, как радость. Только эта цель – радость – вполне достойна жизни. – Отречение, крест, отдать жизнь, всё это для радости. – И радость есть и может быть ничем ненарушимая и постоянная. И смерть переходит к новой, неизведанной, совсем новой, другой, большей радости. И есть источники радости, никогда не иссякающие: красота природы, животных, людей, никогда не отсутствующая. В тюрьме – красота луча, мухи, звуков. И главный источник: любовь – моя к людям и людей ко мне.
Как бы хорошо было, если бы это была правда!
Неужели мне открывается новое?
Красота, радость, только как радость, независимо от добра, отвратительная. Я узнал это и бросил. Добро без красоты – мучительно. Только соединение двух, и не соединение, а красота, как венец добра.
Кажется, что это похоже на правду» (52, 73).
Беспристрастное размышление над этими строками способно привести читателя к пониманию того, что искусства истинное и ложное действительно существуют, и они антагонистичны, как Божье и звериное в человеке, как доброе и злое…
В этом отрывке, навеянном первыми впечатлениями от «Задушевного дневника» Анри Амиеля – торжество истинно-христианского понимания жизни, преодолевающего и обычный как для церковных обрядоверов, так и для иных безбожников экзистенциальный вакуум в сознании, и союзный с ним страх смерти, и «романтический» кастовый сплин и недовольство жизнью и людьми, характерные для творцов ложного, дистрактирующего людей от истины, добра и подлинной красоты, искусства.
Проникновенную и точую характеристику состояния сознания творцов псевдофилософии, псевдонауки и псевдоискусства мы находим, к примеру, у высокочтимых Львом Николаевичем французского учёного и мыслителя Блеза Паскаля и русского поэта Михаила Лермонтова. В «Мыслях» Паскаля у Толстого на особой примете было суждение о «двух крайностях знания»: неведения естественного, детей и простецов, и – неведения великих умов, понимающих ничтожность всех человеческих знаний именно потому, что «объяли» их все. Но есть и прослойка (и весьма не тоненькая в наши дни!..) между мудрецами и простецами: это простецы, возомнившие себя многознающими и мудрыми. Это те, «кто утратили неведение естественное и не обрели другого, тешатся крохами поверхностного знания и строят из себя умников. Они-то и сбивают людей с толку и ложно судят обо всём» (Паскаль Б. Мысли: Афоризмы. – М., 2003. – С. 207).
У Лермонтова же – это герой хрестоматийного стихотворения «И скучно, и грустно…»:
И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят - всё лучшие годы!
Любить... но кого же?.. на время – не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? - там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и всё там ничтожно...
Что страсти? - ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг –
Такая пустая и глупая шутка...
Этой хорошо зарифмованной сентенции смакующего своё ложно-мудрое разочарование и мутящего мир полузнайки противостоит толстовский гимн жизни, природе и радости, настоящие стихи в прозе, каких немало рассеяно по его Дневнику и, к несчастью, столь мало известно широкому читателю. Это запись 14 июня 1894 года чувств и мыслей, посетивших Толстого также на пешей прогулке, недалеко от вышеупомянутой Козловки, около деревни Овсянниково:
«Смотрел, подходя к Овсянникову, на прелестный солнечный закат. В нагромождённых облаках просвет, и там, как красный неправильный угол, солнце. Всё это над лесом, рожью. Радостно. И подумал: Нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нём» (52, 120-121).
К периоду 1894 – 1896 гг. относятся многочисленные дневниковые записи-размышления Толстого об искусстве. Так, например, в записях от 2 и 5 ноября 1896 г. Толстой как раз прибегает к близкому по смыслу комментируемой нами амиелевой записи от 25 ноября 1861 г. противопоставлению истинного (народного) искусства – ложному, «игре развращённых паразитов» на шее трудящегося народа, которым и потребны искусственные, надуманные усложнения в произведениях искусства, тогда как задача истинного искусства противоположна: «сделать понятным то, что непонятно» (53, 116 - 117). К сожалению, имя Амиеля в связи с этими размышлениями Лев Николаевич не упоминает, но то, что он вспоминал суждения Амиеля об искусстве, заново переживал мощное от них впечатление 1892 года, формулируя собственные суждения об искусстве, включённые в вышеупомянутый итоговый трактат – думается, вне сомнений. ]
Всякий человек подобен укротителю диких зверей, а эти звери — его страсти. Вырвать им клыки и когти, зануздать их, приручить, сделать из них домашних животных, слуг, хотя бы и рычащих, но всё-таки покорных, – в этом личное воспитание.
[Сравн.: «Круг чтения», 4 марта, тема «Воздержание»; 41, 149. Примечательно, что остальные мысли, соседствующие в записях «Круга чтения» на 4 марта, так или иначе связаны не с темой обуздания человеком страстей как таковых, а с более узкой темой – обличением обжорства и пропагандой воздержания в пище, поста. Определённо, в этой теме Толстой был достаточно независим от влияния Амиеля: статья «Первая ступень», лучшее его публицистическое выступление на тему обжорства и поста (часто ложно интерпретируемое как пропаганда вегетарианства), вышло из-под пера Льва Николаевича в 1891 году, то есть до знакомства с дневником Амиеля].
18 мая 1862 г.
Вернувшись час тому назад, я пел в своей уединённой комнате всевозможные песни. Откуда взялась во мне эта весёлость? От проведённых здоровых нескольких часов после обеда в благодушном обществе и от совокупности приятных впечатлений. Я любил всех вокруг себя, и моя симпатия возвращалась на меня же в виде любви. Я всех развеселил: и наших друзей, и родителей, и детей, и гостей. Я смеялся, играл, шалил. Я вернулся к детской простоте, к наивной и первобытной радости, которая так благодетельна. Я чувствовал непреодолимое и всепобеждающее влияние доброты. Она умножает жизнь, как роса умножает цветы. Я чувствую в себе сокровища нежности и самоотвержение для времени, когда жизнь вдвоём и обязанности отца потребуют их. У меня нет никакого мирского честолюбия; семейная жизнь и жизнь умственная только одни улыбаются мне. Любить и мыслить — вот две мои неразрушимые потребности. При тонком, поворотливом, сложном и хамелеонистом уме у меня сердце ребёнка; я люблю только совершенство или шутку — две крайности. Истинные художники, истинные философы, истинно религиозные люди уживаются только с простотою маленьких детей или величием высших произведений духа, то есть с чистой природой или с чистым идеалом. И я в своей бедности чувствую то же. Всё среднее кажется мне ничтожным, надо прилаживаться и к нему, но люблю я другое. Полунаука, полуталант, полуделикатность, полуизящество, полудостоинство — таков свет. И воспользоваться этим светом можно только с тем, чтобы сделать из него себе школу терпения и кротости. Но для доброты у меня нет ни критики, ни сопротивления, ни сдержанности; я прощаю ей всё, потому что она важнее всего. Я жажду и алчу простой доброты, потому что насмешка, подозрение, недоброжелательство, зависть, горечь, дерзкие суждения, ядовитая злоба начинают занимать теперь всё большее и большее место, и в обществе воюют почти все против всех, а в частной жизни производят бесплодность пустыни.
9 августа 1862 г.
Жизнь, которая хочет утверждать саму себя в нас, стремится восстановлять самоё себя независимо от нас, она сама поправляет свои прорехи, чинит свои паутины, когда они прорываются; восстановляет условия нашего благосостояния; вновь ткёт повязку на наши глаза, возвращает нашим сердцам надежду, вновь вливает здоровье в наши органы; вновь золотит химеру в наших воображениях. Без этого опыт жизни износил, изнурил и иссушил бы нас безвозвратно много раньше срока, и отрок был бы старше столетнего старца. Самая мудрая часть нашего существа не есть ли та, которая не знает самоё себя? И рассудительнее всего в человеке — это то, что не рассуждает; инстинкт, природа, духовная и безличная деятельность излечивают нас от наших личных сумасшествий; невидимый гений нашей жизни неустанно поставляет материал расточительности нашего «я». Главную и материнскую основу нашей сознательной жизни составляет наша бессознательная жизнь, которую мы так же мало видим, как наружное полушарие Луны видит земля, несмотря на то что оно неразрывно и вечно связано с ней. Это наше а;;;;;;;, как говорит Пифагор.
[Греч. ;;;;;;;;, “антихон” – в представлениях древних греков это протиоположная, неведомая часть земли, где живут антиподы. Кроме того, антихоном пифагорейцы называли некий предполагавшийся ими спутник земли, ограждающий её от Центрального Космического Огня. – Р.А.]
7 ноября 1862 г.
До какой степени вредны, заразительны и нездоровы: постоянная улыбка равнодушной критики, эта бесчувственная насмешка, которая разъедает, пересмеивает и разрушает всё, которая разочаровывается во всякой личной обязанности, во всякой бренной привязанности и которая дорожит только пониманием, а не действием!
Критицизм, ставший привычкой, типом и системой, становится уничтожением нравственной энергии, веры и всякой силы. Одна из моих склонностей влечёт меня к этому, но я отступаю перед последствиями, когда встречаю ещё более чистый тип такого критика, чем я сам. По крайней мере, я не могу упрекнуть себя в том, что когда-либо пробовал уничтожить нравственную силу в других. Моё уважение к жизни запрещало мне это, и моё недоверие к самому себе избавляло меня от этого соблазна.
Этот род ума очень опасен в нас, потому что он поощряет все дурные инстинкты: распущенность, неуважение, эгоистический индивидуализм и приводит к социальному атомизму.
Не презирай своего положения: в нём ты должен действовать, страдать и победить. На всякой точке земли мы одинаково близки к небу и к бесконечному.
[Сравн.: «Круг чтения», 2 марта, тема «Слияние своей воли с волей Бога»; 41, 143:
«Не думай, что твоё положение таково, что ты в нём не можешь сделать того, что предназначено человеку. На всякой точке земли мы одинаково близки к небу и к бесконечному».
Всё суждение выделено курсивом, что указывает на его особенную значительность для составителя «Круга чтения». Первое предложение отредактировано: таким образом Лев Николаевич хотел обозначить близкую ему мысль о высшем предназначении человека в мире как посланника Отца. «Действовать, страдать и победить» необходимо не в своевольных предприятиях жизни, а именно блюдя волю Бога. ]
Вне элемента, общего всем людям, есть элемент, разделяющий их. Этот элемент может быть религией, родиной, языком, воспитанием. Но если предположить, что и это всё общее, то остаётся ещё что-то, служащее разграничением, и это — идеал. Иметь или не иметь идеала, иметь такой или иной идеал — вот что прорывает пропасть между людьми, даже между теми, которые живут в одном кругу, под одной крышей или в одной комнате. Надо любить одной любовью, думать одной мыслью, чтобы избегнуть одиночества.
Обоюдное уважение включает скромность и сдержанность в самой нежности, заботу соблюсти наибольшую часть свободы тех людей, жизнь которых разделяешь. Надо не доверять своему инстинкту вмешательства, потому что желание преобладания своей воли часто скрывается под видом заботливости.
13 января 1863 г.
Обыкновенно слово служит для объяснения действия. Во французской же трагедии действие есть только приличный предлог для того, чтобы говорить; это приём, употребляемый для того, чтобы извлечь самые красивые речи из уст людей, участвующих в этом действии и созерцающих его в его различные моменты и фазы. Любовь и природа, долг и склонности и десятки других нравственных антитез суть члены, движимые ниткой драматурга и рисующие все трагические положения. Что действительно любопытно и забавно, это то, что самый живой, весёлый и умный народ всегда понимал благородное самым чопорным и напыщенным образом. Но это неизбежно.
8 апреля 1863 г.
Вновь перелистал 3800 страниц «Міs;rables» [«Отверженные», роман Виктора Гюго. – Р.А.], отыскивая единство этого большого сочинения. Основная мысль следующая. Общество порождает печальные и ужасные бедствия (проституцию, бродяжничество, класс людей без определённого положения, злодеев, воров, каторжников, войну, революционные собрания и баррикады). Оно должно сказать себе это и не относиться ко всем тем, кто нарушает закон, как к простым уродам. Очеловечить закон и общественное мнение, поднять падших так же, как и побеждённых, образовать социальное искупление — вот задача. Но как? Уничтожить порок, разливая свет, возрождать виновных прощением — вот средство. В сущности, распространение милосердия от грешника до приговорённого, применение уже в этой жизни того, что церковь более охотно применяет к будущей, – не есть ли это охристианение общества. Возвратить к порядку и добру неустанной любовью, вместо того чтобы задавить непреклонной карой и суровой справедливостью — таково направление книги.
Оно благородно и высоко. Но оно немного оптимистично и напоминает Руссо. Представляется, что личность всегда не виновата, а виновато всегда общество. В сущности, идеал (для XX века) есть демократический, золотой век, всемирная республика, в которой война, смертная казнь и пауперизм исчезнут; это религия и царство прогресса; одним словом, это утопия XVIII века, взятая в большем виде. Много великодушия и немало химеры. И химера состоит в слишком внешнем понимании зла. Автор хочет не знать и делает вид, что забыл инстинкт извращённости, любовь к злу для зла, которые содержит в себе человеческое сердце. Великая и спасительная идея этого произведения в том, что законная честность есть кровожадное лицемерие, как только она собирается делить общество на избранных и отверженных и смешивает относительное с абсолютным. Капитальное место — это то, где соскочивший с рельсов Жавер опрокидывает всю нравственную систему строгого, неподкупного Жавера, этого шпиона, священника, этого прямолинейного полицейского. Эта глава показывает нам общественное милосердие, просвечивающее сквозь точную и бесчеловечную справедливость, уничтожение общественного ада, т.е. непоправимых заклеймений, бессрочных и неизлечимых прегрешений: эта идея истинно религиозная.
Виктор Гюго рисует серной кислотой и освещает электричеством; он скорее оглушает, ослепляет и закруживает своего читателя, чем очаровывает или убеждает его. Сила в такой степени есть околдование; не покоряя – она пленяет; не очаровывая — она околдовывает. Его идеал — необыкновенное, гигантское, опрокидывающее, несоизмеримое; его характерные выражения это: «огромное, колоссальное, громадное, великанское, чудовищное». Он ухитряется даже преувеличивать детское, наивное; единственное, что кажется недоступным ему, — это естественное. Одним словом, его страсть — величие; его ошибка — излишество; его отличительная черта — это титаническое со странным диссонансом ребячества в великолепии; его слабая сторона — это чувство меры, вкус, чувство смешного и ум в тонком смысле этого слова. Виктор Гюго — офранцуженный испанец; или вернее — в нём все крайности юга и севера, скандинава и африканца; но он менее всего имеет свойства галла. И, по странной случайности, он – один из литературных гениев Франции XIX века! Его средства неисчерпаемы, и года, кажется, на него не влияют.
Какое бесконечное количество слов, мыслей, форм он волочит с собой; и какие горы произведений, отмечающих его путь, он оставляет за собой. Это точно извержение вулкана, и этот баснословный работник продолжает подымать, расшатывать, месить и строить свой особенный мир, мир индусский скорее, чем эллинский.
Он поражает меня. Но всё-таки я предпочитаю гения, который даёт чувство правды и увеличивает внутреннюю свободу. У Гюго чувствуется циклон и усилие; но опять-таки я предпочитаю звучный лук Аполлона и спокойное чело Юпитера Олимпийского.
2 сентября 1863 г.
Как назвать то неуловимое ощущение, которое преследовало меня сегодня утром в полумраке пробуждения? Это было прелестное, но смутное воспоминание, без имени, без очертаний, как образ женщины, смутно представляющийся глазам больного в темноте его комнаты и в неопределённости бреда. У меня было ясное чувство, что это было симпатичное лицо, которое я где-то встречал и которое когда-то взволновало меня, а потом было забыто мной. Но всё остальное было смутно – и место, и время и сама личность, потому что я не видел ни лица, ни выражения. Всё вместе было как летающий вуаль, под которым скрывалась загадка счастья. И я был достаточно пробуждён, чтобы быть уверенным, что это не был сон.
Так вот последние следы вещей, которые утопают в нас, последние следы умирающих воспоминаний. Неуловимый, блуждающий огонёк, освещающий неопределённое впечатление, про которое мы не знаем, страдание ли это или радость; свет над могилой? Как это странно!.. Дело в том, что я не мог заставить это привидение сказать мне своё имя, не мог заставить это воспоминание усвоить прежнюю ясность...
25 ноября 1863 г.
Молитва есть существенное орудие религии. Тот, кто не может молиться, потому что сомневается в бытии Того, к Кому восходят молитвы и от Кого нисходят благословения, — тот жестоко одинок и необычайно беден. Ну а ты, что ты думаешь об этом? В эту минуту мне трудно было бы сказать это. Все твои положительные верования направлены к изучению и подлежат изменениям. Истина прежде всего, даже тогда, когда она расстраивает. Верю же я в то, что самое высокое понятие, которое мы можем себе составить о начале вещей, будет и самое истинное, и что самая истинная истина будет та, которая сделает человека наиболее гармонически добрым, наиболее мудрым, великим и счастливым. Мой символ веры в переделке. Но всё же я верю в Бога и в бессмертие души. Я верю в святость, правду, в красоту; я верю в искупление души через веру в прощение. Я верю в любовь, в самоотвержение, в честь. Я верю в долг и в нравственную совесть. Я верю даже в молитву. Я верю в основное духовное сознание человеческого рода и верю в великие утверждения вдохновенных людей всех времён. Я верю, что наша высшая природа — есть и наша настоящая.
Может ли из этого выйти теология и теодицея. Вероятно да, но в настоящую минуту я не ясно вижу это. Так давно уже я не смотрел с точки зрения своей метафизики и живу чужой мыслью. Я начинаю даже спрашивать себя, необходима ли кристаллизация моих догматов. Да, для того, чтоб проповедовать и действовать, но не менее для того, чтоб наблюдать, созерцать и учиться.
4 декабря 1863 г.
Видеть все вещи в Боге, сделать из своей жизни движение к идеалу, жить благодарностью, сосредоточением, кротостью и мужеством — в этом удивительная точка зрения Марка Аврелия. Прибавить к этому коленопреклоненное смирение и жертвующее собой милосердие, и это будет мудрость детей Божьих. В этом бессмертная радость истинных христиан. Какое плохое христианство то, которое злословит мудрость и обходится без неё. В таком случае я предпочитаю мудрость, которая оправдывает Бога, даже в этой жизни. Признак фальшивой религиозной мысли — это откладывать жизнь и различать святого человека от добродетельного. Эта ошибка отчасти была ошибкой средних веков и, может быть, католицизма в его сущности. Но истинное христианство должно быть освобождено от этой пагубной ошибки.
Вечная жизнь не есть будущая жизнь; это жизнь в порядке, жизнь в Боге, и надо приучаться смотреть на время, как на движение вечности, как на колебания океана Бытия. Жить, поддерживая совесть sub specie aeterni [лат. с точки зрения вечности], это значит быть мудрым; жить, осуществляя вечное, — это значит быть религиозным.
[Сравн.: «Круг чтения», 24 января, тема «Мудрость»; 41, 56.
Изложение Толстым – скорее, именно изложение, а не цитирование – вышеприведённой записи из дневника Амиеля законно снабжено подписью «По Амиелю», указывающей на значительность внесённых правок. Как и во многих других случаях, когда Амиель (да и ряд других авторов) затрагивает в своих писаниях важнейшие для Льва Николаевича философские вопросы бытия и религиозного сознания человека, Толстой лишь использует нужный фрагмент для выражения тех степеней осветившейся в его сознании высокой истины и преодоления суеверий древнего невежества, которые достигнуты им, Толстым – совершенно не считаясь с тем, что они не были в своё время достигнуты используемым им автором, который, вероятнее всего, не с ходу согласился бы (если бы и мог, подумав, согласиться) с толстовскими переложениями своих идей.
Вот в каком виде только что приведённая нами запись Амиеля от 4 декабря 1863 г. вышла из-под редакторского пера яснополянского мудреца:
«Видеть все вещи в Божественном совершенстве, сделать из своей жизни движение к этому совершенству – в этом удивительная точка зрения мудрецов древности: Сократа, Эпиктета, Марка Аврелия. Есть такое христианство, которое злословит мудрость и хочет не признавать её. А между тем насколько мудрость, довольствующаяся Царством Божьим на земле, выше того учения, которое учит тому, что оно возможно только за гробом.
Признак ложного учения – тот, чтобы откладывать жизнь до другого времени и ценить верующего в своё учение человека выше добродетельного» (41, 56).
Несомненно следует усомниться в том, что Анри Амиель без сомнений и размышлений подписался бы под этими, без сомнения гениальными, но и беспощадными в отношении оригинала, строками. Может быть, он даже и не опознал бы в них собственные мысли – при обратном переводе на французский.
Римлянин Марк Аврелий в толстовском переложении получил достойный и авторитетный греческий «эскорт» в лице Сократа и Эпиктета. «Эскорт» мог бы быть и посолидней, так как Толстой назвал лишь некоторых «мудрецов древности», между тем как в плеяде «мудрых учителей человечества», неоднократно перечислявшихся им в статьях, письмах и устно у него фигурируют, к примеру, всеобязательные Иисус Христос, Блез Паскаль, Лао-Цзы с Конфуцием, очень частые Ян Гус и Пётр Хельчицкий, кумир юности Руссо, равно как и ряд немецких и американских (Ральф Эмерсон, Генри Торо) классиков философской и художнической мысли. В лжехристианском мире не всех из них не то, что читают в наши дни, но хотя бы помнят по именам…
Амиелевы «коленопреклоненное смирение и жертвующее собой милосердие» вместе с «бессмертной радостью» Толстой из своей редакции вычистил. И дело не только в их избыточности в передаче мысли: ибо движение христианина к идеалу божественного совершенства само по себе подразумевает радости смирения и милосердия. Дело, как нам представляется, – в стилистическом чутье Льва Николаевича. Не по самой, вполне христианской, идее, а именно по лексическим и эмотивным характеристикам её подачи, этот отрывок режет слух своим сходством со стилем устных поповских проповедей со всеми их ляпами, невежеством и фарисейством. Амиель говорит далее, что те «плохие христиане», кто обходятся без мудрости, то есть не знают или не признают её – это адепты католицизма «в его сущности», каким он вышел из средних веков. Ограничения цензуры мешали Толстому расширить амиелев «список» ложных христиан. Но легко догадаться, что Лев Николаевич не ограничивается ни средневековьем, ни католиками: для него это «пастыри» и «пасомые» всех современных ему и нам церквей, самозванок во Христе. Именно церковные фарисеи – а недаром ведь в своём евангелии Толстой называет еврейских фарисеев «православными»! – подходят под описание Амиеля и Льва: и сами к свету истины не идут, и «стадо» своих верунов (перед истиной трусливых серунов) отманивают. А если кто отобьётся от стада и всё-таки пойдёт узкой тропой да сквозь тесные врата к Богу и Христу – тех для толпы немедленно аттестуют отщепенцами: либо врагами-ересиархами, либо (что гораздо хуже) особенными «святыми». Святые ведь (настоящие, а не те бывшие военные убийцы, стяжатели-богачи или жулики-правители, кого намеренно причисляют к ним в административном порядке церкви, чтобы у овечек церковных уж совершенно всё спуталось в мозгах) – это ведь только истинно-добродетельные люди, не довольствующиеся внешней, показной, фарисейской «святостью», чаще всего выражающейся в преданности «своей» церкви, её бредословию и идолослужениям в храминах, да ещё в щедрых подачках попам на свечечки и ращение брюх. Святые, как и сам Христос, это пример остальным. Пример повседневного земного исполнения человеком не человеческих установлений, а высшей воли Бога. И исполнять её можно и необходимо не в будущем и не ради «загробного» занудного «райского блаженства», а ради блага и радости в теперешней жизни и для созидания Царства Божия – не там, куда Гагарин уж слетал и не обнаружил, а там, где ему и нужно быть: в мире людей, на земле! ]
Если национальность — соглашение, то государственность — это насилие.
Свобода, равенство — несовершенный принцип! Истинно человеческий принцип — это справедливость, а справедливость относительно слабого — это покровительство и доброта.
2 апреля 1864 г.
Снег, чичер, апрельские капризы, и затем потоки солнца и как бы лучи дождя. Припадки слёз и смеха переменчивого неба, порывы ветра, вихри. Погода похожа на капризную девочку, которая двадцать раз в один день переменяет выражение лица и желания. Это — благодеяния для растений.
Прилив жизни в жилах весны. Амфитеатр гор нашей долины затянут белым до подошвы, но два часа солнца — и весь лёгкий снег этот исчезнет. Опять новый каприз, простая декорация, готовая перемениться по свистку машиниста.
Как чувствуется неустановимая подвижность всех вещей. Проявиться и исчезнуть – в этом вся комедия мира, в этом биография всякой личности, какая бы ни была продолжительность того цикла существования, который она описывает. Всякая жизнь есть только тень от дыма, только движение в пустоте, иероглиф, начертанный в одно мгновение на песке и стираемый в следующее мгновение дуновением. Воздушный пузырёк, который лопается на поверхности великого потока существования, видимость, нищета, ничтожество. Но ничтожество это – всё-таки символ Всемирного Существа, и эфемерный пузырёк этот содержит в себе историю мира. Человек, который незаметно содействовал делу мира, — жил; человек, который хоть сколько-нибудь сознал его, тоже жил. Простой человек служит своей деятельностью как колесо машины. Мыслитель служит своей мыслью как просветитель, думающий, утешающий, подымающий и поддерживающий своих спутников; смертных и преходящих, как он, делает ещё лучше: он соединяет обе первые пользы. Дело, мысль, слово – это одинакие образы человеческой жизни. Ремесленник, учёный и оратор — все трое работники Божии.
Действовать, находить, учить – эти три вещи представляют из себя труд, все три хороши, все три необходимы. Хотя и блуждающие огни, мы всё же можем оставить след. Хотя и метеоры, мы можем продлить нашу гибнущую слабость в памяти людей или, во всяком случае, в сплетении последующих событий. Всё исчезает, но ничего не теряется; и цивилизация или гражданственность человека есть не что иное, как огромная духовная пирамида, созданная из произведений всего, что жило в образе нравственного существа; так же как наши известковые горы образованы из остатков мириад миллиардов безыменных существ, которые жили в виде микроскопических животных.
[Мы не обнаружили у Льва Николаевича цитат именно по этой записи, но влияние выраженной в ней идеи величия физически ничтожного и эфемерного существа человека – величия его как обладателя Божьих даров разумения и вдохновения, как «символа Всемирного Существа» – была очень близка Толстому. Лучшее её выражение он находил всё у того же обожаемого им Блеза Паскаля, в одном из знаменитейших его суждений о человеке - «мыслящей тростинке»:
«Человек — всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он — тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не нужно, чтобы на него ополчилась вся Вселенная: довольно дуновения ветра, капли воды. Но пусть бы даже его уничтожила Вселенная, — человек всё равно возвышеннее своей погубительницы, ибо сознаёт, что расстаётся с жизнью и что он слабее Вселенной, а она ничего не сознаёт. Итак, всё наше достоинство — в способности мыслить. Только мысль возносит нас, отнюдь не пространство и время, в которых мы — ничто. Постараемся же мыслить благопристойно, в этом — основа нравственности». («Мысли», из гл. ;;; «Величие человека, в чём оно проявляется», мысль 264).
Сравн. в «Круге чтения» Л.Н. Толстого (26 июня «Разум»):
«В сравнении с окружающим его миром человек — не более как слабый тростник; но он — тростник, одарённый разумением.
Какого-нибудь пустяка достаточно, чтобы убить человека. И всё-таки человек выше всяких тварей, выше всего земного, потому что он и умирая будет разумом своим сознавать, что он умирает. Человек может сознать ничтожество своего тела перед природою. Природа же ничего не сознаёт.
Всё наше преимущество заключается в нашей способности разуметь. Одно только разумение возвышает нас над остальным миром. Будем же ценить и поддерживать наше разумение, и оно осветит нам всю нашу жизнь, укажет нам, в чём добро, в чём зло» (41, 440-441). ]
16 ноября 1864 г.
Шарик воздуха в крови, капля воды в мозгу, и человек разрушается, его машина ломается, его мысль исчезает, и мир исчезает, как сон при появлении утра. На какой тонкой паутине висит наша личная жизнь. Хрупкость, видимость, ничтожество. Если бы не развлечения и наша способность забывать, всё волшебство, которое увлекает и окружает нас, казалось бы нам солнечным призраком во мраке, пустым видением, преходящей галлюцинацией. Появился и исчез – вот вся история человека, равно как и мира и инфузорий.
[Упоминание Амиелем развлечений как средства забвения ничтожества и горестей жизни – ещё одно свидетельство влияния на Амиеля философии Блеза Паскаля. О развлечениях он так, к примеру, писал в своих «Мыслях»:
«Все мы ищем не того мирного и ленивого существования, которое оставляет сколько угодно досуга для мыслей о нашей горестной судьбе, не военных опасностей и должностных тягот, но треволнений, развлекающих нас и уводящих прочь от подобных раздумий.
Вот почему люди так любят шум и суету, вот почему им так невыносимо тюремное заключение и так непонятны радости одиночества». («Мысли», глава ;;. Ничтожество человека. Вводящие в обман могучие силы. 8. Развлечение. Мысль 205). ]
Время есть величайшая иллюзия. Оно есть только внутренняя призма, через которую мы разлагаем бытие и жизнь, образ, под которым мы постепенно видим то, что вневременно в идее. Глаз не видит сферу всю сразу, хотя сфера существует вся сразу. Нужно одно из двух: либо чтобы сфера вертелась перед глазом, который смотрит на неё, либо чтобы глаз обошёл вокруг наблюдаемой им сферы.
В первом случае это мир, развёртывающийся или как будто развёртывающийся во времени; во втором случае это наша мысль, анализирующая и постепенно восстанавливающая. Для высшего разума нет времени; что будет, то есть. Время и пространство – это раскрошение бесконечного для пользования им существами конечными.
[Сравн.: «Круг чтения», 31 декабря, тема «Настоящее» (42, 392); «На каждый день», 27 января, тема «Жизнь в настоящем» (43, 53 - 54); «Путь жизни», Отдел XXI. Жизнь в настоящем, Глава 1. Истинная жизнь не во времени (45, 330 - 331).
Даже по тому факту, что Толстой включил данный отрывок записи Амиеля от 16 ноября 1864 г. во все три главные свои антологии мудрой мысли, мы можем судить, что Лев Николаевич относил его к своим «фаворитам» – не только амиелева дневника, но и всей мировой философии.
Об этом свидетельствует также значительность, и несомненная, редакции, к которой прибегнул Толстой, готовя данный отрывок для помещения в последнюю по времени составления из указанный книг – «Путь жизни» (в сборниках «Круг чтения» и «На каждый день» редакция свелась к избавлению текста от малопонятных тогдашнему простому читателю слов «иллюзия» и «сфера»).
Вот каким стал в конце концов этот отрывок в книге «Путь жизни»:
«Нам только кажется, что есть время. Его нет. Время – это только приспособление, посредством которого мы постепенно видим то, что действительно есть и что всегда одно. Глаз не видит шара всего сразу, хотя шар существует весь сразу. Для того, чтобы глаз видел шар, нужно, чтобы шар вертелся перед глазом, который смотрит на него. Так и мир развёртывается, или как будто развёртывается перед глазами людей во времени. Для высшего разума нет времени: что будет, то есть. Время и пространство – это раскрошение бесконечного для пользования им существами конечными» (45, 330 - 331).
Да, осталось вполне узнаваемо. И даже понятней, проще. Вымараны термины и категории «иллюзии», «сферы», «вневременности в идее».
Главное – куда-то сгинул обходящий сферу глаз, он же мысль анализирующая и восстанавливающая… Разумеется, убраны глаз и мысль не просто так и не для большего упрощения текста: Толстой в 1900-е гг. очень много размышлял над проблемами философских определений бытия, движения и времени, чему свидетельство – записи в его Дневнике. Приведём образцы таких рассуждений, непосредственно связанных с анализируемым нами отрывком из Амиеля.
Так, 31 декабря 1906 года Лев Николаевич делает попытки философского определения движения как увеличивающегося в человеке жизнетворного «вечного сознания», сознания им своей божественности (сыновности Богу). И как раз в связи с этим определением Толстой вспоминает амиелев образ вертящейся сферы. «Движение жизни, – заключает он, – есть вертящаяся бесконечная сфера» (55, 290).
Ход размышлений на эту же тематику и в связи с этим же образом вертящейся сферы Толстой продолжает в записи Дневника от 14 января 1907 года:
«…Время, как говорит Амиель, [суть] вращение передо мной сферы. Но я-то где? И вдруг мне ясно стало, что я вращаюсь вместе со сферой (бесконечной) и вместе с тем стою над ней (или в ней), созерцая её.
И мне вдруг пришла удивительная мысль по своей простоте и по тому, что она никогда не приходила мне, -- именно, что если есть движение (а мы все сознаём движение жизни), то движение может быть только относительно чего-нибудь неподвижного. И это неподвижное духовное и есть то «я», которое созерцает движущуюся жизнь.
Как удивительно ясно и просто – не доказательство, а уяснение той бессмертной духовности, которая составляет сущность «я» человека, да и всякого существа.
Жизнь трепещет в каждом существе именно оттого, что каждое существо движется вместе со всеми и вместе с тем неподвижно, как сознание» (56, 6-7. Выделение курсивом наше. – Р.А.).
Думается, такая весточка напрямую из интеллектуальной «кухни» яснополянского философа в достаточной мере проясняет смысл внесённых Толстым в амиелев отрывок о времени редакций.
Примечательно и, быть может, не случайно, что датируется одна из вышеприведённых записей – 31-м декабря. То есть тем же предновогодним днём, под которым в «Круге чтения» Толстой изложил амиелевы и свои (а также Паскаля, Лихтенберга и Марка Аврелия) суждения о том, что прошлого и времени нет, что «число, время, измерение» – лишь иллюзии человечьей телесности, что время не «проходит» и не движется, а «движемся мы» (это, кстати, взято из Талмуда), и что важна для человека должна быть поэтому лишь его истинная, то есть духовная и любовная, жизнь в настоящем. Любопытные и немного странные среди предновогодней суеты мысли обдумывал Толстой сам и презентовал своим читателям! Но, может быть, именно в канун Нового года они и наиболее своевременны и полезны для не увлекающегося общими в эти дни глупостями и гадостями, мыслящего и серьёзного человека? ]
Наша жизнь ничто, это правда, но наша жизнь божественна. Дуновение природы уничтожает нас, но мы превосходим природу, проникая далее её удивительной фантасмогории до неизменного и вечного. Посредством внутреннего экстаза уйти от водоворота времени, увидать самого себя sub specie aetemi – это лозунг великих религий высших пород; и эта психологическая возможность есть основа всех великих надежд. Душа может быть бессмертна, потому что она способна подниматься до того, что не рождается и не умирает, до того, что существует субстанциально, необходимо, неизменно, то есть до Бога.
Зародыши всего находятся в каждом сердце, и самые большие преступники и самые большие герои суть только различные виды нас самих. Только зло делается само собой, а добро требует мужества.
В основании всего лежит печаль, как в конце всех рек — океан. Разве может быть иначе в мире, где ничто не длится, где всё, что мы любили, любим и будем любить, должно умереть.
Смерть — так вот в чём тайна жизни! Траур окутывает вблизи или издалека всякую сосредоточившуюся в себе душу, как ночь окутывает Вселенную.
Уметь внушить – это великая педагогическая тонкость. Для этого надо угадывать, что интересует, и читать в детской душе, как по нотам. И тогда только, переменив ключ, поддерживаешь интерес и изменяешь песню.
3 апреля 1865 г.
Искра счастья и хоть один луч надежды стоят всех докторов в мире. Главная пружина жизни в сердце. Радость есть живительный воздух нашей души. Печаль есть астм усложнённой атонии. Наша зависимость от окружающих обстоятельств возрастает с нашим ослаблением, и наше сияние составляет нашу свободу. Здоровье есть первая свобода, а счастье даёт силу, которая есть основа здоровья. Сделать кого-нибудь счастливым – значит, строго говоря, увеличить его бытие, удвоить силу его жизни, открыть ему же его самого, увеличить его и иногда преобразить его. Счастье уничтожает безобразие и делает даже красоту красивее. Можно сомневаться в этом только, если никогда не видел света пробуждения первой нежности в ясном взгляде. Даже заря ничто в сравнении с этим чудом.
Для материалистической философии красота есть только случайность, и поэтому редко встречающаяся; для спиритуалистической же философии красота есть правило, закон, общее свойство, к которому возвращается всякая форма, как скоро уничтожится то, что мешало её проявлению.
Почему мы некрасивы? Потому что мы не в ангельском состоянии, потому что мы дурны, суровы, несчастны.
Героизм, восторг, молитва, любовь, энтузиазм – всё это производит ореол вокруг чела, потому что они освобождают душу, душа же делает прозрачной свою оболочку и светится вокруг неё. Следовательно, красота есть явление одухотворения материи; она есть мгновенное введение в рай (emparadisement) избранного предмета или существа; она есть как бы упадший с неба на землю дар для напоминания миру об идеале. Изучать её – значит почти неизбежно платонизировать. Как сильный электрический ток может сделать металлы блестящими и открывает их сущность по цвету их пламени, так же и усиленная жизнь и высшая радость украшают до сияния простого смертного. Итак, человек только тогда истинно человек, когда он в божественном состоянии.
Идеал, в сущности, более истинен, чем сама реальность, потому что идеал есть вечный момент вещей гибнущих: он их тип, их число, их причина существования, их формула в книге Творца; следовательно, он есть их вернейшее и в то же время кратчайшее выражение.
13 августа 1865 г.
Сколько разных людей в одном человеке, сколько разных стилей в одном великом писателе. Руссо, например, сколько различных родов писаний он создал! Воображение преображает его, и он удовлетворяет самым разнообразным ролям, даже роли чистого логика. Но так как воображение есть та ось, на которой вертится его умственная деятельность, его главная способность, то во всех его произведениях есть полуискренность и полуспор. Чувствуется, что его талант бьётся сам с собою об заклад, как Карнеад, в том, чтобы всё доказать, хотя бы это было и неправда, как скоро это стало делом самолюбия. Впрочем, это есть искушение всякого таланта: подчинять вещи себе, а не себя вещам; побеждать для победы, подставлять самолюбие вместо совести.
Талант всегда рад побеждать в хорошем деле, но он охотно бывает кондотьером и довольствуется победой там, где его знамя. Мне кажется даже, что успех тогда, когда защищаемое дело слабо и дурно, несравненно более лестен для таланта, потому что тогда он не разделяет свой успех ни с кем другим.
Парадокс есть лакомство умных людей и радость людей с талантом. Так приятно быть правым в противность всем людям и озадачивать банальный здравый смысл и вульгарную пошлость. Любовь к истине и талант не сходятся; их склонности разные, часто разнятся и их пути. Для того чтобы заставить талант служить, тогда как по своему инстинкту он хочет начальствовать, нужен нравственный смысл, очень чуткий и сильный характер. Греки, артисты слова, были хитрецами со времён Одиссея, софистами — во времена Периклеса, риторами, придворными и лукавыми до конца Византии. Их талант был причиной их порока.
Выступить в свет, как Руссо, полемикой – это значит приговорить себя к постоянным преувеличениям и войне. Тогда искупаешь свою славу двойной горечью: той, что никогда уже не можешь быть вполне правдивым и не можешь уже свободно располагать собой. Ссориться с миром привлекательно, но опасно.
Руссо был предком во всём: он создал странничество пешком раньше Тёпфера, мечтательность раньше Рене, литературную ботанику раньше Жорж Занд, культ природы раньше Бернардена де Сен-Пьера, демократическую теорию раньше революции 1789 года, политические и богословские рассуждения раньше Мирабо и Ренана, педагогику раньше Песталоцци, живопись Альп раньше де Соссюра; он сделал музыку модной и возбудил в обществе вкус к исповедям; он создал новый французский стиль, сжатый, разработанный, плотный и страстный. Словом, можно сказать, что ничего не пропало из того, что дал Руссо, и что никто больше него не повлиял на французскую революцию, так как он был её полубогом между Некаром и Бонапартом, также и то, что никто больше него не повлиял на XIX век, так как Байрон, Шатобриан, де Сталь, Жорж Санд — вытекают из него.
7 января 1866 г.
Наша жизнь есть только мыльный пузырь, висящий на соломинке: она возникает, расширяется, окрашивается самыми прекрасными цветами радуги; она минутами не подчиняется даже законам тяготения; но вскоре на нём появляется чёрное пятнышко, и золотистый и изумрудный шар исчезает в пространстве и обращается в простую капельку грязной жидкости. Все поэты делали это сравнение, оно поразительно своей истинностью. Появиться, блестеть, уничтожиться, возникнуть, страдать, умереть — не в этом ли вся жизнь эфемера, народа, небесного тела?
Время есть только мера трудности понимания; чистая мысль почти не нуждается во времени, потому что она почти одновременно видит оба конца идеи. Природа только трудом совершает мысль планеты, но высший разум совершает её в одной точке. Следовательно, время есть последовательное раздробление бытия, как слово есть последовательный анализ интуиции или воли. Само по себе оно относительно и отрицательно и исчезает в абсолютном бытии. Бог вне времени, потому что Он мыслит одновременно всякую мысль; природа же во времени, потому что она только слово, дискурсивное развёртывание мысли, содержащейся в бесконечной мысли. Но природа истощается в этой невозможной задаче, потому что анализ бесконечного есть противоречие. При бесконечной продолжительности, безграничном пространстве и беспредельном числе природа делает по крайней мере то, что она может для того, чтобы передать богатства творческой формулы. По тем безднам, которые она открывает для того, чтобы охватить мысль, не достигая этого, можно судить о величине божественного разума.
В сущности, современный человек чувствует страшную потребность забыться. Он испытывает тайное отвращение перед всем тем, что умаляет его; поэтому вечное, бесконечное, совершенство — для него пугало. Ему нужно одобрять себя, восхищаться собой, приветствовать себя, восхвалять себя и потому он отворачивается от всех бездн, напоминающих ему его ничтожество. В этом состоит истинная мелочность стольких могучих умов нашего времени. Недостаток личного достоинства наших цивилизованных вертопрахов, в сравнении с арабом пустыни, — всё увеличивающееся легкомыслие наших масс, правда, всё более и более образованных, но более зато и поверхностных в их понимании счастья.
В этом тоже для нас заслуга христианства – этого восточного элемента нашей культуры. Он делает противовес нашим стремлениям к конечному, преходящему, изменяющемуся, сосредоточивая ум на созерцании вещей вечных, платонизируя несколько наши привязанности, всегда удалённые от идеального мира, возвращая нас от рассеяния к концентрации, от светскости к вдумчивости, вкладывая в наши души, возбуждённые тысячами пошлых желаний, спокойствие, важность и благородство. И так же как сон служит молодящей ванной для нашей деятельной жизни, так же и религия составляет освежительную ванну для нашего бессмертного существа. Священное имеет очистительное свойство. И потому я думаю, что противники религии вообще ошибаются относительно требований западного человека и что современный мир потерял бы своё равновесие, как только он отдался бы исключительно ещё плохо созревшему учению прогресса. Мы всегда нуждаемся в бесконечном, вечном, абсолютном, и так как наука довольствуется относительным, то она оставляет пустое место, которое хочется наполнить созерцанием, культом и обожанием.
«Религия есть аромат, — сказал Бэкон, — который должен мешать жизни портиться», и это, в особенности в наше время, верно относительно религии в платоническом и восточном смысле. Глубокая сосредоточенность действительно есть условие высокой деятельности.
29 января 1866 г.
Что составляет прелесть этого существования, такого голого и пустого на вид? Свобода. Что для меня отсутствие комфорта и всего, чего недостаёт в моём жилище? Эти вещи для меня безразличны. Я нахожу под этой крышей свет, спокойствие, убежище. Я живу с сестрой и её детьми, которых я люблю. Моя материальная жизнь обеспечена. Этого достаточно для холостяка. Притом я — человек привычки, даже более привязанный к известным мне неприятностям, чем ищущий радостей мне неизвестных. Стало быть, я свободен, и мне недурно. Значит, мне хорошо здесь, и я был бы неблагодарным, если бы стал жаловаться. Я и не делаю этого. Это скорее вздыхает моё сердце, которое желает лучшего и большего. Но ведь известно, что сердце — ненасытный обжора, и кто же не вздыхает? Это наш земной удел. Только одни бесплодно мучаются, чтобы удовлетвориться, другие, предвидя результат, покоряются, не делая бесплодных и ненужных усилий. А так как нельзя быть счастливым и незачем много заботиться, надо ограничиваться строго необходимым, жить умеренно и воздержанно, довольствоваться малым и ценить только спокойствие совести и чувство исполненного долга.
Правда, что в этом немало честолюбия и что впадаешь в другую невозможность. Нет, самое простое — прямо и просто подчинить себя Богу. Всё остальное, как говорит Еклезиаст, есть только суета и томление духа.
Уже давно я знаю и чувствую это, и это религиозное отречение мне приятно и привычно. Внешние волнения, примеры мира, неизбежное увлечение течением вещей заставляют забывать приобретённую мудрость и усвоенные правила. Вот от этого-то так утомительно жить. Это вечное начинание сначала несносно до отвращения. Как хорошо бы было заснуть, когда уже сорвал плод опыта, когда уже не сопротивляешься высшей воле, когда освободился от своего я, когда находишься в мире со всеми людьми. Тогда как нужно вновь начинать круг искушений, споров, неприятностей, забвений, впадения в прозу, в terre-;-terre, в пошлость. Как это грустно и унизительно! Поэтому-то и торопятся поэты, выводят своих героев из борьбы и не волочат их после победы по битым дорогам обыденной жизни. Любимцы богов умирают молодыми, говорило древнее изречение.
Да, но такая судьба льстит нашему тайному чувству; это наше желание, а не воля Бога. Мы должны быть унижаемы, испытываемы, мучимы, искушаемы до конца. Наше терпение есть оселок нашей добродетели. Переносить жизнь без очарований, без надежды, покориться постоянной борьбе, любя мир, не удаляться от света, даже когда он претит, как дурное общество, как арена дурных страстей, оставаться верным своему Богу, не порывая сношений с сектантами ложных богов, не убегать из людской больницы, терпеливо сидеть, как Иов на своём гноище, — вот в чём заключается обязанность человека. Когда жизнь перестаёт быть обещанием, она не перестаёт быть обязанностью, и даже настоящее имя жизни – испытание.
[Об Иове и о религиозном смысле его страданий Анри Амиель рассуждает в данной книге ещё один раз, находясь уже не в эпицентре собственных страданий, как в 1866 году, а уже близко к их завершению: 19 марта 1881 года, менее чем за два месяца до своей кончины. Вот эти строки, для сравнения: «Отвращение, уныние. Сердце разрушается. <…> Зачем всё то, что дано мне? Для чего нужны были испытания Иова? Чтобы созрело его терпение, изощрилась его покорность».
Лев Николаевич вспоминает об этих записях Амиеля в своём Дневнике от 11 июля 1894 года: «Амиель хорош. Где он говорит о том, зачем надо было страдать Иову» (52, 128).
Примечательны здесь же размышления Льва Николаевича «об изложении веры». Снова – мысль о едином «христианском учении истины, доступном всем народам». Оно даёт человеку понимание смысла своей жизни как «посланника», «доверенного лица» Бога в мире. Это сознание уводит от отчаяния к радости. ]
28 апреля 1866 г.
Протестантство есть соединение двух факторов – авторитета писаний и свободного исследования; но как скоро один из этих двух факторов находится в опасности или исчезает, протестантство исчезает; его заменяет другая форма христианства, как, например, братство Св. Духа или христианский теизм. Что касается меня, я не имею ничего против такого результата; но я считаю друзей протестантской церкви логичными, когда они отказываются отступать от символа апостолов, и, напротив, считаю индивидуалистов нелогичными, когда они хотят сохранить протестантство без авторитета.
Вопрос о методе разделяет два лагеря. Я отделяюсь, по существу, от обоих лагерей. По-моему, христианство прежде всего религиозно, а религия не есть метод; религия есть жизнь высшая, сверхъестественная, жизнь мистическая в корне своём и практическая по своим плодам; религия есть общение с Богом, глубокая и тихая восторженность, лучистая любовь, деятельная сила, изливающая счастье: одним словом, религия есть состояние души.
Споры о методах имеют своё значение. но значение это второстепенно: они не утешат сердца, не просветят совести. Поэтому я вовсе не интересуюсь этой борьбой духовных партий. Пусть остаются победителями те или другие, сущность дела oт этого ничего не выиграет, потому что догматика, критика, церковь не составляют религии, а сущность — в религии, в божественном чувстве жизни. «Ищите царствия Божия и правды его, а это всё приложится вам». Самое христианское есть самое святое — вот критерий, с которым меньше всего ошибёшься. «По этому узнают, что вы мои ученики, если любовь имеете между собой». Каков человек, такова и религия. Народный инстинкт и философский разум сходятся в этом критерии. Будьте благочестивы, добры, героичны и терпеливы, верны и самоотверженны, смиренны и милосердны: и тот катехизис, в котором вы научились этому, безошибочен. Через религию вы живёте в Боге, всеми же этими спорами живёшь только с людьми и с чёрными фраками. Так что нет соответствия.
Совершенство как цель, пример как поддержка, божественное, доказанное только его совершенством: разве не в этом всё христианство? Бог всё и во всех, разве не в этом его совершение?
13 декабря 1866 г.
Большинство наших талантливых молодых людей смотрит на чистый и простой скептицизм как на охрану свободы мысли. Уничтожение суеверий представляется высшей славой человека. А я думаю, что это уничтожение суеверий выгодно тирании. Прислушиваясь нынче вечером к разговору некоторых образованных людей, я думал о времени Возрождения, о Птоломеях, о царствовании Людовика XV, когда весёлая анархия мысли cooтветствовала деспотизму власти, и обратно, думал об Англии, Голландии. Соединённых Штатах, где политическая свобода покупается известными предвзятыми мнениями и необходимыми предрассудками. Для того чтобы общество не распалось, нужен соединяющий его принцип, следовательно — общее верование, всеми принятые и не оспориваемые принципы, ряд практических аксиом и учреждений, которые не могут быть разрушены всяким капризом общественного мнения настоящего дня.
Сомнение — соучастник тирании. «Если народ не хочет верить, он должен служить», — сказал Токвиль. Всякая свобода включает известную зависимость и налагает свои условия. Вот что забывают отрицающие, фрондирующие умы. Они думают, что можно задуть религию; они не знают, что религии уничтожить нельзя и что вопрос только в том, какая она будет. Вольтер поддерживает Лойолу, и обратно. Между ними не может быть мира, точно так же как и для общества, вступившего в такую дилемму. Разрешение вопроса — в религии, свободно выбранной, свободно принятой.
...Удивительно ли то, что недоразумение играет такую важную роль в мире, когда мы видим трудность попыток написать верный портрет человека, которого изучаешь в течение 20 лет? Впрочем, такое усилие не пропадает даром; его награда заключается в обострении внешней наблюдательности. Если я обладаю несколько утончённым пониманием других умов, я, конечно, обязан этой способности постоянному анализу самого себя и неудачам его. Собственно говоря, я всегда брал себя предметом изучения; самое приятное в этом было то, что у меня под руками как самый верный образчик человеческой природы был человек, на котором я мог без навязчивости и нескромности следить за всеми видоизменениями, за самыми сокровенными мыслями, за каждым биением сердца, за всеми искушениями его. Я относился к себе совершенно безлично, с философской точки зрения. Пользуешься тем, что имеешь.
11 января 1867 г.
Я явственно слышу, как капли моей жизни падают в пожирающую бездну вечности. Я чувствую, как летят мои дни навстречу смерти. Весь тот остаток недель, месяцев или лет, в течение которого я ещё могу упиваться солнечным светом, мне представляется не более как одною ночью, летнею ночью, которая и за ночь не считается, так как она вот-вот кончится.
Смерть! безмолвие! бездна! – Страшные тайны для существа, которое стремится к бессмертию, к благу, к совершенству! Где буду я завтра, через несколько времени, когда я больше не буду дышать? Где будут те, которых я люблю? Куда мы идём? Что мы такое? Вечные загадки постоянно стоят перед нами в их неумолимой торжественности. Тайны со всех сторон! Вера — единственная звезда в этом мраке неизвестности...
Ну что же! Лишь бы мир был произведением блага и лишь бы сознание долга не обмануло нас. Доставлять счастье и делать добро — вот наш закон, наш якорь спасенья, наш маяк, смысл нашей жизни. Пусть погибнут все религии, только бы оставалась эта; у нас будет идеал, и стоит жить.
[Сравн.: «Круг чтения», 16 ноября, «Вера»: 42, 257 – 258. Важнейшая из тем для Льва Николаевича – религиозный смысл жизни и смерти – раскрытая кратко, вдохновенно и высоко-талантливо. Толстой тут практически ничего не редактировал. ]
15 апреля 1867 г.
Нынче ночью буря с дождём. Сыро и мрачно перед окном, и крыши глянцевиты от воды. Весна делает своё дело, да и неумолимые года толкают нас к могиле.
Да, каждому своя очередь!
Грусть, вялость, усталость! Предвкушение вечного сна охватывает меня изредка перебиваемою потребностью жертвы героической, продолжительной. И в самом деле, и то и другое суть два различных средства уйти от самого себя. Заснуть или отдаться, чтобы умереть, своему я: в этом стремление сердца. Бедное сердце!
17 апреля 1867 г.
Проснись, восстань из мёртвых! Запас твоего мужества – вот что нужно тебе постоянно освежать в самом себе. По естественному склону твоего характера ты доходишь до отвращения к жизни, до уныния, до пессимизма.
«Человек счастливый, счастливец век», по мнению госпожи***, есть Weltm;de [нем. - Уставший от мира], который представляется счастливым перед людьми и который отвлекается, насколько он может, от своей тайной мысли, мысли смертельно грустной, мысли о непоправимом. Его спокойствие есть не что иное, как скрытое сокрушение; его весёлость — не что иное, как беззаботность разочарованного сердца, не что иное, как откладывание на неопределённое время надежды на счастье. Его мудрость есть только приспособление к лишениям, вся его кротость скорее терпеливое, чем сознательное отречение. Словом, он переносит своё существование без радости и не может скрыть от себя, что все выгоды этого существования не наполняют душу до дна. Жажда бесконечного не утолена. Бог отсутствует.
Чтобы испытать истинное спокойствие, нужно чувствовать себя руководимым, прощённым, поддерживаемым высшей силой; нужно чувствовать себя на своём пути, на месте, назначенном Богом, в Его порядке. Эта вера даёт силу и спокойствие. У тебя нет её. То, что есть, кажется тебе произвольным, случайным, могущим быть или не быть. Ничего из того, что с тобой случается, не кажется тебе предопределённым, всё кажется тебе предоставленным на твою ответственность, и эта-то мысль отвращает тебя от управления твоей жизнью.
Ты хотел отдаться какой-то высшей любви, какой-то благородной цели, ты хотел бы жить и умереть за идеал, т. е. за святое дело. Раз ты убедился в невозможности этого, ты ни за что не взялся всем сердцем и только играл своей судьбой, обману которой ты уже не подчинялся. Nada! [ исп. - Ничего ].
Ну что ж! Сибарит, мечтатель, будешь ли ты до конца продолжать жить так, колеблясь между долгом и счастьем, ни на что не решаясь? Разве жизнь не есть испытание нашей нравственной силы, и все эти внутренние колебания разве не искушения души?
25 января 1868 г.
Когда внешний человек разрушается, тогда становится для него главным делом — верить в бессмертие своего существа и думать вместе с апостолом, что внутренний человек обновляется изо дня в день. А что же делать тем, которые сомневаются в этом и не имеют этой надежды? Весь остаток их жизненного пути сводится к вынужденному расчленению их маленького царства, к постепенному разрушению их существа неумолимой судьбой. Тяжело присутствовать при этом продолжительном умирании, привалы которого мрачны и последний предел которого неизбежен. Понятно, что стоицизм признавал право самоубийства. В чём твоя теперешняя вера? Не охватило ли и тебя всеобщее сомнение или, по крайней мере, довольно обыкновенное сомнение науки? Ты отстаивал бессмертие души перед скептиками, но и, заставив их замолчать, ты тем не менее в глубине не уверен в том, что ты не согласен с ними. Ты хотел бы обойтись без надежды, а между тем очень вероятно, что у тебя на это нет уже силы и что тебе нужно, как и всякому другому, быть поддерживаемым, утешаемым верованием — верованием в прощение и бессмертие, т.е. религиозным верованием христианской формы.
Разум и мысль устают так же, как мускулы и нервы. Им нужен сон. И этот сон есть возвращение к детским преданиям, к обычной надежде. Так утомительно держаться на исключительной точке зрения, что впадаешь в предрассудок только потому, что опускаешься, так же как стоящий человек всегда кончит тем, что опустится на землю в горизонтальное положение.
Что делать, когда всё нас оставляет: здоровье, радость, привязанность, свежесть чувства, память, способность к труду, когда нам кажется, что солнце холодеет, а жизнь как будто теряет все свои прелести? Как быть, когда нет никакой надежды? Одурманиваться или каменеть?
Ответ всегда один: исполнение долга. Будь что будет, если чувствуешь спокойствие совести, если чувствуешь себя примирённым и на своём месте. Будь тем, чем ты должен быть, — остальное дело Божье. И если бы даже не было Бога, святого и доброго, а было бы только всеобщее, великое существо, закон всего, идеал без ипостаси и реальности, долг был бы всё-таки разгадкой тайны и полярной звездой для движущегося человечества.
Fais се que dois, advienne que pourra [фр. - Делай то, что должен, а будь, что будет].
[ Сравн.: «Круг чтения», 11 февраля, тема «Закон», 41, 95; «На каждый день», 27 декабря, тема «Нет зла», 44, 382; «Путь жизни», Отдел XXVIII. Зло. Глава 6. Сознание благотворности страданий уничтожает их тяжесть; 45, 441 – 442.
Обратим внимание, прежде всего, на важные редакторские уточнения Льва Николаевича в «Круге чтения», подчёркивающие именно христианское религиозное содержание раздумий Амиеля. Вместо «исполнения долга» у Толстого: «слияние своей воли с волей Бога». То есть – жизнь в Боге как сознанный долг христианина. Последнее перед французским девизом предложение приобрело такую более краткую и ясную форму:
«И если бы даже не было Бога любви, а был бы только закон всего, долг был бы всё-таки разгадкой тайны» (41, 95).
В книгах «На каждый день» и «Путь жизни» амиелево «исполнение долга» расписано так: «жить духовной жизнью – не переставая расти». Собственно, это о том же самом другими словами, ибо духовный рост – это и есть всё большее слияние человеком своей воли с волей Бога. Но снова у Толстого определение – содержательней, чем у Амиеля.
«Бог любви» в редакции «На каждый день» исчез! Ещё один признак того, что мысль Толстого жила самостоятельной и активной жизнью: амиелевы эпитеты «святой и добрый» представились Толстому всё-таки более уместными…
Вернулось и сравнение Амиеля осознанного долга с полярной звездой, то есть ориентиром для человечества. А вот сам «долг», понятие это – напротив, исчезло! На месте его – так же краткая его трактовка: «духовная жизнь». Исполнять долг перед Богом – это «жить духовной жизнью», отвечать требованиям своей «духовной сущности» (44, 382; 45, 441 - 442).
Как видим, последние три абзаца данной амиелевой записи Толстой использовал во всех трёх основных своих сборниках мудрой мысли. Этот отрывок – один из бесспорных его фаворитов, совпавший с собственными размышлениями Льва Николаевича о смысле жизни и смерти – размышлениями ещё конца 1870-х и 1880-х гг.
Вот один из известнейших отрывков на тему исполнения человеком-христианином своего долга разумного сына Отца-Бога, из образцовой и по содержанию, и по структуре заключительной главы сочинения Льва Николаевича «В чём моя вера?», восходящего написанием к 1883 – 1884 гг.:
«Я верю в учение Христа, и вот в чём моя вера.
Я верю, что благо моё возможно на земле только тогда, когда все люди будут исполнять учение Христа.
Я верю, что исполнение этого учения возможно, легко и радостно.
Я верю, что и до тех пор, пока учение это не исполняется, что если бы я был даже один среди всех неисполняющих, мне всё-таки ничего другого нельзя делать для спасения своей жизни от неизбежной погибели, как исполнять это учение, как ничего другого нельзя делать тому, кто в горящем доме нашёл дверь спасения.
Я верю, что жизнь моя по учению мира была мучительна и что только жизнь по учению Христа даёт мне в этом мире то благо, которое предназначил мне Отец жизни.
Я верю, что учение это даёт благо всему человечеству, спасает меня от неизбежной погибели и даёт мне здесь наибольшее благо. А потому я не могу не исполнять его» (23, 453-454).
Совершенно перекликается с неизвестными ещё Льву Николаевичу в 1880-х гг. христианскими рефлексиями Амиеля – учение о посланничестве в мир всех людей как детей единого Отца. Одно из ранних изложений Толстым этого учения мы встречаем в его письме Н.Н. Гемладшему (сыну знаменитого художника, друга и единомышленника Толстого) от 4 февраля 1885 года.
Учение это – учение не Льва, но Иисуса, на века сокрытое от народов лжеучением церквей о мнимой «божественности» Христа. Между тем, как справедливо указывает Лев, исповедник Иисусов, Христос много раз и «с разных сторон говорит о том, что он творит волю Пославшего его, что он сам – ничего; то, что он посланник и сливает свою жизнь с Тем, кто послал, что вся жизнь его, весь смысл её есть исполнение посланничества».
Всё дело в том, что таким посланником в мире является всякий человек, а не один Иисус Христос, как пытаются уверить людей обманщики-попы.
В чём же посланническая задача в мире всякого дитя Божия по разумению и духу?
Лев Николаевич продолжает как раз об этом: «…Разрешение всех сомнений и трудностей при исполнении учения в этом, – в том, что мы не признали в жизни тот смысл, единственный, который она имеет и который указал Христос. Служение истине (той высшей, которую ты понял) и вселение её не только в людей, но в весь мир. Жизнь на то только дана тебе, с твоим разумом, чтобы ты вносил этот разум в мир…
Каждый из нас – сила, сознающая себя, <…> летящий камень, который знает, куда он летит, и радуется тому, что он летит, и знает, что сам он ничто, камень, а всё его значение – в этом полёте. <…>
…Дело моё – жить, внося разумное начало в мир всеми средствами, какие даны мне. Я могу падать, грешить, ошибаться – дело моей жизни не изменится от этого, и счастье, и спокойствие моей жизни также. Только при этом взгляде уничтожаются праздные сожаления и желания и страх смерти, и вся жизнь переносится в одно настоящее. Если жизнь моя вся в том, чтобы светить тем светом, какой есть во мне, то есть жизнь моя в свете, то смерть моя не только не страшна, но радостна, потому что каждый из нас своей личностью затемняет тот свет, который носит. И умереть физически часто содействует тому свету, в котором сосредоточена жизнь» (63, 206 - 207).
Наше временное материальное тело – Божий дар. Но как хороший и мудрый отец дарит сыну не безделицу, а полезный трудовой инструмент, и учит использовать его на добро, так и тело наше – именно такой, недурашный, подарок Отца. И разумение в нас – такой же дар Отца. Законы же доброй и разумной человеческой жизни, данные в изначальном, неизвращённом лжеучениями попов и толковников, религиозном учении – всё это тоже Божьи, единого всем людям Отца, инструкции о правильном использовании сего инструментария: в работу Богу, а не человекам.
Одно из очевидных следствий здесь то, что надо уважать и беречь и разум, и тело своё и ближних: не отравлять тела табаком, спиртным, мясом, не портить его, не одурять разума обманами и суевериями (в особенности щедро продуцируемыми прислужниками сатаны – правительствами, церковниками и учёными интеллигентами). Нельзя воевать, нельзя бить людей, казнить: даже самый расстроенный и негодящий инструмент надо уметь починить и настроить, а не доламывать, то есть уметь помочь и заболевшему, и самому порочному человеку. А для того, чтобы могло быть это возможно уже в нашем веке, те люди, которые себя считали в прошлом, в человеческой истории и здоровыми, и менее грешными других – должны бы были доказывать это своё физическое, интеллектуальное и нравственное здоровье делами, в Боге соделанными. А никак не поддержанием стяжаний, наживы богатств, грабежа, разорений, убийств, тюрем, казней, войн, голодоморов, эксплуатации, доводившей до физической и личностной деградации миллионы трудовых рабов… Недаром начало Нагорной проповеди Христа – именно указание условий блаженства, а среди них – смирение главное. И первейшая из заповедей в Нагорной проповеди Христа – тоже о смирении. Смирение и покаяние в своих грехах: пусть даже малых только песчинках, но в своём глазу. А не фоновое зверюшкино невежество (вызванное отвёртыванием от истины Божьего учения жизни), прикрытое суеверными догмами казённой и церковной лжей, гордыней и самоуверенным, оправданным человеком в своих глазах насилием над ближними.
Да, беречь и разум, и материальное тело… Но беречь тело надо именно для работы Богу – иначе забота о нём теряет смысл. «Животная личность есть орудие жизни» – так назвал Лев Николаевич XVI-ю главу своего любимого и незаслуженно забытого в XX столетии трактата «О жизни» (26, 365). И, вполне в согласии с ещё неведомым ему тогда, в 1886 – 1887 гг., женевским братом во Христе Анри и собственной, писанной за несколько лет до этого, знаменитой «Исповедью» (1879 - 1881), брат Лев так расписывает эту свою мысль:
«Никакие рассуждения ведь не могут скрыть от человека той очевидной, несомненной истины, что личное существование его есть нечто непрестанно погибающее, стремящееся к смерти, и что потому в его животной личности не может быть жизни.
Не может не видеть человек, что существование его личности от рождения и детства до старости и смерти есть не что иное, как постоянная трата и умаление этой животной личности, кончающееся неизбежной смертью; и потому сознание своей жизни в личности, включающей в себя желание увеличения и неистребимости личности, не может не быть злом…
Животная личность, в которой застаёт себя человек и которую он призван подчинять своему разумному сознанию, есть не преграда, но средство, которым он достигает цели своего блага: животная личность для человека есть то орудие, которым он работает. …Это лопата, которая дана разумному существу для того, чтобы ею копать и, копая, тупить её и точить, тратить, а не отчищать и хранить» (26, 365 - 367).
И последнее. Авторство заключительной строки дневниковой записи Амиеля от 25 января 1868 г., традиционно переводящаяся «Делай то, что должен, а будь, что будет» – часто ложно приписывается самому Толстому. Да, это, действительно один из самых обожаемых и близких ему афоризмов: до такой степени, что со времени знакомства с дневником Амиеля он уже не забывал его до последних дней жизни. Этот афоризм, уже не дописанный слабой рукой умиравшего старца, мы встречаем в последней записи его великого Дневника (58, 126). Здесь, в тесных рамках комментария, мы вынуждены оставить открытыми и вопрос о точном авторстве этих слов, и более важный: о возможных предшествующих Амиелю источниках, в которых Лев Николаевич мог ранее 1890-х гг. сталкиваться с ним. Для нас важнее подчеркнуть другое: все авторы, которым этот лозунг когда-либо приписывался в прошлом или приписывается в наши дни (Марк Аврелий, рыцари, масоны и пр.) в любом случае исходили в своём истолковании этих слов из низшего, дохристианского, жизнепонимания: жизнепонимания тех, кто считал за честь преклоняться перед земными владыками, служить их и общественным выгодам – мошной, пером или мечом. Это жизнепонимание не Христа, но – Пилата, Иуды, Каиафы. Императоров, королей, рыцарей, масонов… Жизнепонимание, одержимое массовым суеверием блага внешнего, чреватого грабежом, обманами и насилиями, жизнеустроительства: завоеваниями, удержанием власти, обогащением, революциями, реформами, благотворительностью…
У Амиеля же и у Льва – впервые! – трактовка этих слов именно христианская. Какая именно – мы постарались показать выше. ]
26 января 1868 г.
Благословенно детство, которое среди жёсткости земли даёт хоть немного неба. Эти восемьдесят тысяч ежедневных рождений, о которых говорит статистика, составляют как бы излияния невинности и свежести, которая борется не только против уничтожения рода, но и против человеческой испорченности и всеобщего заражения грехом. Все добрые чувства, вызываемые около колыбели и детства, составляют одну из тайн великого Провидения; уничтожьте вы эту освежающую росу, и вихрь эгоистических страстей как огнём высушит человеческое общество. Если предположить, что человечество состояло бы из миллиарда бессмертных существ, число которых не могло бы ни увеличиваться, ни уменьшаться, где бы мы были и что бы мы были, великий Боже! Мы стали бы, без сомнения, в тысячу paз учёнее, но и в тысячу раз хуже. Знание накопилось бы, но все добродетели, которые зарождаются от страданий и преданности, т. е. семья и общество, были бы мертвы. Не было бы возмещения.
Благословенно детство за то благо, которое оно даёт само и за то добро, которое оно производит, не зная и не желая этого, только заставляя, позволяя себя любить. Только благодаря ему мы видим на земле частичку рая. Без родительских чувств, я думаю, что самой любви недостаточно было бы, чтобы препятствовать бессмертным людям пожирать друг друга, разумеется таким людям, какими сделали их наши страсти. Ангелы не нуждаются ни в рождении, ни в смерти, для того чтобы жить, потому что их жизнь небесна.
[Следом за только что комментированным – ещё один несомненный толстовский фаворит, – и, быть может, даже больший, чем предшествующий!
Удивительна судьба Амиеля, поистине удивительна! Все его потуги в направлении публичного признания его несомненного поэтического дара – кончились фиаско. Не публиковавшиеся же им при жизни интимные записи дневника – являют собой массу талантливых и страстных стихотворений в прозе, элегий или гимнов. Вот здесь, к примеру, – гимн жизни, Богу и мудрости Его.
Это благословение детству закономерно приобрело особенное значение в самые последние годы жизни Льва Николаевича, когда было ему уже 80 и больше лет. Человеку в этом возрасте чаще вспоминаются наиболее значимые, рубежные события прожитого, включая детство и юность – и эти воспоминания совсем иначе, нежели во взрослой, но ещё глупой молодости или зрелости, диалектически сходятся с итогами отделяющих их от вспоминающего старца десятилетий. Вот и в сознании Льва Николаевича к 1909-1910 гг. органически совместились с опытом старости благодарные воспоминания о сестре, братьях, воспитателях и отношениях с ними (в этом отношении, кстати, судьба русского Львёнка имеет ряд разительных сближений с детством швейцарца Анри), равно как и воспоминания об открытии для себя в ранней юности целого мира по имени «Жан-Жак Руссо»… Именно от Руссо юный Лев узнал – и забрал во взрослость эту наивную и святую веру! – что ребёнок является в мир чистым, природным и Божьим существом, и лишь в соединении сперва с семейным и родительским, а после и общественным развратным влиянием это естественное и Божье уродуется или отмирает. То же опытное, старческое, с чем совместились эти благодарные воспоминания – это убеждения Толстого в тщете и греховности всяких попыток отдельному человеку повлиять на мир, не изменив достаточно самого себя. Это – что немаловажно – разочарование в прежних идеализациях «народа» в целом, вызванное наблюдениями над глупостями и гадостями т. н. Первой российской революции 1905 – 1907 гг. Нет, Разумеется, Толстой не разлюбил трудящийся народ, – то есть крестьян, кормильцев городских развратных дармоедов, – но смотреть на него стал… пожалуй, тоже как на дитя: ещё чистого, но и уязвимого, беспомощного перед злом и грязью мира, ребёнка…
Это финальное состояние Толстого-старика и исповедника Христа: состояние окрылённой птицы небесной и… ребёнка – того благодарного Богу и радостного, любящего дитя, которым должен постараться стать каждый человек, чтобы мир вошёл в Царство Божие.
И одним из рубежных и значимых событий 1890-х гг., окончательно давших сознанию Льва направление к этому состоянию, было, как мы уже показали, знакомство с духовной сокровищницей дневника Анри Амиеля. Вспомним ещё раз восторженную запись Толстого от 1 октября 1892 года, вызванную впечатлениями от первого знакомства с Амиелем:
«Неужели мне открывается новое? …Красота как венец добра». Смысл жизни – радость, источники её – красота и любовь (52, 73). Это ли не восприятие мира – детское, чистое от обманов и соблазнов мира? Даже если не прав Руссо с его идеализациями детства именно как возрастной стадии, то уж в духовной для отдельного человека и общественной бесценности детства как состояния разумного сознания человека – любви и благодарной радости – не может быть сомнения!
Следом, в записи от 7 октября, он отмечает особенно близкие ему в это время мысли Амиеля о неизбежности освобождения от уз ветхой церковности и торжества христианства как нового состояния сознания, нового жизнепонимания (Там же, с. 74). Напомним, что огромный трактат, над которым в этот период усиленно работал Толстой, был так и назван им, – тоже, очевидно, не без амиелева влияния: «Царство Божие внутри вас, Или христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание».
И тут же, в записи 7 октября, Лев Николаевич излагает собственные убеждения, уже очевидно и напрямую совпадающие с амиелевым суждением о детях:
«Если бы мне дали выбирать: населить землю такими святыми, каких я только могу вообразить себе, но только чтобы не было детей, или такими людьми, как теперь, но с постоянно прибывающими свежими от Бога детьми, я бы выбрал последнее» (Там же).
Николай Николаевич Гусев (1882 - 1967) – добрейший и умный человек, любящий друг и единомышленник, принявший от российской имперской сволочи страдание и гонения за Иисуса и Льва, секретарь и мемуарист Толстого, вспоминает в своей книге «Два года с Л.Н. Толстым» его беседы 1909 года. Накануне одного из них, 1 февраля 1909 г., Толстой получил весьма показательные три письма: два от любимых им людей трудящегося народа «понравившиеся ему своим здравым смыслом и душевной чуткостью», и… вместе с ними – очередное ругательное письмо от члена «Союза русского народа», к народу истинному и его жизни касательства не имевшего. В самый день 1 февраля в гости к Толстым приехал давний друг семьи, директор Московского торгового банка, Александр Никифорович Дунаев (1850 - 1920). Разумеется, разговор зашёл о новостях, о политической ситуации в России, и разумеется Лев Николаевич не мог не перевести его на более для него животрепещущую проблему – современное состояние сознания и нравственности соотечественников. Сравнивая полученные письма, Толстой противопоставляет городскую правительственную, поповскую и интеллигентскую развратную сволочь – истинному народу. «Всё спасение в народе… Это как дети. Амиель сказал: что было бы с миром, если бы не подсыпали ежедневно восемьдесят тысяч детей» (Гусев Н.Н. Два года с Л.Н. Толстым. М., 1973. – С. 235 - 236).
А 13 апреля этого же 1909 года Лев Николаевич разговорился за обедом с Ларисой Дмитриевной Николаевой, женой писателя Сергея Дмитриевича Николаева (1861 - 1920), переводившего для Толстого сочинения американского реформатора-утописта Генри Джорджа. Вполне естественно, что речь зашла о детях и о воспитании. Лев Николаевич назвал огромной важности условия такой семейной жизни, при которой дети бы могли быть именно воспитаны, а не гнило разращены: вегетарианство, отказ от прислуги и разной роскоши, а также религиозное воспитание ребёнка и расширение его кругозора изучением жизни людей разных народов и «классов». Пока же этого не делается в современной России и в мире, повсюду «самый совершенный взрослый хуже самого обыкновенного ребёнка» (Там же, с. 248 - 249).
И тут, в связи с этими рассуждениями о воспитании, Толстой снова вспомнил, как пишет Н.Н. Гусев, «всегда трогающую его мысль Амиеля о великом нравственном обновлении, производимом детьми в жизни взрослых».
Гусев, в свою очередь, вспомнил в связи с этим разговором, как летом 1908 года, когда он читал Льву Николаевичу его же «Круг чтения», Лев Николаевич заплакал, слушая чтение этой выдержки из Дневника Амиеля (Там же, с. 249).
Николай Николаевич сам, очевидно, разделил восторг Толстого перед этим отрывком, ибо тут же, в связи со своими воспоминаниями, приводит его почти целиком по тексту «Круга чтения» (Там же).
Разумеется, Толстой включил всю запись Амиеля от 26 января 1868 года во все три своих антологии – и даже без сколь-нибудь радикальных правок. Текст был немного сокращён за счёт вымарывания привнесённого, ненужного и сбивающего мысль и впечатление образа фантастических бессмертных людей, «пожирающих друг друга» под влиянием страстей. Убраны из конечной редакции (см. «Путь жизни») также «добродетели, которые зарождаются от страданий и преданности», равно как и характеристика ангелов, которые «не нуждаются ни в рождении, ни в смерти» – всё или сомнительное для Толстого, или просто излишнее.
В книге «Круг чтения» отредактированную Толстым запись Амиеля от 26 января 1868 г. можно прочитать под 8 сентября, в теме «Детство» (42, 23); в книге «На каждый день» – под 11 июля в теме «Грех блуда» (44, 21). И совсем интересно – с книгой «Путь жизни»: там данный отрывок угодил в Отдел VIII, поименованный «Половая похоть», в главу 7-ю, имеющую, в свою очередь, ещё более колоритное и характеристическое заглавие: «Дети – искупление полового греха» (45, 130). Для Толстого-христианина идеалом жизни в этой сфере были воздержание и целомудрие, нарушение которых, как грех, человек обязан искупить праведной семейной жизнью: рождением в мир новых чистых душ и их мудрым воспитанием. ]
19 марта 1868 г.
Так называемые маленькие вещи составляют причину больших, потому что они составляют их начало, зародыш; и исходная точка существований решает обыкновенно всё их будущее. Чёрное пятнышко есть начало появления гангрены, урагана, революции, пятнышко и ничего больше. Из незаметного недоразумения может возникнуть ненависть и раздор. Огромная лавина начинается с оторвавшегося атома, пожар города — от упавшей спички.
Достаточно заткнуть себе уши в зале, где танцуют, чтобы вообразить себя в доме сумасшедших. На человека, уничтожившего в себе религиозное сознание, все религиозные культы человечества должны производить такое же впечатление. Но надо помнить, что опасно считать, что можно быть вне закона человеческого рода и что мы одни правее всех остальных людей.
[Сравн.: «Круг чтения», 16 мая, тема «Вера» (41, 329). ]
Насмешники редко жертвуют собой. Зачем они будут это делать? Жертва серьёзна, а им перестать смеяться — это значит выйти из своей роли.
Чтобы жертвовать собою, нужно любить; чтобы любить, нужно верить в действительность того, что любишь: нужно уметь страдать, забывать себя, отдаваться, словом, быть серьёзным. Вечный смех есть полное уединение, это есть провозглашение совершенного эгоизма. Чтобы делать людям добро, нужно жалеть их, а не презирать и не говорить о них: дураки! но говорить: несчастные!
Пессимистический скептик и нигилист кажутся менее холодными, чем насмешливый атеист. Посмотрим, что говорит мрачный Агасфер:
Вы, у которых недостаёт милосердия,
Трепещите при виде моего странного наказания:
Бог мстит не за свою божественность,
Но за человечество!
Лучше погибнуть, чем спастись одному, и несправедливо по отношению к своему роду желать быть правым, не поделившись этою правотою с другими. Притом это такая иллюзия — воображать возможность такой привилегии, когда всё доказывает солидарность людей между собой и когда никто не может думать иначе, как только при помощи общей мысли, очищенной веками культуры и опыта. Абсолютный индивидуализм есть глупость. Можно быть одиноким в своей частной и временной среде, но каждая из наших мыслей и каждое из наших чувств находит, находило и будет находить свой отголосок в человечестве. Для некоторых людей — которых большие части человечества признают своими вождями, реформаторами и просветителями, отголосок этого огромен и раздаётся с особенною силой, но нет человека, мысли которого не производили бы на других такого же, хотя и во много раз меньшего, действия. Всякое искреннее проявление души, всякое заявление личного убеждения служит кому-нибудь или чему-нибудь, даже если не знают об этом и даже когда зажимают вам рот или когда накидывают вам мёртвую петлю на шею. Слово, сказанное кому-нибудь, сохраняет неразрушимое действие, и, как всякое движение превращается в иные формы, не уничтожаясь.
Вот почему не следует смеяться, а следует молчать, утверждать себя, действовать. Нужно иметь веру в истину, нужно стремиться к истинному и распространять его; нужно любить людей и служить им.
[От слов: «Можно быть одиноким в своей…» до «…превращается в иные формы, не уничтожаясь» – Толстой отобрал отрывок, и, с минимальными правками, включил в свои сборники мысли. См. в «Круге чтения» записи на 4 мая, тема «Сила мысли» (41, 300); в «На каждый день» – 26 марта, тема «Усилие воздержания в мыслях» (43, 168); в книге «Путь жизни» – Отдел XXVII. Правдивость, Гл. 2. Ложь, её причины и последствия (45, 419).
Причину такой значимости для Толстого этого отрывка, думается, расписывать не нужно: с 1880-х годов Лев Николаевич именно тем и занимался, что боролся с вредной религиозной ложью церквей и способствовал осознанию людьми спасительной истины учения Бога и Христа. А так как относился он к своим возможностям религиозного исповедника и наставника с огромной скромностью, мысль Амиеля о том, что слово истины из уст даже самого обыкновенного человека может произвести своё созидетельное действие – были для Толстого особенно ценной мотивирующей поддержкой. ]
9 апреля 1868 г.
Провёл три часа за толстым томом Лотце (Geschichte der Aesthetik in Deutschland). Первое увлечение всё убывало и кончилось скукой. Почему? Потому что шум мельницы усыпляет, потому что эти страницы без красной строки, эти нескончаемые главы, это непрекращающееся диалектическое мурлыкание производят на меня действие словесной мельницы. Я кончаю тем, что начинаю зевать, как простой смертный, перед этими тяжеловесными сочинениями. Учёность и даже мысли — это ещё не всё. Немножко ума остроумия, живости, воображения, грации не повредило бы ничему. Остаётся ли у вас в памяти образ, формула, поражающий или новый факт, когда вы кладёте на место эти педантические книги? Нет, у вас остаётся усталость и туман. О ясность, точность, краткость! Дидро, Вольтер и даже Галиани! Маленький отрывок Сент-Бёва, Шерера, Ренана, Виктора Шербюлье даёт более наслаждения, заставляет больше размышлять, чем тысячи этих немецких страниц, туго набитых до краёв, в которых видишь один труд, не видя его результатов. Немцы наваливают вязанки дров, французы приносят искры. Избавьте меня от элукубраций; подавайте мне фактов и мыслей. Оставьте себе ваши чаны, ваш виноградный сок, ваши выжимки. Я хочу уже готового вина, которое пенится в стакане и возбуждает способности, вместо того чтобы отягощать их.
25 апреля 1868 г.
Гулял ночью один. То, что видел, дало мне целый ряд уроков мудрости. Видел колючие кусты, покрывшиеся цветами, и как вся долина воскресла к жизни под дуновением весны. Присутствовал при ошибках поведения стариков, которые не хотят стариться и возмущаются в своём сердце против естественного закона. Я видел на деле легкомысленные браки и болтливые проповеди. Я видел пустые печали и достойные сожаления одиночества. Я слышал шутливые разговоры о сумасшествии и радостные песни птиц. И всё это сказало мне одно и то же. Приведи себя в согласие с всемирным законом, прими волю Бога, религиозно трать данную тебе жизнь, трудись, покуда светло, будь и серьёзен и радостен. Умей повторять вместе с апостолом: «Я научился быть довольным тем положением, в котором нахожусь».
26 августа 1868 г.
Разочарования, разбитость, усталость, апатия: это та последовательность, которую надо постоянно повторять, пока ещё катаешь Сизифову скалу. Не короче ли и проще было бы головой вперёд броситься в пропасть?
Нет, всегда только одно решение: вернуться к порядку, принять, подчиниться, отречься и сделать всё-таки всё, что можешь. Пожертвовать нужно своей волею, своими желаниями, своей мечтой. Раз навсегда откажись от счастья. Уничтожение своего «я» — смерть своего «я» — это единственное самоубийство, полезное и позволенное. В твоём теперешнем отречении есть скрытая досада, есть оскорблённая гордость, немного упрёка — одним словом, эгоизм, потому что есть преждевременное искание покоя. Отречение совершенно только в полном смирении, которое стирает своё «я» для Бога.
У тебя нет более сил, ты ничего не желаешь; это не то, что нужно: нужно желать того, чего хочет Бог, нужно переходить от отречения к жертве и от жертвы к самопожертвованию.
[Сравн.: «Круг чтения», 2 марта «Слияние своей воли с волей Бога» (41, 143). Суждение приведено Толстым в сокращении: «Ты ничего не желаешь; не думай, что это то, что нужно: нужно желать того, чего хочет Бог». ]
Чаша, которая, ты желал бы, чтобы миновала тебя, — это есть казнь твоей жизни: это стыд жить и страдать как ничтожный человек, который не нашёл своего призвания,— это горькое и всё увеличивающееся унижение, чувствовать своё умаление, чувствовать, что стареешься, не одобряя самого себя и огорчая своих друзей. «Хочешь ты быть исцелённым» — это был текст воскресной речи: «Придите ко мне все труждающиеся и обременённые, и я дам покой душам вашим», «и если наше сердце осуждает нас, Бог больше, чем наше сердце».
16 декабря 1868 г.
Я в тревоге за моего бедного милого друга Шарля Гейма. С 30 ноября, когда он со мной простился, я не видал уже почерка дорогого больного. Как длинны показались мне эти две недели! Как я понял теперь это горячее желание услыхать последние слова, увидать последние взгляды тех, кого мы любили. Эти общения подобны завещанию. Они носят на себе торжественный и священный характер. То, что умирает, отчасти причастно уже вечности. Кажется, что умирающий говорит с нами из-за гроба. То, что он говорит нам, кажется нам изречением оракула, повелением. Мы представляем его себе почти пророком. Очевидно, что для того, который чувствует уходящую жизнь и открывающийся гроб, наступило время значительных речей. Сущность его природы должна проявиться. То божественное, которое находится в нём, не может уже скрываться.
[Сравн.: «Круг чтения», 26 мая, тема «Смерть»: 41, 347 – 348; «На каждый день», 29 ноября, темы «Нет смерти / После смерти»: 44, 321; «Путь жизни», Отдел XXX. После смерти. Глава 6. В смерти раскрывается то, что было непостижимо (45, 479).
Снова, как мы видим, и это суждение Амиеля (почти так, как его перевела Мария Львовна) взято Толстым для всех трёх главных сборников мудрой мысли, им составленных. Признак особенной его значительности! Иначе и не могло быть: тема смерти… нет! лучше сказать: тема значения и смысла человеческой жизни перед лицом неизбежных страданий и смерти – едва ли не центральная и в художественном творчестве, и в философских рефлексиях, и в христианской дидактике, и, конечно же, в контекстах творимой Львом Николаевичем собственной его жизни. Нам невозможно в рамках, допустимых для комментария, раскрыть её в той или иной степени, соответственной её значимости для Толстого и у Толстого. Коснёмся лишь того, что, по нашему соображению, имеет непосредственную «привязку» к Амиелю.
У позднего Льва, Льва-христианина, – как и у нас, львят его – есть общая «ось» в оценках и истории, и жизни сегодняшней, и других, и себя в ней. Это – концепция трёх разных жизнепониманий, изложенная особенно подробно на страницах статьи «Религия и нравственность» и трактата «Царствие Божие внутри вас…».
Тьфу ты!.. Это опять отдельная большая тема, её не получится расписать здесь… ну, если совсем коротко: иудей, римлянин, мусульманин или церковный лжехристианин («православный» или какой-то иной) равно враждебны истине учения Христа. Их мировоззрение, оправдывающее и освящающее служение, во-первых, себе и своим (эгоизм личный и семейный), а также учению мира, князям и сильным мира сего: служение им своими физическими силами или разумом, пользование организованным насилием и оправдание его и многие-многие иные неправды – эти жизнепонимания («личное» и «общественное», по терминологии Толстого) и этот образ жизни были враждебны задачам выживания человечества и прежде, со времён спасительной миссии Христа, и в особенности стали несоответственны вызовам истории в нашем III-м тысячелетии. Они враждебны самой живой жизни: начиная с «осевой» эпохи, эпохи Христа и переданного им от Бога нового учения жизни, они – лишь безумный бунт человечества против Бога, против замысла Его о человечестве, эволюционирующем в разумности и добре.
Жизнепонимание же, которое Лев Николаевич назвал «всемирным», или «Божеским» и высшее, полнейшее и лучшее выражение которого он обнаружил в очищенном о церковно-богословского дерьма учении Христа: жизнепонимание о служении человеком Богу как Отцу, жизни в Его воле – это и есть учение спасения и жизни, учение революционного преображения мира.
Надо помнить, что понятие общественной революции Толстой 1890-1900-х гг. трактовал (и высказал свою трактовку в таких работах 1900-х гг., как «Конец века» и «О значении русской революции») едва ли не противоположным, нежели его и наши современники, образом. Революция – это отречение от бунта против Божьих законов. Отречение от исполнения во внешней, общественной, жизни злого, антихристова закона насилия: от оправдания и правительственных, и антиправительственных обманщиков, грабителей и убийц, служения им. Революционер истинный – тот, кто сам пришёл к новому, высшему, христианскому пониманию жизни и может научить, повести за собой других к радостной и свободной жизни в борьбе лишь с собственными заблуждениями и грехами.
А для этого прежде всего человеку самому надо принять к исполнению законы воздержания и неделания, обратить помыслы в глубины собственного духа, а прежние требования к другим и принуждения других – на самого себя.
Бунтарство – антипод истинной революционности.
Даже самые искренние идеалисты из числа мирской сволочи и дряни, борющейся за внешнее устройство или переустройство жизни: члены всяких революционно-боевых, или консервативно-боевых, или либерально-трусливых партий, депутаты, реформаторы, а в особенности всякие сознательно прислуживающие антихристу и мирским лжам подлецы-интеллигенты: попы, бизнесмены всех мастей и уровней, учёные консультанты, атеисты, журналисты, политики и прочие жулики и прихвостни жулья или обманутые жертвы их – всё это лишь бунтари против Бога и закона Его.
Отринувший их ложь Лев Толстой 1880-х – это человек с пробудившимся к высшему, чем у всех их, жизнепониманию Христа.
С общей проторенной дороги – на узкую и трудную тропку… Вот почему так нуждался он даже в таких удалённых единомышленниках, как уже ушедший в начале этого десятилетия брат Анри!
Христос, Толстой, Паскаль, Ламеннэ, Амиель – они все стали истинными, христовыми революционерами, но – в разные периоды жизни и в разной степени. Паскаль, к примеру, в меньшей степени, чем Иисус или Лев, выкусал из себя блох прежнего, внушённого ему с детства, языческого (в церковно-лжехристианском варианте) жизнепонимания. А Амиелю – не хватило талантов и мужества для полноты перехода от этапа созерцательного к активно-учительному. Став птицами небесными, они не достигли высот исповедников Христа. А Лев, напротив, сперва даже поспешил поделиться с миром своей радостью духовного рождения в 1880-х – раньше, чем всё хоть худо-бедно устаканилось в его русской и природно-львиной, да к тому же потомственно-толстовской (со всеми вытекающими…) голове. Но практика даже такого, ещё незрелого, шатающегося и заплетающегося, как молочный львёнок лапками, наставничества – тоже была полезна ему. Прежде, чем самому стать светочем, – вовсе не грех посветить отражением того света, который впитываешь…
Вот с этих позиций, позиций понимания истинного смысла бытия человека в мире: служения Отцу собственным просветлением для Бога и ближних, обличением лжей и зол мира, – не амиелевыми даже, но Львиными очами – и надо умозреть нам о смерти.
Вот, для примера, четыре из многих смертей, представшие Толстому в течение его жизни: смерти двоих любимых братьев, Дмитрия (в 1856 году) и Николая (в 1860-м), смерть друга Амиеля Шарля Гейма, какой она предстаёт со страниц амиелева дневника, и, наконец, – смерть самого Анри Амиеля…
Общее в них то, что от оставшихся в известном нам бытии ушли в неизвестность – любимые существа. Близкие. В случае с Амиелем и Геймом это даже не родственное, а дружеское, но всё равно – сближение.
А ещё, зная внимательность Амиеля к достоинствам людей, по скудным строкам о Гейме можно смекнуть, что он был близок Анри своим жизневосприятием: посильной для взрослых, блохастых греховодников степенью отказа от описанного нами выше языческого бунта против Бога: от внешней общественной активности в грызне за всяческую «успешность», за деньги, богатства, статусы, за фавор в глазах князей и сильных мира, за власть над людьми...
Может быть, мы тут и ошибаемся, и Шарль Гейм не совпадал с идеальным образом такого человека, но – кто когда вполне отвечал любым идеалам? Без сомнения, был он и не столь далёк от этого идеала, как многие неприятные, недружественные Амиелю его современники.
И – не дальше, чем один из умерших на глазах молодого Льва его братьев, Николай. Ему не было суждено прийти к новому, высшему пониманию жизни: слишком тяжёл для разума и души оказался «груз» внушённой светской, научной и церковной лжи. Но сам Толстой оттого и чтил высочайше память именно этого своего брата, что понял порыв его разума и сердца к неведомой большинству в лжехристианском мире истине. И понял, что сам-то он отстал от тогдашнего, в канун его смерти, состояния сознания своего брата – придя к нему, по меньшей мере, лет через 15-ть…
Вот хрестоматийные строки о Николеньке из «Исповеди» Льва Николаевича:
«Умный, добрый, серьёзный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и ещё менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания» (23, 8).
Вероятно, так умирал и друг Амиеля… А зная по дневнику обстоятельства смерти самого женевского мыслителя, мы можем с достаточной уверенностью предположить, что подобным образом о смерти самого Амиеля мог бы сообщить кто-либо из его друзей или близких… «Теорий», дум о жизни у обоих, Анри и Николеньки, было много, но в «сухом остатке» были – лишь усталость от борьбы с болезнью и мольба: «Господи! Вот он я, как есть… С моей любовью ко всем детям твоим, с моим сердцем… прими меня!»
Князь Андрей в «Войне и мире» – это образ такого же прерванного на самом первом взлёте полёта «птицы небесной», каким явилась жизнь Николеньки: человека, отринувшего мирской суетный бунт и только-только, ещё в большей степени бессознательно, начавшего своё рождение духом. Он и успел пожить этой жизнью – но лишь на краю земного бытия и лишь в лучшие свои часы… Из-за смертельного ранения это его рождение не могло стать рождением в известную нам жизнь – в прежнюю жизнь в прежнем материальном теле…
Таким же, бессознательным ещё, делателем в мире дела Божия предстал Льву Николаевичу и Амиель в своём дневнике. Снова обратимся к одному из первых свидетельств интимного знакомства Льва с Анри: записи в Дневнике Толстого от 7 октября 1892 г.:
«…Он <Амиель. – Р.А.> во многих местах говорит о том, что должно сложиться новое христианство, что в будущем должна быть религия. А между тем сам, частью стоицизмом, частью буддизмом, частью, главное, христианством, как он понимает его, он живёт и с этим умирает. Он как bourgeous gentlihomme fait de la religion sans le savior» [франц. – как мещанин во дворянстве осуществляет религию, сам того не зная]. Едва ли это не самая лучшая» (52, 74).
Но сравним с записью Толстого из записной книжки уже ноября-декабря 1893 г.:
«Amiel совершенно нечаянно приходит к христианству в его истинном смысле» (Там же, с. 252).
Как видим, через год Лев Николаевич уже сам поправляет себя: то, что «осуществлял, сам того не зная» Амиель – это всё-таки не новая, им выдуманная, синтетическая религия, а только то высшее жизнепонимание, выразившееся в основах всех великих религий мира и в особенности в учении Христа в его истинных силе и значении.
(Кстати, и тут – пересечение судеб Анри и Льва: в лжехристианском мире (например, в теперешней, лета 2016-го по Христу, тяжко православнутой путинской Россиюшке) едва ли не главное, в чём винят Льва – это сознательное сотворение им ереси, новой религии. В том-то и дело, что не новое сотворил Толстой, а выколупал из дерьма перетолкований и праха забвения, соединил и презентовал очень старое – напомнил о Христе, и не «царям земным», а простым греховодникам из народа. Это нестерпимо для них, но это же и ценнее и продуктивнее. Ведь царь – раб истории. Не от царей и не от владык Божьей правде явиться в мир! Они все в блохах-грехах… И у пузанов-попов грехов-блох столько, что волосня пониже пупка, небось, вся шевелится… да не повыкусать! пузо мешает… А у народа – и блох этих меньше, и повыкусать их сподручнее… И будут тогда безо всяких насилий и внешних реформ такие руководители народной жизни, каких заслужим своими стараниями ради Бога. )
В этом же 1893 году, 5 октября, Толстой фиксирует в Дневнике важнейшее для нас критическое наблюдение об Амиеле. Излагает свои выводы – как опытный наблюдатель, прошедший сам уже такую же стадию, а много раньше наблюдавший её прохождение покойным обожаемым им братом.
Не лишне отметить, что именно в это время Толстой продолжает своё знакомство с философией даосизма и делает попытки собственных переводов Лао-Цзы («Тао-те-Кинг», с немецкого перевода Штрауса). Параллельно он работает над статьёй о религии, да и не какой-нибудь, а той самой – «Религия и нравственность»!
В записях 5 октября, без сомнения инспирированных непостижимыми сочетаниями в гениальном разуме идей и впечатлений от христианских и даосских текстов, мы находим множество глубочайших прозрений, каждое из которых,– будь у Льва не одна, а хотя бы, скажем, девять жизней, – могло бы стать основанием художественного, философского или богословского труда. (Собственно, это относится и к львиной доле всех записей Дневника Толстого.) Близость их к размышлениям Амиеля – вне сомнений, но и неизмеримо большие глубина и содержательность – тоже. Среди записей этого дня – незабвенные рассуждения о различиях грубо-чувственного и поэтического способов познания мира; о поэтическом чувстве как воспоминании о духовных радостях в прежней жизни человека (до известного ему рождения); о том, что в детях надо взращивать слуг Божьих, а не мира – т.е., выражаясь иначе, «птиц небесных». Наконец, рождается прекраснейший и тоже «птичий» образ – христианина, который должен поступать в отношении открывшейся ему истины нового жизнепонимания как ласточка, которая летит, почуяв весну, без оглядки на других и на последствия. Летит не потому, что другие позволяют или одобряют, а потому что – весна, и она уже чует её!
И тут же, в этот же день – критический «приговор» Амиелю:
«Главное бедствие очень культурных людей, как Амиель, это их балласт разностороннего и, особенно, эстетического образования. Это больше всего мешает им знать, что они знают, как говорил Лаодзы (это болезнь). Им жалко выкинуть это балласт, а с этим балластом они не могут уместиться на лодке христианского сознания. Им не верится, чтобы для такого простого дела, как христианское спасение, можно бы было пожертвовать таким сложным и утончённым. Это Амиель; имя им легион» (52, 102).
В более широком смысле к такому мешающему взлёту птицы небесной балласту относятся не только образованность без мудрости (то, описанное Паскалем, полуумно-полудурочное состояние учёных интеллигентов, о котором мы выше уже говорили), но и все суеверия, церковные и светские, все дурные привычки человека, уступающее почестям и лести самомнение и многое иное. В отношении них у человека лишь четыре возможных поприща: 1) наиболее массовидного, слепого бунтарства против Бога, т.е. жизни по учению мира, в плену этих заблуждений и грехов; 2) бунтарства же, но против этих, уже осознанных, зол – без ориентиров в Боге; 3) покойного, беззлобного и любовного к рабам и жертвам их отречения от них, созерцания их, равно как и созерцания, постижения Божьей истины извне – уже в ласточкином полёте; и, наконец, 4) высшее из возможных человеку поприщ, поприще служения в мире не миру, а Богу – противостояния грехам, соблазнам и суевериям мира с укреплённого «фундамента» нового жизнепонимания, вооружение умов и воспитание сердец ближних – то есть жертва человеком в земной жизни своим полётом ради других. Это – абсолют, далее которого всегда только известная нам плотская смерть человека. Но страдания и смерть – не страшны такому человеку и принимаются как благо.
Духовный взлёт, переход в новое стабильное состояние сознания, как полагал Лев Николаевич, возможен не только для отдельных людей, но и – при кризисах отжитых общественных систем – для целых стран и народов. Опять же, дабы не перегружать внимание читателя и не затягивать комментария, мы лишь отсылаем его к такой, например, работе Толстого на эту тему, как статья 1906 года «О значении русской революции», где таковые особые возможности он признаёт за христиански-верующими людьми русского народа неразвращёнными ещё европейским и городским интеллигентским развратом.
И в связи с этими надеждами на духовное революционное преображение русских христианских людей, Толстой в одной из бесед весной 1905 года, зафиксированных его домашним доктором, секретарём, единомышленником и другом Душаном Петровичем Маковицким, особо подчёркивал, что ни одному уважающему себя русскому человеку «с французского, английского, немецкого народов пример брать нельзя. <…> Французы не имели в прошлом столетии ни одного философа. Вольтер, Руссо – последние; Амиель ничего нового не сказал» (Маковицкий Д.П. У Толстого: Яснополянские записки. Кн. 1. – С 217. Запись от 12 мая 1905 г.).
О состоянии «птицы небесной»-князя Андрея в романе «Война и мир» мы говорили выше. Но с этих же позиций не менее ценно и справедливо рассмотреть и другой образ из художественного наследия Толстого, созданного ещё до знакомства его с дневником Амиеля – главного персонажа повести 1880-х гг. «Смерть Ивана Ильича».
Творческой задачей Толстого было показать в повести, что неуничтожаемый неизбежностью смерти смысл человеческой жизни – в любовном единении с людьми. Чем ярче представлен ужас разъединения, одиночества, тем необходимее поиск выхода из него. Душевная борьба, показанная в повести Толстым как напряжённый спор двух «внутренних голосов» Ивана Ильича – разрешается просветлением. Необходимо беспощадно осудить прошлое, чтобы преодолеть его, отказаться от эгоизма, иначе взглянуть на жизнь, а с этих новых позиций – отдаться служению другим, разоблачать ложь, утверждая истину… В отличие от Наташи Ростовой, Пьера Безухова или того же Андрея Болконского, Ивану Ильичу открывается ложность не одного его положения, а ложь всеобщая. У Андрея Болконского, как и у Анны Карениной такие осмысления лжи именно всеобщего устройства жизни – лишь абсолютные точки достигнутого ими понимания: те вершины, на которых трудно и даже невозможно удержаться, достигнув которых невозможно уже остаться в прежней жизни. Но по противоположным причинам: Анне – из-за огромности сохранившегося в её сознании и привычках балласта мирских лжей и суеверий, Андрею же – из-за полноты освобождения от сует мира, в которую он пришёл в состоянии тяжёлой болезни.
Известно, что Мопассан, так великолепно описавший в полюбившейся Толстому новелле пограничное состояние одиночества просветлённого к истине, но ещё не свободного от эгоизмов, суеверий и страстей созерцателя, был потрясён, прочитав «Ивана Ильича» в переводе. Но, как европейски-перегруженный лжами своего века человек, вряд ли смог бы последовать по пути, обозначенному в повести Толстым…
И Амиель, как нам представляется, – не преодолел вполне, не сбросил со своих крыл птицы небесной всего балласта сожалений, эгоизмов и суеверий его эпохи и среды. Его полёт был затруднён, многое сполна открылось ему лишь в период предсмертной болезни…
И совершенно отличны не только от исповедников Христа и наставников, но и от духовных птиц-созерцателей жизни судьба и смерть тех, чьё развитие не пошло дальше сознательного или даже не совсем сознательного бунта, противостояния традициям и устоям языческой и лжехристианской жизни. Судьба бунтарей без веры, не сумевших порвать с внушёнными им в детстве системами церковных и светских лжей, общественных условностей, государственных и научных суеверий – трагична и в жизни, и в творчестве Толстого.
В жизни Толстого таким был другой из оплаканных им в молодости братьев – Дмитрий (1827 - 1856). Его детские непоседливость и шаловливость во взрослой жизни не компенсировались слабыми, ничтожными паллиативами общественно-сословных и церковных лжехристианских устоев, а обернулись поступками необъяснимыми и даже недобрыми. В своей «Исповеди», а позднее в «Воспоминаниях» Лев Николаевич свидетельствует, что Митенька в своей университетской юности «предался вере и стал ходить ко всем службам, поститься», за что получил от окружавшей его в «храме науки» светской и интеллигентской учёной своры массу злых насмешек и кличку «Ной». Окончив же учёбу в 1847 году, Дмитрий, с грузом тяжёлых впечатлений, едет в родовое имение Щербачёвку, разыгрывать перед своими крепостными роль доброго барина-христианина, благодетельствовать запуганных и лукавых рабов… Кончился этот почин, конечно же, плохо: уже будучи на Кавказе, Лев Николаевич узнаёт от брата Сергея, что обожаемый Митенька, разочаровавшись во всём и всех, предался разгулу, карточной игре, мотовству и завёл связи с бардаком. Проститутку «Машу» он выкупил из бардака и сожительствовал с нею до самой смерти…
Впоследствии эти отрицательные черты характера брата Толстой внесёт в характер Николая Левина в «Анне Карениной». Но с точки зрения главного сходства персонажей этого романа с судьбой брата Толстого – наиболее ярок здесь образ самой Анны. Бунт Анны – это состояние двойной опасности: её отказ от общего для большинства бунта против Бога и Христа не детерминирован обретением нового религиозного понимания жизни. Она не делается христианкой, но бунт её уничтожает и её прежние социальные связи и возможности, которыми она пользовалась прежде как бессознательная подельница в общем со всем её окружением преступлении служения злу и оправдания его. Она должна обличить их – но обличить, по существу, и нечем… Вакуум в сознании не заполнен ничем, хотя бы равноценным тому, что вызывало доверие прежде. И памятный всем прыжок Анны со страниц романа под щёкинскую электричку, равно как и чахотка брата Л.Н. Толстого Дмитрия – лишь варианты того рокового исхода, который оказывается неизбежен для многих, не преодолевших такого экзистенциального вакуума, не пришедших к пониманию жизни как радости, источниками которой были и остаются для всякого доброго человека красота, вера и деятельная любовь. ]
О, не будем медлить, чтобы быть справедливыми, сострадательными, внимательными к тем, кого мы любим, не будем ждать, когда они или мы будем поражены болезнью или угрожаемы смертью. Жизнь коротка, и не может быть слишком много времени, чтобы радовать сердца наших спутников в этом мрачном переезде. Поспешим же быть добрыми.
[Сравн.: «Круг чтения», 21 июля, тема «Любовь»: 41, 515; «На каждый день», 28 марта, тема «Жизнь только в настоящем»: 43, 172.
Редакция Толстым этого отрывка минимальна. Самое значительное изменение – замена прилагательного «мрачный» на «короткий». Жизнь – коротка, но она благо и радость любящих, а вкравшаяся у Амиеля в текст «мрачная» характеристика жизни – препятствует читателю понять это из общего контекста отрывка.]
26 декабря 1868 г.
Если мужчина ошибается всегда более или менее относительно женщины, это значит, что он забывает, что он и она говорят не совсем одним и тем же языком, и что слова не имеют для них один и тот же вес и одно и то же значение, в особенности в вопросах чувства. Происходит ли это от стыдливости, от осторожности или от коварства; женщина не высказывает никогда всю свою мысль и даже то, что она о ней знает, есть только часть того, что заключается в этой мысли. Полная искренность ей представляется невозможною, и полное знание самой себя ей кажется запрещённым. Если она сфинкс, то только потому, что она загадка, и потому ещё, что она столь же двусмысленна и для самой себя. Ей нет никакой нужды быть коварной, она тайна. Женщина — это то, что ускользает, что не поддаётся разуму, неопределимое, нелогичное, противоречивое. С ней нужно обращаться с большою добротой и с немалым благоразумием, она, сама не зная того, может причинить величайшие бедствия. Способная на всякие жертвы и на всякие измены, «непостижимое чудовище», потому что она составляет отраду для мужчины, его отраду и его опасность.
[Сравним со свидетельством Н.Н. Гусева (запись от 12 февраля 1908 г.):
«Когда разговор зашёл о женщинах, Лев Николаевич привёл прочитанную им недавно мысль Амиеля о том, что напрасно женщину считают коварной и хитрой: она только сама не знает себя.
– Действительно, – сказал Лев Николаевич, – очень мало женщин знают самих себя» (Гусев Н.Н. Два года с Л. Н. Толстым. – М., 1973. – С. 100).]
Чем больше любишь, тем больше страдаешь. Сумма страданий, возможных для каждой души, пропорциональна степени её совершенства.
Обращать горечь жизненного опыта в благодушие, неблагодарность в благодеяние, оскорбления в прощение — вот в чём святая алхимия высоких душ. И это превращение должно сделаться столь обычным, столь лёгким, чтобы оно представлялось людям естественным и чтобы никто не одобрял нас за это.
[Сравн.: «Круг чтения», 4 октября, тема «Любовь»: 42, 114 – 115; «На каждый день», 6 июля, тема «Любовь»: 44, 11.
Как можно видеть, что в обоих сборниках Толстой данное высказывание Амиеля отредактировал. В «Круге чтения» Толстой уточняет смысл заключительных слов: не «…чтобы никто не одобрял нас за это», а «…чтобы нам не нужно было за это одобрение людей». То есть для любящего не важно, будет ли одобрение: само доброе расположение к людям, как и пишет Толстой здесь же, в записях на 4 октября, есть подарок любящего самому себе (42, 114). А в сборнике «На каждый день» появляется поясняющая вставка, коррелирующая с общей темой: горечь жизненного опыта должна обращаться в благодушие «посредством любви» (44, 11). ].
27 января 1869 г.
Превращение церковного и исповедного христианства в христианство историческое есть дело библейской науки. Превращение исторического христианства в философическое есть попытка почти невозможная, потому что вера не может совершенно раствориться в науке. Но выведение христианства из области исторической в область психологическую есть стремление нашего времени. Необходимо высвободить вечное Евангелие. Для этого нужно, чтобы история и сравнительная философия религий определили истинное место христианства и оценили его. Затем надо выделить веру, которую исповедовал Иисус, от той веры, которая сделала Иисуса предметом своего поклонения. И когда найдут то душевное состояние, которое составляет основную клеточку, начало вечного Евангелия, то нужно будет его держаться. Это есть punctum saliens [лат. - отправная точка] чистой религии.
Может быть, сверхъестественное будет заменено необыкновенным и великие гении будут рассматриваться как посланники Бога истории, как предопределённые избранники, посредством которых дух Божий движет человеческими массами. Уничтожается не прекрасное, но произвольное, случайное, чудесное. И как жалкие плошки деревенского праздника или ничтожные восковые свечи процессии тухнут перед величием солнца, потухнут все эти маленькие, местные, ничтожные и сомнительные чудеса перед всемирным законом действия великих умов, перед несравненным зрелищем истории человечества, руководимой тем всемогущим драматургом, которого называют Богом. Utinam. (О! Если бы!)
[Сравн. редакции: «Круг чтения», 20 декабря, тема «Приближение царства Божия»: 42, 359; «На каждый день», 18 марта, тема «Суеверие церкви»: 43, 151.
Разночтений между редакциями, как видим, меньше, нежели обеих редакций с первоисточником. Толстой взял из записи Амиеля от 27 января 1869 года только два отрывка: 1) от слов «…надо выделить веру, которую исповедовал Иисус…» до слов «…нужно будет его держаться», и 2) от слов «И как жалкие плошки…» до слов «…драматургом, которого называют Богом». Но и эти отрывки Лев Николаевич не просто сократил, а довёл изложенные в них мысли до недостижимой для Амиеля, но возможной для него, Толстого, глубины и ясности. Например, характеристика Бога как «всемогущего драматурга», руководящего историей человечества, – отпала у Толстого сразу, как образ ненужный, сбивающий читателя с толку, да к тому же и припахивающий суевериями церковных лжехристианских идолопоклонников. Не пощажено было и иное, сугубо личное идолопоклонничество Амиеля: «закон действия великих умов» уже в «Круге чтения» преобразился в «закон жизни духа», т.е. закон жизни всех людей, а не одних «великих». Закон этот, «основа вечного Евангелия», есть, согласно «Кругу чтения», не «душевное состояние» (как у Амиеля), а «состояние сознания». В позднейшей редакции для сборника «На каждый день» Толстой даёт ему имя: это любовь, т.е. подчинение человеком себя Божьему закону любви.
И вот как выглядит в этой позднейшей редакции переработка Толстым записи Амиеля от 27 января 1869 года:
«Нужно высвободить ту религию, которую исповедывал Иисус от той религии, предмет которой есть Иисус. И когда мы узнаем главный смысл, основную ячейку вечного евангелия любви, надо будет держаться его.
Как жалкие плошки деревенской иллюминации или маленькие свечи процессии потухают перед великим чудом света солнца, так же потухнут ничтожные, местные, случайные и сомнительные чудеса перед законом жизни духа, открытым человеку» (43, 151).
Как мы отмечали уже выше, к такой, довольно существенной, редакторской работе с дневниковыми записями Анри Амиеля Толстой прибегает обычно в тех случаях, когда автором дневника затрагиваются глубокие и значимые для Льва Николаевича философские и религиозные проблемы.
Здесь проблема затронута – пожалуй, одна из глубочайших и, пожалуй, самая животрепещущая для Толстого. Ибо корень всех общественных зол не в «повреждении грехом» природы индивида, как любят лукаво блеять прихвостни лукавого в овечьих шкурках, попы «православного» и иных лжехристианств. Корень наиболее опасных для выживания человечества, для исполнения в мире замысла Божия и человеке – в неправдах, или лжах, обеляющих, оправдывающих и даже освящающих то или иное зло. А главной ложью является, как понимали это и Анри и Лев, описанная Амиелем подмена христианства идолопоклонством Христу как особенному богу и перетолкование его учения – всё смертные грехи хулы на Бога, совершённые людьми, некогда в большинстве своём не понявшими, а в меньшинстве – не принявшими сознательно христианского жизнепонимания, не согласившиеся с требованиями, которые оно им предъявило.
Выше мы уже упоминали о концепции разных жизнепониманий, разработанной Л.Н. Толстым (см. его статью «Религия и нравственность»: 39, 8-10).
Первобытно-эгоистическое жизнепонимание мотивирует индивида на поиски личного блага для себя и «своих» (самки, детёнышей…) и моление о таком же благе к особенным вымышленным существам – разным богам или духам. В этом смысле Лев Николаевич признавал, например, буддизм не более чем «отрицательным язычеством», язычеством навыворот: буддист не ищет благ, но желает исполнить условия прекращения неизбежных в земной суете страданий (Там же. С. 8). По жизнепониманию среднему, языческому, общественно-государственному (не исключающему эгоизма, но лишь отодвигающему его – и то в идеале – с переднего плана) человек служит и желает блага тем или иным структурам языческого социума: опять же семье, своим клану, товарищескому сборищу, корпорации, своему государству с его вожаками, войском, границами, символикой и прочими глупостями и гадостями, своей церкви с её учением и обрядоверием… и, наконец, обществу или человечеству в целом. Так называемая «историческая» часть бытия человечества в известном ему Божьем мире – это как раз история сперва утверждения в лучших людях примата такого жизнепонимания над первобытным эгоистическим, а затем – начиная с «осевой» эпохи земной жизни и проповеди Христа Иисуса – борьбы этого, всё более и более являющего своё зло и свою архаику жизнепонимания языческого с христианским.
Третье жизнепонимание, или отношение человека к миру, христианское, состоит, как пишет о нём Лев Николаевич «в том, что значение жизни признаётся человеком уже не в достижении своей личной цели или цели какой-либо совокупности людей, а только в служении той Воле, Которая произвела его в мир и весь мир для достижения не своих целей, а целей этой воли» (Там же. С. 9).
Зачатки христианского жизнепонимания Толстой находит в учении пифагорейцев, эссеев, браминов, даосов и др. течений религиозно-философской мысли «в их высших представителях». Полнейшее и лучшее выражение это жизнепонимание получило в первоначальном христианстве.
В своей замечательной статье с характерным названием «Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении» (1907) Толстой подробно рассказывает, как первоначальное христианство было извращено еврейско-сектантской проповедью тщеславного еврея Савла, известного церковным верунам как «апостол Павел» (37, 350-352).
Вот что пишет Толстой о заведомой слабости и ничтожестве лжеучения церквей в сравнении даже с религиями низшего жизнепонимания:
«…Так называемое церковно-христианское учение, не есть цельное, возникшее на основании проповеди одного великого учителя учение, каковы буддизм, конфуцианство, таосизм, а есть только подделка под истинное учение великого учителя, не имеющая с истинным учением почти ничего общего, кроме названия основателя и некоторых ничем не связанных положений, заимствованных из основного учения.
…Церковная вера, которую веками исповедовали и теперь исповедуют миллионы людей под именем христианства, есть не что иное, как очень грубая еврейская секта, не имеющая ничего общего с истинным христианством» (37, 349 - 350).
Христианство и учение Савла-«Павла» и церквей – несовместимы. С одной стороны – «великое, всемирное учение, уясняющее то, что было высказано всеми величайшими мудрецами Греции, Рима и Востока», с другой – «мелкая, сектантская, случайная, задорная проповедь непросвещённого, самоуверенного и мелкотщеславного, хвастливого и ловкого еврея» (Там же. С. 352). Лишь время и легковерие простецов сделали из еврея-фанатика Савла «святого апостола», а из его мистического бредословия – святое учение христианства.
Всё учение Савла-«Павла», ставшее фундаментом ложного, церковного христианства, и в частности его определение религиозной веры («вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом»), данное специально, чтобы угодить «своим» (Евреям, 11, 1) и тем завлечь их в свою секту – всё это не от христианского корня, ибо выражает низшее, отжитое ко времени Христа, общественно-государственное, жизнепонимание. И всё это – антихристово, ибо позднее подменило собой истину Бога и Христа.
Но что же есть вера (религия) для истинного христианина?
Вот актуальное христианское определение того, что НЕ ЕСТЬ и того, что ЕСТЬ истинная религия, данное Львом Николаевичем:
«Религия не есть раз навсегда установленная вера в совершившиеся будто бы когда-то сверхъестественные события и в необходимость известных молитв и обрядов; не есть также, как думают учёные, остаток суеверий древнего невежества, который не имеет в наше время значения и применения в жизни; религия есть устанавливаемое, согласное с разумом и современными знаниями отношение человека к вечной жизни и к Богу, которое одно движет человечество вперёд к предназначенной ему цели» (35, 197 – 198. Выделение наше. – Р.А.).
«Разум» в данном определении упомянут отнюдь не в значении мирского «здравого смысла»; не сводится он и к научным рефлексиям. Толстой имеет в виду здесь то, что открывается разуму наиболее религиозно чутких людей Свыше – напрямую от «информационного поля Вселенной», то есть от Бога. Философия и науки – не более чем покорные служанки этого высшего, богооткровенного знания.
С другой стороны, даже наука современного лжехристианского мира значительна тем, что пополняемая и презентуемая ею массам картина мира обличает и уничтожает обманы отжитого жизнепонимания: ложь правительств и церквей.
В каждом культурном и цивилизационном сообществе люди соединены между собой и могут жить разумной жизнью – исключительно благодаря общему религиозному жизнепониманию. И только благодаря ему люди могут дать достойные ответы на вызовы истории, находить разумные разрешения общих и частных проблем.
Чем больше в этом жизнепонимании от Бога, т.е. от истины, приобретавшейся тысячи лет лучшими умами человечества посредством откровения от Бога или научных открытий – тем оно полезнее и для общего земного устройства жизни всего человечества, и для утверждения бессмертной основы каждого человека.
Но чем больше над религиозной истиной совершается насилий: перетолкований, искажений, замалчиваний, осмеяний, то есть, чем больше примешивается к учению жизни не истинного, Божьего, а лукавых и корыстных или просто грубо-суеверных человеческих измышлений, – тем менее такое учение жизни полезно как общему жизнеустройству, так равно и разуму и душе людей, тем оно зловредней и опасней в условиях неизбежного прогресса внеэтических, опасных без религиозного руководства, знаний и возможностей людей.
Божье учение жизни не нуждается в перетолкованиях богословами: оно уже Свыше изначально адаптировано к человечеству и условиям его жизни. А вот подмена Божьего закона человечьими установлениями – всегда в пользу несовершенства, лукавства, зла…
От эпохи к эпохе задачей мудрых учителей человечества было – научить словом и примером исполнению актуального для состояния мира и людей в эту эпоху закона жизни. А так как основа и смысл этого закона – не одно воспроизводство общественного строя, а совершенствование людей и обществ, то в результате такого совершенствования человечество возрастает к возможности понимания и исполнения уже высшего, чем прежний, закона, более близкого к единой Божьей Истине.
Кроме того, так как разумное существо приобретает усилиями разума всё более опасные возможности – для его спасения новое, соответственное этой опасности, учение жизни даётся от Бога вне зависимости от степени исполнения прежнего учения. Такое новое учение, особенно обличающее людей в уклонении от исполнения воли Отца, особенно яростно отрицается или перетолковывается, или попросту забывается.
Так и вышло у людей христианского мира с учением Христа. Учение Христа требовало смирения, доверия Богу как Отцу всех людей, т.е. принятия за руководство в самосовершенствовании – тех идеалов, а за руководство в повседневной жизни – тех правил и образцов поведения, которые прежде были неведомы человечеству и не могли в эпоху Христа (а в значительной степени и в нашу) быть проверены научно или подтверждены историческим опытом.
Вот почему именно историческое (церковное) христианство явило человечеству новой и новейшей эпох не ответ на его жизненные проблемы, а концепцию, едва ли не самую архаическую, бесполезную, противоречивую, извращённую, лукавую, но при этом тупо или агрессивно отстаиваемую её редеющими от поколения к поколению адептами.
Зёрна других, даже позднейших по времени, но низших по выраженному в них жизнепониманию учений – например, ислама – легли в более подготовленную почву. У того же ислама, к примеру, с историческим христианством – общая беда: оба были перетолкованы, оба распались на толкующие их по-разному группировки адептов. То же – с рядом других религий. Но требования вер римской, еврейской, исламской были ниже, чем у христианского учения. Не запрещались ни неравенство, ни эксплуатация, ни стяжание собственности, ни удержание её организованным насилием, ни казни, ни войны… Соответственно, адептам этих религий, религий низшего, чем христианское, жизнепониманий не понадобились и те громадные извращения, к которым прибегли церковные лжехристиане, стремившиеся соединить заведомо несоединимое: приспосабливая истину высшего жизнепонимания – к привычному, не требующему смены идеалов и новых усилий самосовершенствования, приятному и выгодному устройству жизни и оправдывающим его лжам.
Что же дальше?
А дальше то, что номинально христианские народы пытались и пытаются веками жить не по Христу, а по сатане, т.е. по лжеучению своих церквей. При этом христианская цивилизация неизбежно вступала как в мирные контакты, так и в столкновения с цивилизациями народов, живших по учениям низших жизнепониманий, в которых по этой причине было меньше извращений. Среди мнимых христиан же эти извращения актуальной Божьей истины, в условиях прогресса научного знания, всё более являли себя. Люди Европы, Америки и ложно, гибельно примкнувшей к ним России в новую и новейшую эпоху всё более и более утрачивали доверие попам. А так как им неизвестно первоначальное, истинное, без церковных извращений, христианство – они остаются вовсе без веры, без единственно действенного нравственного руководства в жизни.
Какой пример европейские или американские адепты церквей и сект могли подать таким людям иных вер и цивилизаций? Уж точно не образец нравственной, воздержной, мирной трудовой жизни – то есть то, что было бы понятно и уважаемо равно и мусульманином, и китайцем, и японцем и даже варваром!
А при контактах цивилизаций срабатывает то же, что и при контакте ребёнка со старшим, с педагогом: как ребёнок, так и менее искушённый в разврате народ верит не словам, а поступкам более опытного учителя. И, к сожалению, легче поддаётся развратному, нежели мудрому и доброму, влиянию. В статье «Конец века» Лев Николаевич показывает (на примере итогов русско-японской войны) результаты многовекового иудина предательства европейским человечеством Христа: японцы потому и оказались для русских тяжёлым и непосильным военным противником, что успели за вторую половину XIX столетия выучиться у лжехристиан «современным» приёмам войны. Японцы показали всему нехристианскому миру доходчивый пример того, как, в ответ на развратное и деспотическое влияние лжехристианской цивилизации, цивилизации нехристиан могут «не только освободиться, но и стереть с лица земли все христианские государства» (36, 237). Лжехристиане Америки, Европы и примкнувшей к ним России, не имея в сердце и разуме Христа, обречены биться в заведомо бесконечной и обречённой борьбе с языческими народами, наращивая против дубины их народной войны свои вооружения, изнуряя себя страхами и разоряя расходами на полицейщину и оборонку, но итог будет один: языческие народы их же оружием «свергнут их и отомстят им» (Там же).
Единственное спасение для христианского мира – стать подлинными христианами: направить все усилия не на противостояние войной, а «на такое устройство жизни, которое, вытекая из христианского учения, давало бы наибольшее благо людям не посредством грубого насилия, а посредством разумного согласия и любви» (Там же. С. 237 - 238).
Иначе говоря, апгрейдить нужно не «системы безопасности», а – головы. Восприятие жизни, своего и других места и значения в ней… Религиозное жизнепонимание. И само понятие «конец века» у Толстого как раз тесно связано с его концепцией жизнепониманий. «Век и конец века, – говорится в начале статьи, – на евангельском языке не означает конца и начала столетия, но означает конец одного мировоззрения, одной веры, одного способа общения людей и начало другого…» (Там же. С. 231).
Нынче, в начале XXI столетия, лжехристианский мир уже настигает возмездие от тех, кого он развратил при контакте цивилизаций. Среди мстителей не на последнем месте – воины ислама, благороднейшей, в рамках своего жизнепонимания, религии: религии огромной нравственной чистоты, смиренного ума и львиного сердца. Но она, в отличие от первоначального христианства, никогда и не ставила перед своими адептами идеалов столь высоких, как те, что выражены в учении Христа. Оттого она меньше извращена толкователями, но оттого же она – более беззащитна, мировоззренчески и нравственно, перед соблазнительной и лукавой мерзостью лжехристианского влияния.
Разумные существа в других Божьих мирах, живущих по выраженному в учении Христа или ещё высшему, неведомому нам, жизнепониманию – могли бы быть безопасны от этого разврата, но – не соседи мнимых христиан по планете!
Ложные христиане много веков употребляли Божий дар – разум – не на исполнение в мире воли Отца, а на своё своеволие: грехи и их оправдания. Причём как сами грехи, так и лживые оправдания их были уже не тем невольным и простительным, что неизбежно было и будет случаться по несовершенству человечьей природы или естественному – детей или дикарей – невежеству. Нет! Лжехристианам была и отчасти и сейчас известна преданная им через Христа истина нового, спасительного учения, но они не приняли её за руководство в жизни, во всей её повседневности. А отринув Христа и Бога, они невольно были вынуждены веками громоздить ложь на ложь, создав не только из своих грехов целые системы злой и безумной жизни, но и системы лжи из оправдывающих эту систему зла больших и малых неправд.
И – сами угодили в эту паутину, сами стали в новое и новейшее время рабами и жертвами своего зла, своего насилия, своих лжей!
Лжехристианская цивилизация «поделилась» с воинами ислама не только материальным оружием динамитов, бомб, самолётов, танков, автоматов, печатных станков и прочего, но, что много страшнее, вооружило самых дерзких, самых нравственно дурных из исповедников и сочувственников ислама приёмами системного, организованного, массированного обмана, то есть насилия над сознанием тех людей, которых они обманывают, готовя для покорения изуверившегося и оттого ослабшего христианского мира.
Единое спасение номинально исповедующим христианство народам – одуматься, и отойти от лжеучений как теперешних их церквей и сект, так и модного «атеизма», покаяться, главное же – прислушаться к голосу таких спасителей и исповедников учения Христа, каким был величайший из Божьих и Христовых духовных воинов – Лев Николаевич Толстой.
А Лев Николаевич в своей статье 1906 года «О значении русской революции» даёт идеал жизни людей, гармоничной в отношении и окружающей, и собственной человеческой жизни. Это – безгосударственные, братские общины людей, соединённых христианским жизнепониманием, «целомудренных, борющихся с своими похотями, живущих в любовном общении с соседями среди плодородных полей, садов, лесов, с прирученными сытыми друзьями-животными» (36, 359). Путь к такой свободной и радостной жизни – через предоление даже не одного «православного» и прочих лжехристианств, но всех современных религий, «мировых» и «самобытных», но заражённых мирскими неправдами и оттого лишь разделяющих людей, – к признанию всеми людьми единого закона любви к Богу и ближнему, выраженного одинаково в истоках «и браминской, и буддийской, и конфуцианской, и таосийской, и христианской религии» (Там же. С. 360). ]
1 марта 1869 г.
Беспристрастие и объективность так же редки, как и справедливость. Личный интерес есть неисчерпаемый источник потворствующих иллюзий. Число людей, желающих видеть правду, чрезвычайно мало. Над людьми властвует страх перед истиной — если только эта истина им не полезна, что сводится к тому, что выгода составляет основу житейской философии или что истина создана для нас, а не мы для истины. Факт этот настолько унизителен, что большинство не хочет ни допускать, ни признавать его. И вот таким-то образом предрассудок самолюбия защищает все предрассудки мышления, которые вытекают из уловки эгоизма. Человечество постоянно убивало или преследовало тех, которые нарушали его, основанное на выгоде, спокойствие. Человечество совершенствуется только невольно. Единственный, желаемый им прогресс — это увеличение наслаждений. Ко всякому прогрессу справедливости, нравственности, святости человечество было принуждаемо каким-нибудь благородным насилием. Самопожертвование – это наслаждение великих душ – никогда не было законом обществ. Весьма часто великие преобразователи для того, чтобы побороть рутину, употребляли один порок как орудие против другого; например, тщеславие против скупости, жадность против лени. Одним словом, человеческий мир почти совершенно управляется законами природы, а закон разума — дрожжи этого грубого теста, только местами приподнимают его.
[ Сравн.: «Круг чтения», 30 октября, тема «Самоотречение»: 42, 185 – 186.
Толстой значительно сократил данный абзац, сохранив и подчеркнув главные его смыслы. Вот результат его редактирования:
«Беспристрастие так же редко, как и справедливость. Личный интерес есть неисчерпаемый источник самообманов для самооправдания. Число людей, желающих видеть правду, чрезвычайно мало. Над людьми властвует страх перед истиной, если только эта истина им не полезна. Люди житейской философии считают истину чем-то таким, что может быть допущено, может быть и не допущено в жизни. И вот таким образом предрассудок самолюбия защищает все предрассудки мышления, которые вытекают из этой уловки эгоизма. Единственный желаемый человечеством прогресс – это увеличение наслаждений. Самопожертвование – это наслаждение великих душ – никогда не было законом общества» (42, 185 - 186). ]
Европейское лицемерие закрывает себе лицо перед добровольными жертвами фанатиков Индии, которые бросаются под колесо торжественной колесницы своей великой богини. Но эти жертвы суть только символы того, что происходит в Европе, так же как и везде, символы принесения в жертву своей жизни всеми мучениками великих идей. Да, кровожадная и жестокая богиня — это само человечество, которое движется вперёд только раскаянием и раскаивается, только доведя до последней степени ужаса свои преступления. Отдающие себя на жертву фанатики представляют вечный протест против всемирного эгоизма. Мы разрушили только видимых идолов, но постоянная жертва существует везде, и везде избранники поколений страдают ради спасения масс. В этом строгий, горький и таинственный закон солидарности. Погибель и взаимное искупление — в этом назначение нашего рода.
6 апреля 1869 г.
Одно необходимо: отдаться Богу. Будь сам в порядке и предоставь Богу распутывать моток мира и его судеб. Пусть будет уничтожение или бессмертие! То, что должно быть,— будет. То, что будет, будет благом. Чтобы совершить путь жизни, может быть, ничего более не нужно для человека, кроме веры в добро.
[Сравн.: «Круг чтения», 13 января, тема «Вера»: 41, 34; «На каждый день», 1 июня, тема «Вера»: 43, 306.
В «Круге чтения» – редакция незначительна. Главный смысл отрывка – всё та же драгоценная для Толстого-христианина идея слияния воли человека-сына с волей небесного Отца как сущности веры. Вот отчего предложение: «Пусть будет уничтожение или бессмертие!» – лишено в редакции Льва Николаевича излишней в этом смысловом контексте восклицательной экспрессии. Предположительное «может быть» в заключительном предложении также изъято: вера в добро необходима, ведь слияние с волей Бога и есть соединение с Ним в истине и добре.
Редакция отрывка в книге «На каждый день» значительней (что подтверждает и подпись под ним: «По Амиелю»):
«Одно необходимо: отдаться Богу. Будь сам в порядке и предоставь Богу распутывать моток мира и его судеб. То, что должно быть, – будет. То, что будет, – будет благом. Чтобы совершить путь жизни, ничего не нужно для человека, кроме знания того, что добро – добро, и что его надо делать» (43, 306).
Как видим, Толстой здесь особо подчёркивает, что вера человека и условие его блага, его счастья – в исполнении закона любви, в делах деятельного добра, а критерии того, что есть добро – не в мирских установлениях или учениях церквей, а только и непосредственно в слове Бога, обращённом непосредственно же к разуму и к сердцу каждого человека. ]
Но нужно быть на стороне Сократа, Платона, Аристотеля, Зенона в борьбе против материализма, против религии случая и против пессимизма. Может быть, даже надо отвергнуть буддийский нигилизм, потому что поведение будет диаметрально противоположно, смотря по тому, что мы будем трудиться для увеличения своей жизни или для уничтожения её; будем ли развивать свои способности или методически атрофировать их. Прилагать свои индивидуальные силы к увеличению добра в мире — этого скромного идеала достаточно. Участвовать в торжестве добра — это общая цель святых и мудрецов. «Socii Dei sumus» [«Мы – участники Божьего дела»], — повторял Сенека после Клеанта.
30 апреля 1869 г.
В религиозное настроение входишь через чувство добровольной зависимости и радостной покорности принципам порядка и добра. В религиозном возбуждении человек сосредоточивается, он снова находит своё место в бесконечном единстве, и чувство это свято.
8 декабря 1869 г.
Эпикурейство приводит к отчаянию. Философия долга менее безотрадна. Но спасение заключается в согласовании долга и счастья, в соединении личной воли с волей божественной, в вере, что эта высшая воля управляема любовью.
[Сравн.: «Круг чтения», 24 мая, тема «Любовь»: 41, 344; «На каждый день», 6 июля, тема «Любовь»: 44, 12. ]
Истинно счастливые добры; добрые, посещаемые испытанием, становятся лучше. Не испытавшие страданий — легкомысленны, но не имеющий счастья не умеет и дать его другому. Можно дать лишь то, что сам имеешь. Счастье, горе, радость, печаль — всё это заразительно. Принесите свою силу и здоровье расслабленным и больным – вы этим им будете полезны; сообщите им не упадок воли, но энергию вашу – вы их поддержите. Только жизнь возбуждает к жизни. И мы обязаны давать другим наш хлеб и наше питьё, а не нашу жажду и голод.
Благодетели рода человеческого те, которые возвышенно думали о нём. Но кумирами и господами являются те, которые ему льстят и презирают его, те, которые нуздали, убивали, фанатизировали и эксплуатировали его. Благодетелями были: поэты, художники, изобретатели, апостолы, все чистые сердцем. Владыками: кесари, Константины, Григории VII, Иннокентии III, Борджии, Наполеоны.
23 февраля 1870 г.
Искушение есть наше природное состояние, но не есть необходимость. Грех состоит в умышленном смешении хорошей независимости с дурною; причина тому — полуснисходительность, с которою мы принимаем первый оправдывающий нас софизм. Мы закрываем глаза на начинающееся зло из-за его ничтожества, и в этой-то слабости и лежит зародыш нашего падения. «Principiis obsta», если бы точно исполнять это правило, мы избегли бы большинства наших несчастий.
Мы хотим повиноваться только своему капризу, иначе сказать, наше дурное я не хочет Бога, или то, что основа нашей природы непокорна, безбожна, дерзка и осуждает всё то, что хочет преобладать над нею, и потому противно порядку и неудобоуправляемо. Эту-то основу христианство называет естественным человеком. Но дикарь, который в нас живёт и составляет нашу первобытную сущность, должен быть дисциплинирован, цивилизован, чтобы из него вышел человек. Человек же должен быть терпеливо возделан, чтобы из него вышел мудрец. Мудрец же должен быть испытан, чтобы стать праведным; а праведный должен заменить свою личную волю волею Божиею, чтобы стать святым.
И этот-то новый, возрождённый человек и есть тот духовный, небесный человек, о котором упоминают как Веды, так и Евангелие, как маги, так и неоплатоники.
30 марта 1870 г.
Конечно, природа зла, бесстыдна, бесчестна и неверна; она только милует задаром и безумно ненавидит и за справедливость возмещает только несправедливостью. Счастье некоторых покупается несчастьем многих. Бесполезно рассуждать со слепою силою.
Человеческое сознание возмущается против этого закона, и, чтобы удовлетворить своему инстинкту справедливости, оно придумало две гипотезы, из которых составило себе религию: идею личного провидения и гипотезу другой жизни.
В этом протест против природы, признанной безнравственной и оскорбляющей. Человек верит в добро, и для того, чтобы подчиняться только справедливости, он утверждает, что очевидная несправедливость есть только видимость, тайна, иллюзия и что справедливость восторжествует. Fiat justitia pereat mundus! В этом великое проявление веры. А так как человечество не сделало себя самого, то есть вероятие того, что протест этот выражает истину. В противоречии между миром природы и миром нравственным, между реальностью и сознанием – торжество должно принадлежать сознанию. Вовсе нет необходимости в существовании мира, но необходима справедливость, и атеизм обязан объяснить безусловное упрямство совести в этом отношении.
Природа несправедлива: мы — произведение природы, почему же мы недовольны и пророчествуем о справедливости? Почему следствие восстаёт против причины? Происходит ли это возмущение от пустого и детского тщеславия? Нет, это крик, вырвавшийся из глубины нашего существа, и крик этот во славу Божию! Небо и земля могут уничтожиться; но добро должно существовать, а несправедливость быть уничтожена. Таково credo человечества. Дух победит природу, бессмертное восторжествует над временем.
[Сравн.: «Круг чтения», 10 мая, тема «Дух»: 41, 317 – 318.]
1 апреля 1870 г.
Мне кажется, что для женщины любовь есть высший авторитет, судящий обо всём и решающий вопросы добра и зла. Для мужчины любовь подвластна добру; она — великая страсть, но не есть источник порядка, синоним разума, безусловный критерий превосходства. Кажется, что для женщины идеалом служит совершенство любви, как для мужчины — совершенство справедливости. В этом смысле и мог сказать апостол Павел, что женщина слава мужчины, а мужчина слава Божия. Поэтому женщина, вся поглощённая предметом своей нежности, находится, так сказать, на природном пути; она вполне женщина и осуществляет свой основной образ. Напротив, мужчина, который ограничил бы свою жизнь в супружеском обожании и который считал бы, что пожил достаточно, сделавшись жрецом любимой женщины, — был бы полумужчиной; его презирает свет, а втайне, может быть, и сами женщины.
Истинно любящая женщина хочет потеряться в сиянии любимого человека; она хочет, чтобы любовь её сделала мужчину более великим, более сильным, более мужественным, более деятельным. Поэтому каждый пол исполняет своё назначение: женщина как бы предназначена мужчине, а мужчина – обществу. Она отдаётся одному, он — всем. И каждый из них только тогда находит спокойствие и счастье, когда познаёт этот закон и последует ему.
26 октября 1870 г.
Общественная жизнь опирается на сознание, а не на науку. Цивилизация, прежде всего, дело нравственное. Если нет честности, нет уважения к праву, нет уважения к обязанностям, нет любви к ближнему, словом, если нет добродетели, — всё находится в опасности, всё рушится; и ни науки, ни искусства, ни роскошь, ни промышленность, ни риторика, ни полиция, ни таможня не в состоянии задержать висящее на воздухе здание, не имеющее основания.
Государство, основанное только на расчёте и скреплённое страхом, представляет сооружение и гнусное и непрочное. Средняя нравственность масс и достаточное проявление добродетели есть фундамент всякой цивилизации, краеугольным камнем его служит долг. Те, которые в тиши исполняют его, подавая этим добрый пример, являются, таким образом, спасением и поддержкою того блестящего света, который и не знает о них. Десять праведников могли спасти Содом, но нужны тысячи и тысячи добрых людей, чтобы предохранить народ от развращения и погибели.
[Сравн.: «Круг чтения», 22 декабря, тема: «Устройство жизни»: 42, 363 – 364; «На каждый день», 16 июня, тема «Суеверие насилия»: 43, 331.
Что сказать о редакторской работе Толстого над этим отрывком? В «Круге чтения» она менее значительна. Государство «гнусное» стало просто «гадким», то есть, попросту говоря, снижена эмотивная коннотация оценочного предиката. Добрые люди не «предохраняют» народ от развращения и погибели (это им не по силам), а именно, сколь возможно, «спасают» его в этом состоянии от худшей участи – и тут Лев Николаевич абсолютно прав.
Любопытная эволюция совершилась с пятым от начала предложением («Средняя нравственность масс…» и т.д.). Толстой сформулировал его короче, чётче и без двусмысленностей: «Только нравственность масс есть прочный фундамент всякой цивилизации; краеугольным камнем его служит долг» (42, 363).
Но в позднейшей написанием антологии «На каждый день» это предложение – вновь в том виде, каким оно вышло из-под пера женевца!
Но зато здесь немало других правок (недаром и подписан отрывок – «По Амиелю»). Толстой, как известно, европейскую цивилизацию как таковую недолюбливал, называл «лжехристианской» и в принципе немало критиковал. Поэтому легко догадаться, что связывание Амиелем цивилизации с нравственностью его немало коробило. И докоробило-таки: в сборнике «На каждый день» предложения: «Цивилизация, прежде всего, дело нравственное» – попросту нет! Соответственно, изъято и следующее за ним у Амиеля перечисление «благ» цивилизации. Толстой заменил его словами: «устройство общества», без расшифорвки того, что под этими словами подразумевает. Ещё бы! В восприятии яснополянского мыслителя те элементы общественного «устройства», которые перечисляет Амиель: полиция, таможни, роскошь богачей и даже, по большей их части, науки и искусства – были элементами не разумного устройства жизни в христианском мире, а, скорее, расстройства её.
С цитирования отрывка из записи Амиеля от 26 октября 1870 года Толстой начинает свою ныне забытую (и напрасно! мы напомним!) статью-манифест христианского анархизма «Пора понять» (1909):
«“Государство, основанное на расчёте и скреплённое страхом, представляет из себя сооружение и гадкое, и непрочное”, говорит где-то Амиель. С этим нельзя не согласиться вообще и можно это понимать разумом, но кроме этого понимания можно ещё испытывать всем существом своим чувство отвращения и ужаса перед таким сооружением, когда живёшь в нём, и вся гадость и непрочность этого сооружения ничем не прикрыта. И это-то самое чувство испытывается теперь в России…» (38, 160) и т.д.
Вероятно, Толстой, регулярно с удовольствием перечитывавший «Круг чтения», процитировал эти строки по памяти. Ибо в обоих составленных им сборниках мудрой мысли, куда он включил эти строки Амиеля, – «Круг чтения» и «На каждый день», – слово «только» («Государство, основанное ТОЛЬКО на расчёте…») сохранено, а вот в тексте статьи «Пора понять» – оно исчезло! И не случайно: Амиель, пиша эти строки в 1870 году, даже не смог бы вообразить себе такой их интерпретации, какую мы находим у Льва Николаевича.
Проследим контексты, в которые вписан отрывок в дневнике швейцарского мыслителя. Во-первых, в отличие от мыслителя яснополянского, Анри Амиель нигде в дневнике не высказывал религиозно-анархических идей. Судя и по биографии его, и по дневнику, его вполне устраивал строй умеренной буржуазной демократии. Непосредственно же в интересующей нас записи от 26 октября 1870 г. он, в частности, демонстрирует любопытное понимание сущности «родной» ему европейской цивилизации. Основание её – нравственность и доброта, причём не столько народа, «честной и грубой толпы», сколько «умственной аристократии». Последняя, по мысли Амиеля, отнюдь не должна подрывать общественную стабильность публичными выражениями своего секпсиса или насмешек в отношении даже очевидных для её просвещённого разума несовершенств общественного строя и массовых суеверий. Уважение к принятой религии, к праву, к общественным обязанностям – тот «фундамент» существующего строя, в отношении которого критика неприемлема и вредна. Так же нежелательна она и в отношении кажущихся Амиелю необходимыми общественных «надстроек»: науки, искусств, материальной роскоши буржуазии, промышленности, полиции и даже таможни (Там же. С. 58-59. Сравн. также с записью от 19 марта 1868 г.).
Итак, можно с достаточной уверенностью сказать, что Амиель не мог бы сочувствовать идеям христианского анархического освобождения, высказанным Толстым в статье «Пора понять».
Но не будем спешить с выводами о неуместности цитаты. В конце концов, мыслителей, без сомнения, объединяет, к примеру, понимание необходимости общего для народа и интеллектуалов религиозного руководства в жизни, общего жизнепонимания, равно как и идеи уважения к народу, служения ему. ]
Если нравственность народа страдает от невежества и страстей, то, с другой стороны, нужно сознаться, что нравственный индифферентизм есть болезнь людей высококультурных. Этот-то разлад между просвещением и добродетелью, между мыслью и совестью, между умственной аристократией и честной и грубой толпой представляет наибольшую опасность для свободы. Увеличение числа эстетиков, сатириков, скептиков, блестящих говорунов указывает на химическое разложение общества. Пример: век Августа и Людовика XV. Пресыщенные насмешники — это эгоисты, которые освобождают себя от общих обязанностей и которые, освободив себя от всякого усилия, не противодействуют никакому бедствию. Утончённость их состоит в отсутствии сердца. Это удаляет их от истинной человечности, приближая их к природе демонической. Чего недоставало Мефистофелю? Не ума, конечно, а доброты.
16 ноября 1870 г.
Глядя в глубину бездны, испытываешь что-то захватывающее, ошеломляющее и неизъяснимое, а каждая душа есть та же бездна, тайна любви и сострадания. Проникая в глубину этого святилища, слыша сладкий шёпот молитв, жалоб, гимнов, исходящих из глубины сердца, я всякий раз испытываю чувство священного трепета: с нежным умилением и с религиозной сдержанностью присутствую я при этих невольных признаниях. Это мне кажется чудесным, как поэзия, и божественным, как всякое рождение. Я смолкаю, преклоняюсь и обожаю. Если не могу – то утешаю и подкрепляю.
4 февраля 1871 г.
Вечное напряжение характеризует новейшую нравственность. Это болезненное стремление заменило собою гармонию, равновесие, радость, т. е. бытие. Мы все представляем из себя фавнов, сатиров, силен, стремящихся стать ангелами, уродов, старающихся себя прикрасить, неуклюжих кризалид (chrysalides), с трудом производящих каждая свою бабочку. Идеал — уже не ясная красота души, а ужас Лаокоона, отбивающегося от гидры зла. Жребий брошен, нет больше людей совершенных и счастливых, есть только кандидаты на небо — каторжники на земле.
22 февраля 1871 г.
Вечер у М***. Человек тридцать самого лучшего общества; счастливое распределение полов и возрастов. Седые головы, молодёжь, умные лица... Всё в роскошной и блестящей обстановке. В свете надо делать вид, что будто живёшь амброзией и не имеешь никаких забот, кроме благородных: забота, нужда, страсть – не существуют. Всякая реальность устранена, как нечто слишком грубое.
Одним словом, то, что называется большим светом, живёт мгновенною и льстящею иллюзией, что оно находится в эфирном состоянии и дышит мифологическою жизнью. А потому всякая страстность, всякий крик природы, всякое истинное страдание, всякая необдуманная фамильярность, всякий признак истинной страсти поражают и делают диссонанс в этой утончённой среде и мгновенно уничтожают совокупное произведение этого дворца из облаков, эту волшебную, воздвигнутую с общего согласия архитектуру.
29 июля 1871 г.
Жизнь состоит в непрерывном обновлении. В этом искусстве Гёте, Шлейермахер, Гумбольдт были великими мастерами. Чтобы сохранить в себе жизнь, необходимо постоянно молодеть с помощью внутреннего обновления и платонической любви. Душа должна беспрерывно совершенствоваться, испытывать себя во всех своих состояниях, звучать всеми фибрами, создавать самой себе новые интересы. Письма и эпиграммы Гёте, которые я читал сегодня, не возбуждают любви к нему. Почему? Потому что в нём мало души. Его понимание любви, религии, долга, патриотизма имеет что-то мелочное и отталкивающее. Ему недостаёт горячности, великодушия. Скрытая сухость, плохо скрываемый эгоизм проглядывают сквозь этот богатый и гибкий талант.
Правда, что этот гётевский эгоизм имеет, по крайней мере, то преимущество, что он уважает свободу каждого и приветствует всякую оригинальность, но он не помогает никому в ущерб себе, он ни за кого не мучится, не отягчает себя чужим бременем — словом, в нём нет сострадания, этой великой христианской добродетели. Совершенство для Гёте состоит в личном благородстве, а не в любви. Его центр — эстетика, а не нравственность. Ему непонятна святость, и он никогда не дал себе труда подумать над страшной загадкой зла.
Он спинозист до мозга костей. Он верит в личную удачу, но не в свободу и в ответственность.
Это грек лучшего времени, которого не коснулся внутренний перелом религиозного сознания. Таким образом, он изображает состояние души, предшествующее или последующее христианству, то, что осторожные критики нашего времени называют современным духом; и современным духом, рассматриваемым только в одном своём направлении, именно в культе природы, так как Гёте всегда чужд социальных и политических стремлений толпы и нисколько не интересуется обездоленными, слабыми, угнетёнными, так же как не интересуется ими и сама природа. Недомогание нашего времени не существует для Гёте и для его школы. И это понятно: диссонансы не существуют для глухих. Тот, кто не слышит голоса совести, голоса сожаления и раскаяния, не может понять волнения тех, которые признают двух властителей, два закона и которые принадлежат двум мирам: миру природы и миру свободы.
15 августа 1871 г.
Прочитана 2-й раз «Жизнь Иисуса» Ренана, 16-е популярное издание. Характерно в этом анализе христианства то, что греху не отведено в нём роли. А между тем если что объясняет успех Благой Вести среди людей, то это то, что она принесла им освобождение от греха, т. е. спасение. Следовало бы, однако, религиозно истолковывать религию, а не скрадывать центра её предмета. Этот беломраморный Христос не тот, который давал силу мученикам и осушал столько слёз.
Автор лишён нравственной серьёзности и смешивает благородство со святостью.
Он говорит, как чуткий артист о трогательном предмете, но совесть его как будто не принимает участия в вопросе.
Как смешивать эпикуреизм воображения, наслаждающегося эстетическим зрелищем, с муками души, страстно ищущей истину?
В Ренане есть остаток семинарской хитрости; он давит священными верёвками. Пускай бы он обращался со своей слащавой презрительностью к более или менее хитрящему духовенству, но к искренним душам следовало бы обращаться с искренностью более уважительной. Издевайтесь над фарисейством, но говорите прямо с людьми честными.
29 декабря 1871 г.
Читал Банзена: критика эволюционизма Гегеля — Гартмана во имя принципов Шопенгауэра. Что за писатель! Он, беснуясь, производит море чернил, которое скрывает во мраке его мысль, и что за ученье! Отчаянный пессимизм, находящий мир безумным, «положительно идиотичным». Он упрекает Гартмана в том, что он допустил хоть немного логичности в эволюции мира, тогда как эволюция эта существенно противоречива, и малая частичка разума находится только в голове рассуждающего. Изо всех возможных миров тот, который существует, самый дурной. Единственное его оправдание то, что он сам собою стремится к разрушению. Надежда философа только в том, что разумные существа сократят агонию этого мира и ускорят возвращение всего в ничто. Это сатанинская, отчаянная философия, которая не даёт даже тех перспектив самоотречения, которые даёт буддизм разочарованной душе. Личность может только протестовать и проклинать. Этот бешенный Сиваизм вытекает из представления о том, что мир произошёл от слепой воли и что она составляет начало всего.
Эволюционизм, фатализм, пессимизм, нигилизм: и не странно ли видеть расцвет этого ужасного и отчаянного учения в то самое время, когда немецкий народ празднует своё величие и свои победы? Контраст так поразителен, что заставляет задуматься. Это — оргия философской мысли, отождествляющей заблуждение с самим существованием и развивающей прудоновскую аксиому: «Бог есть – зло», она приведёт толпу к христианству, которое не есть ни оптимизм, ни пессимизм, но которое объявляет благо доступным, называя его «вечной жизнью».
Насмешка над самим собою, сопротивление всякому внутреннему единству, всякой истинной серьёзности, из боязни обмана и глупости, — вот к чему приводит один ум, если совесть не вмешается в дело.
Ясное представление об обязанности должно служить балластом для ума, иначе ум захлебнётся в недуге и горечи.
7 февраля 1872 г.
Ничего нельзя сделать без веры, но вера может уничтожить всякую науку.
Что же это за Протей и откуда он?
Вера есть достоверность без доказательств. Как достоверность, она составляет энергическое побуждение к деятельности; как нечто недоказанное — она составляет противоположность науке. От этого её два вида и два различных вывода из неё. В чём её исходная точка? В мысли? Нет; мысль может поколебать и утвердить веру, но не может породить её. Где её происхождение? В воле? Нет; добрая воля может содействовать ей, злая воля может препятствовать ей, но верят люди не вследствие воли и вера не есть обязанность! Вера есть чувство, потому что в ней заключается надежда, она инстинкт, потому что она предшествует всякому внешнему поучению. Вера есть наследство рождающейся личности, есть то, что соединяет её со всем существующим. Личность отделяется только с трудом от лона матери, с усилием только объединяется среди окружающей её природы, отделяется от любви, окружавшей её, от идей и колыбели, содержавших её. Она рождается в единении с человечеством, миром и Богом. След этого первобытного единения и есть вера. Вера есть воспоминание того неопределённого эдема, из которого вышла наша личность и в котором она жила в сомнамбулическом состоянии, предшествовавшем личной жизни.
Наша индивидуальная жизнь состоит в выделении себя из нашей среды, в воздействии на неё и сознании её, посредством которого мы и делаемся духовными, т. е. разумными и свободными личностями.
Наша первоначальная вера составляет только материал, перерабатываемый нашим опытом жизни и который, вследствие наших разнообразных приобретаемых познаний, может совершенно потерять свою форму. Мы можем умереть, не найдя той гармонии, которую даёт нам личная вера, удовлетворяющая наш разум, нашу совесть и наше сердце, но потребность веры никогда не оставляет нас. Она есть постулат высшей всесогласующей истины. Она есть двигатель всякого исследования, она указывает возможность награды, указывает путь.
Такова, по крайней мере, вера совершенная. Суеверная вера детства, та, которая никогда не знала сомнений, не знала науки, та, которая не уважает, не понимает и не терпит противных убеждений, — это вера ненависти, это мать всех фанатизмов.
Чтобы обезоружить в нас веру, лишить её её ядовитости, она должна быть подчинена любви к истине. Высший культ истины есть единственный способ очищения всех религий, всех исповеданий, всех сект.
Вера должна быть на втором месте, потому что у неё есть судья. Когда она становится высшим судьёй, мир впадает в рабство; христианство IV и XVI веков даёт нам доказательство этого. Очищенная вера победит ли когда веру грубую? Будем надеяться на лучшее будущее.
Трудность, однако, вот в чём. Вера ограниченная имеет гораздо больше энергии, чем вера просвещённая; мир принадлежит более воле, чем мудрости. И потому нельзя быть уверенным, что свобода восторжествует над фанатизмом, притом же независимость мысли никогда не будет иметь грубой силы предрассудка. Разрешение вопроса — в разделении труда. После тех, которые высвободят идеал чистой и свободной веры, придут насильники, которые вложат эту веру в предрассудки и учреждения. Разве не то же самое случилось с христианством? Но всё-таки христианство сделало больше добра, чем зла, человечеству. Так двигается мир последовательным гниением всё высших и высших идей.
30 августа 1872 г.
Элукубрации ; priori надоели мне теперь до крайности.
Все схоластические теории заставляют меня сомневаться в том, что они доказывают, потому что, вместо того чтобы искать, они уже с самого начала утверждают. Их задача в том, чтобы создавать укрепления вокруг предрассудка, а не в том, чтобы открывать истину.
Они собирают тучи, а не солнечные лучи. Все они придерживаются католического приёма, исключающего сравнение и исследование.
Главное дело для них овладеть согласием, дать аргументы для веры и уничтожить исследования.
Чтобы убедить меня, нужно не иметь предвзятого мнения и прежде всего быть критически искренним, нужно дать мне осмотреться, ознакомить меня с вопросами, с их происхождением, трудностями, различными попытками разрешений и степенью их вероятности.
Я хочу, чтобы уважали мой разум, мою совесть и мою свободу.
Всякий схоластицизм есть уловление, его власть как будто объясняет что-то, она только притворяется, и её уважение обманчиво. Игральные кости подделаны. И посылки предрешены. Неизвестное предполагается известным, и всё остальное вытекает из этого. Философия есть полная свобода ума, и поэтому — независимость от всякого предрассудка религиозного, политического и общественного. Философия начинает с того, что она не христианская, не языческая, не монархическая, не демократическая, не социалистическая, не индивидуалистическая, — она критическая и беспристрастная. Пускай это нарушает готовые мнения церкви, государства, исторической среды, в которой родился философ. Est ut est aut non est. [лат. - Пусть будет или не будет, как есть.] Философ есть человек трезвый — среди всеобщего пьянства, он ясно видит иллюзии, которым охотно подчиняются существа. Собственная природа обманывает его менее, чем всякого другого. Он судит более здраво о сущности вещей.
Свобода его в том, чтобы видеть ясно, быть трезвым, отдавать себе отчёт.
11 декабря 1872 г.
Сколько перегородок между нами и предметами! Расположение духа, здоровье, все ткани глаза, стёкла нашей клеточки, туман, дым, дождь или пыль и даже самый свет — и всё это бесконечно изменяющееся. Гераклит говорил: «Нельзя выкупаться два раза в одной и той же реке»; я бы сказал: нельзя видеть два раза один и тот же пейзаж, потому что окно — это один калейдоскоп, а зритель — другой.
Мудрость состоит в том, чтобы судить и о здравом смысле, и о безумии, подчиняться всеобщей иллюзии, не будучи обманутым ею. Поддаваться игре волшебницы магии и без принуждения играть свою роль в фантастической трагикомедии, которая называется Миром. Это приличнее всего для человека со вкусом, умеющего резвиться с резвыми и быть серьёзным с серьёзными. Мне кажется, что интеллектуальность приводит нас к этому. Мысль приводит нас к сознанию того, что всякая реальность есть только сновидение в сновидении. Выводит нас из сферы волшебных сновидений только страдание, личное страдание выводит также чувство обязанности или то, что соединяет то и другое – страдание греха; это всё та же любовь, одним словом, нравственные требования. Только совесть отрывает нас от очарования Маии; она рассеивает пары кейфа, галлюцинации опиума и спокойствие созерцательного равнодушия.
Она, совесть, вталкивает нас в ужасный водоворот человеческого страдания и человеческой ответственности. Это будильник, это крик петуха, который разгоняет привидения, это архангел, вооружённый мечом, который выгоняет человека из его искусственного рая.
[Сравн.: «Круг чтения», 10 сентября, тема «Совесть»: 42, 37.
И вот текст, в котором, несмотря на огромную редакторскую работу Льва Николаевича, всё-таки можно без труда опознать запись Амиеля:
«Сколько перегородок между нами и предметами! Расположение духа, здоровья, все ткани глаз, стёкла нашей комнаты, туман, дым, дождь или пыль и даже свет – и всё это бесконечно изменяющееся. Гераклит говорил: “Нельзя выкупаться два раза в одной и той же реке”; я бы сказал: нельзя видеть два раза один и тот же пейзаж, потому что и тот, кто наблюдает, и то, что наблюдается, всегда бесконечно изменяются.
Мудрость состоит в том, чтобы подчиняться всеобщей иллюзии, не будучи обманутым ею.
Я думаю, что разум неизбежно приводит нас к сознанию того, что всё вещественное есть только сновидение в сновидении. Выводит нас из сферы волшебных сновидений только чувство долга, нравственные требования. Только совесть отрывает нас от очарования Маии, она рассеивает пары кейфа, галлюцинации опиума и спокойствие созерцательного равнодушия. Она, совесть, вталкивает нас в сознание человеческой ответственности.
Это будильник, это крик петуха, который разгоняет видения, это архангел, вооружённый мечом, котрый выгоняет человека из его искусственного рая. (По Амиелю)» (42, 37; Все курсивы – Л.Н. Толстого).
Как видим, Толстой сам признал огромность проделанной им редакторской работы, подписав отрывок не «Амиель», а «По Амиелю». В нём уже больше от Льва, чем от Анри… Но неизвестно, заметил ли Лев Николаевич свои редакторские огрехи, брсающиеся в глаза современному читателю. Так, например, существительное «расположение» у Амиеля относится только к «духу», в редакции же Толстого появилось «расположение … здоровья». Менее существенный, но тоже нежелательный в философском тексте ляп: «ткани глаза» превратились в «ткани глаз». А «клеточка», имеющая у Амиеля значение частицы, монады, сознания и чувств индивида в их контакте с воспринимаемым (так что «стёкла» имеют здесь метафорический смысл) – превратилась в помещение, «комнату» (спасибо хоть, что не в «горницу», Лев Николаевич!).
Другие изменения – вполне объяснимы и оправданны: Толстой и этот отрывок Амиеля сократил и сделал яснее его главные смыслы, а наиболее, с его точки зрения, существенное – даже выделил курсивом. Убрано многословие, убраны и неудачные попытки Амиеля связать собственные смелые размышления о значении совести и нравственного долга с догматическими представлениями о грехе и страдании.
В целом, однако, следует констатировать, что текст этот, несмотря на огромную идейную значимость для Толстого, не стал его фаворитом. В том же «полусыром» виде – с ошибками, неотделанным, – он попал даже в окончательный, печатный вариант «Круга чтения» и не был изменён Толстым при подготовке его переизданий. В других же двух, параллельно наблюдаемых нами, антологиях мудрой мысли, составленных Львом Николавичем, его попросту нет. ]
Идеал, который себе составляет жена и мать, то понятие, которое она имеет о долге и жизни, определяют судьбу общества.
Её вера делается путеводною звездою супружеской ладьи и её любовь началом жизни, которая определяет будущее всех близких.
Женщина есть спасение или погибель семьи. Её назначение состоит в том, чтобы утишить смятение мысли. Её роль аналогична роли азота в воздухе.
23 мая 1873 г.
Основное заблуждение Франции заключается в её психологии.
Ей всегда казалось, что то, что сказано, всё равно что сделано, точно слово есть дело, будто красноречие может восторжествовать над наклонностями, привычками, характером, над действительною жизнью, будто говорение может заменить собою волю, совесть, воспитание. Франция действует выстрелами красноречия, пушек или декретов; она воображает изменить таким образом природу вещей и производит только фразы или развалины. Она никогда не понимала первой строчки Монтескье: «Законы суть необходимые соотношения, вытекающие из природы вещей». Она не хочет видеть, что её бессилие создать свободу лежит в самой натуре её, её понятиях о личности, обществе, религии, праве, долге, в её системе воспитания детей.
Она сажает деревья корнями вверх и удивляется последствиям! Всеобщая подача голосов, при ложной религии и дурном народном образовании, заставляет её вечно колебаться между анархией и диктатурой, между красным и чёрным, между Дантоном и Лайолой. Сколько ещё зарежет Франция козлов отпущения, прежде чем покается?
18 августа 1873 г.
Тысячи мыслей бродили в моём мозгу. Я думал, сколько должно было совершиться исторических фактов, чтобы создать то, что я видел: Иудея, Египет, Греция, Германия, Галлия, все эти века от Моисея до Наполеона и все географические пояса от Батавии до Гвианы — все участвовали в общей работе для этого соединения. Промышленность, наука, искусство, география, торговля, религия всего человеческого рода отражаются во всяком человеческом проявлении, и то, что тут вот, перед нашими глазами, необъяснимо без всего предшествующего. Поразителен тот факт, что нужно сплетение целых десятков тысяч нитей, чтобы создать одно явление. Чувствуется присутствие закона, таинственная мастерская природы.
Преходящий созерцает вечное.
22 августа 1873 г.
Почему доктора очень часто дают плохие советы? — Потому, что они недостаточно индивидуализируют свою диагностику и лечение. Они причисляют больного к категории, соответствующей их науке о болезнях, а между тем каждый больной своеобразен. Может ли быть основательно лечение при такой грубой сортировке? Всякая болезнь есть простой или сложный фактор, который увеличивается другим, всегда сложным фактором, а именно — особенностями больного индивидуума, так что результат есть частная задача, требующая всегда частного решения, в особенности по мере того как мы удаляемся от детства и от деревенской жизни. Главный упрёк мой докторам в том, что они оставляют истинную задачу, состоящую в том, чтобы понять индивидуум, которым они заняты в его отдельности. Их приёмы исследования слишком элементарны.
11 сентября 1873 г. Амстердам.
Только что вышел доктор. Он нашёл у меня лихорадку и полагает, что выехать мне через три дня небезопасно. Я не решаюсь писать своим женевским друзьям, что возвращаюсь с морских купаний с ухудшенным состоянием горла и гораздо более расстроенным, чем когда я ехал туда, и что я потерял своё время, свой труд, свои деньги и свои надежды.
Этот сложный противоречивый факт наивной надежды, возрождающейся после всех разочарований и опыта, почти всегда неблагоприятного, объясняется, как все мечты, волею природы, которая хочет, чтобы мы были обмануты или, освободившись от обмана, поступали всё-таки, как обманутые. Скептицизм — разумнее, но он парализует жизнь, уничтожая заблуждения. Зрелость ума состоит в том, чтобы участвовать в принудительной игре, притворяясь, что веришь в неё. Эта благодушная снисходительность, смягчённая улыбкой, есть лучший выход из этого положения. Предаёшься оптической иллюзии, и эта добровольная уступка похожа на свободу. Раз ты пойман в существование, нужно добродушно подчиняться его законам. Борьба с жизнью приводит к бесполезному ожесточению, если не допускается самоубийство.
Покорное смирение или религиозная точка зрения; разочарованная снисходительность с оттенком иронии или точка зрения светской мудрости: только эти два положения возможны.
Второе достаточно при разочарованиях и неприятностях, первое же, я думаю, необходимо в великих страданиях жизни.
Пессимизм Шопенгауэра предполагает, по крайней мере, здоровье и деятельность мысли, чтобы поддержать себя. Но нужен стоический или христианский оптимизм, чтобы переносить страдания плоти, души и сердца. Чтобы избегнуть порывов отчаяния, нужно верить, по крайней мере, что всё есть благо или что страдание есть отеческая милость, очистительное испытание.
Мой символ веры разрушился, но я верю в добро, в нравственный порядок и спасение; религия для меня состоит в том, чтобы жить и умереть в Боге, предаваясь всецело святой воле, выражающейся в природе и судьбе.
Я верю даже в Добрую Весть, т. е. в возвращение грешника в милость Божию через веру в любовь Отца, который всё прощает.
4 октября 1873 г.
Каждый человек переживает всё с самого начала, и ни одна ошибка первого человека не была избегнута его тысячным наследником. Общественный опыт накопляется, а личный опыт исчезает вместе с личностью. Естественное последствие этого то, что учреждения становятся более мудры, безымянная наука увеличивается, но нынешний юноша, хотя и более образованный, чем прежде, всё так же самонадеян и не менее подвержен ошибкам, как и прежде. Быть может, всё улучшилось, но сам человек положительно не стал лучше, он только стал другим. Его недостатки и добродетели изменяют только форму, но в общем выводе нет обогащения. Тысяча вещей идёт вперед, девятьсот девяносто восемь – назад: в этом — прогресс. Тут нечем гордиться, хотя можно утешиться.
4 февраля 1874 г.
У Гаве есть такого рода ошибка. Он христианство делает синонимом римского католичества и церкви. Я хорошо знаю, что Римская церковь делает то же самое и что с её стороны это приравнивание законно, но научно это несправедливо.
Не следует даже отождествлять христианство с Евангелием, ни Евангелие с религией вообще. Критическая точность должна рассеивать эти постоянные смешения, которыми изобилуют практика и проповедь. Распутывать идеи, различать их, определять их, ставить их на своё место есть главная обязанность науки, когда она касается таких хаотических и сложных вещей, как нравы, языки или верования. Запутанность есть условие жизни, порядок и ясность есть признак серьёзной и победоносной мысли.
В старину превратны и ложны были понятия о природе, теперь таковы понятия психологические и нравственные. Наилучшим исходом из этого столпотворения вавилонского было бы составление или подготовление науки о человеке, которая была бы истинно научна.
16 февраля 1874 г.
Обращаясь к толпе, которая уже составляет силу, а в понятии республиканцев даже и право, Клеоны всегда кричали, что в ней кроме того и свет, и мудрость, и мысль, и разум. Льстить толпе, чтобы сделать себе из неё орудие, — такова игра этих фокусников и престигидитаторов всеобщей подачи голосов. Они притворяются, что обожают марионетку, которую они заставляют двигаться.
Теория радикализма есть шарлатанство, потому что она предполагает посылки, ложность которых она знает. Она фабрикует оракула и притворяется, что обожает его откровение, она предписывает закон, и делает вид, что принимает его, она утверждает, что толпа думает, тогда как ловкий человек думает за неё и внушает ей то, что это она будто бы придумывает. Льстить, чтобы властвовать, — в этом приём придворных во всех самодержавиях, любимцев всех тиранов. Он стар и пошл; тем не менее он ненавистен.
Честная политика должна поклоняться только справедливости и разуму и должна проповедовать их народу, который в среднем представляет из себя детский возраст, а не возраст возмужалости. Развращают детство, если говорят ему, что оно не может обманываться и что в нём больше света, чем в тех, которые предшествуют ему в жизни. Развращают народ, когда говорят, что он есть мудрость, ясновидение и обладает даром непогрешимости.
Монтескье тонко заметил, что чем больше собрать мудрецов, тем меньше получится мудрости. Радикализм же предполагает, что чем более соберётся невежд, людей, живущих страстями и неразумных, в особенности людей молодых, тем более выделится из них света.
27 февраля 1874 г.
Среди народов с очень развитою общественностью личность боится более всего смешного, а быть оригинальным — кажется смешным. Никто не хочет быть в стороне от общества, каждый хочет быть со «всеми». Общее мнение – это великая сила, она есть властелин и называется ВСЕ. ВСЕ одеваются, ВСЕ обедают, ВСЕ гуляют, ВСЕ выходят, ВСЕ входят — вот так, а не вот этак. Эти ВСЕ всегда правы, что бы они ни делали. Подданные ВСЕХ более низкопоклонны перед ними, чем рабы Востока перед падишахом. Прихоть этого властелина решает безаппеляционно; его каприз есть закон. То, что говорят или делают ВСЕ, называется обычаем, то, что они думают, называется мнением, то, что они находят прекрасным или хорошим, называется модой.
У народов, о которых здесь идёт речь, ВСЕ — есть мозг, сознание, суждение, вкус и разум людей, каждый находит всё решённым, помимо своего участия; он избавлен от напряжения обдумывать и решать что бы то ни было. Ему нечего бояться, только бы он подражал, копировал и повторял образцы, представляемые ему ВСЕМИ; он знает всё, что нужно знать, и спасён.
29 апреля 1874 г.
Наше сознание подобно книге, листы которой, перевёртываемые жизнью, последовательно закрывают друг друга вследствие своей непрозрачности; и хотя бы книга была открыта на странице настоящего, ветер всякую минуту может перевернуть листы и открыть перед нами первые страницы. Быть может, при смерти листы перестанут прикрывать друг друга и мы увидим всё наше прошедшее сразу? Может быть, это будет переход от последовательного к одновременному, т. е. от времени к вечности? Может быть, мы поймём тогда в её единстве всю поэму или таинственный эпизод нашего существования, произносимый до того времени по складам — фраза за фразой? Не оттого ли часто облекается таким величием (победы над смертью) лицо и чело тех, которые только что умерли? Тут есть аналогия с положением путешественника, достигшего вершины большой горы, откуда развёртывается перед ним вся панорама страны, виденная прежде урывками. Обозревать свою собственную историю, угадывать смысл её во всеобщей гармонии и в божеском плане — это было бы началом блаженства. До этого приносились жертвы ради порядка, теперь же нам становится доступно наслаждение красотой его. То мы были исполнителями под управлением капельмейстера, теперь становимся изумлёнными и восхищёнными слушателями. То мы видели только свою маленькую тропинку в тумане; теперь же чудесная панорама неизмеримых перспектив развёртывается вдруг перед ослеплённым взором. Почему же и не так?
1 сентября 1874 г.
Равнодушная природа? Сатанинская сила? Или добрый, праведный Бог? Три точки зрения. Вторая — неправдоподобна и ужасна. Первая – призывает к стоицизму. Мой организм был скорее слабым. Он протянулся сколько мог. Каждому свой черёд, нужно покориться. Уничтожиться сразу — это особенное счастье; но ты будешь погибать понемножку. Покорись. Раздражение было бы бессмысленно и бесполезно. Ты всё-таки из лучше наделённых, и твоя доля выше средней.
Одна третья точка зрения может дать радость. Но допустима ли она? Есть ли особый промысел Божий, руководящий всеми обстоятельствами нашей жизни и, следовательно, посылающий нам наши несчастия в воспитательных целях? Эта героическая вера совместима ли с нынешним знанием законов природы? Трудно. Но можно субъективировать то, что эта вера признаёт объективным. Нравственное существо может придать нравственный смысл своим страданиям, пользуясь естественным явлением для своего внутреннего воспитания. То, чего не может изменить, — оно называет волей Бога, желать же того, чего желает Бог, — доставляет ему мир. Природа равнодушна и к нашей стойкости, и к нашей нравственности. Бог же, напротив, если он есть, хочет нашей святости, и, если страдание очищает нас, мы можем утешаться в страданиях. В этом-то и состоит высшее преимущество христианской веры; она есть торжество над страданием, победа над смертью. Одно только нужно: смерть греху, умерщвление собственной воли, сыновняя жертва своими желаниями. Зло есть желание своего, т.е. своего тщеславия, своей гордости, своей чувственности, даже своего здоровья. Благо есть желание своей доли, принятие своего назначения и соединения с ним, желание того, что велит Бог, отречение от того, что Он нам запрещает, согласие с тем, в чём Он нас поправляет или в чём отказывает нам.
21 сентября 1874 г.
Когда венец молодости блекнет на нашем челе, постараемся, по крайней мере, иметь добродетели зрелости; будем делаться лучше, кротче, степеннее, как плод винограда по мере того, как листья желтеют и опадают.
Уметь стариться есть верх мудрости и одна из самых трудных сторон великого искусства жить.
Тот, кто требует от жизни только улучшения своего существа, нравственного усовершенствования в смысле внутреннего удовлетворения и религиозной покорности, менее чем кто-либо подвержен опасности не исполнить призвания своей жизни.
[Сравн.: «Круг чтения», 13 ноября, тема «Самосовершенствование»: 42, 250; «На каждый день», 6 июня, тема «Любовь»: 43, 313. ]
22 января 1875 г.
Французский ум, по Джиоберти, принимает только форму истины и преувеличивает её, изолируя её так, что исчезают действительности, которыми он занят. Он принимает тень за добычу, слово — за вещь, кажущееся — за действительность и абстрактную формулу — за истинное. Он не выходит из умственных ассигнаций. Поговорите с французом об искусстве, об языке, о религии, о государстве, о долге, о семье, и вы почувствуете в его манере говорить, что его мысль остаётся вне предмета, что она не входит в его сущность, в его сердцевину. Он не старается понять её в её существенном, но только — сказать о ней что-либо похожее на правду. В его устах самые прекрасные слова делаются узкими, пустыми; напр., ум, идея, религия. Этот ум поверхностен и не обнимает вещей, он колет с тонкостью, но не проникает. Французский ум хочет наслаждаться собой по поводу вещей; но он не имеет уважения, беспристрастия, терпения, забвения себя, которые необходимы, чтобы понимать вещи такими, каковы они есть. Это не философический ум, но только подделка под него, потому что он не содействует разрешению ни одной задачи и бессилен схватить всё, что живо, сложно и конкретно. Абстракция есть его первородный порок, самонадеянность — его неизлечимый недостаток и правдоподобность — его роковой предел.
Французский язык не может выразить ничего рождающегося, зачинающегося, он изображает только последствия, результаты, caput mortuum [лат. - косный остаток], но не причину, не движение, не силу, не совершение какого бы то ни было явления. Он аналитичен и описателен, но он ничего не объясняет, потому что он не показывает начал и образования из ничего. Кристаллизация не есть для него таинственный акт, посредством которого вещество переходит из состояния жидкого в состояние твёрдое, а только последствие этого акта.
Жажда истины не французская черта. Во всём предпочитается то, что кажется, тому, что есть, внешнее — внутреннему, фасон – материи, то, что блестит, тому, что служит, мнение людей — сознанию. Это значит, что центр тяжести француза всегда вне его, в других, в публике. Отдельные личности — нули; единицы, которые делают из них число, сообщаются им извне; эти единицы суть государь, модный писатель, любимый журнал – словом, мгновенный хозяин моды. Всё это может происходить от чрезмерной общительности, которая убивает в душе мужество сопротивления, способность исследования и личного убеждения, уничтожает стремление к идеалу.
27 января 1875 г.
Ламартин в «Прелюдиях» удивительно выразил тяжесть блаженства для слабого существа. Я подозреваю, что причина этой тяжести есть вторжение бесконечного в существо конечное, туг есть головокружение, ищущее поглощения (слияния с бесконечным). Слишком интенсивное ощущение жизни стремится к смерти. Для человека умереть – это значит стать Богом. Трогательная иллюзия. Посвящение в великую тайну!
16 августа 1875 г.
Жизнь есть только ежедневное колебание между возмущением и покорностью, между инстинктом личности, которая стремится расшириться и наслаждаться в своей неприкосновенности, в своём царственном величии, и инстинктом души, который стремится к повиновению всеобщему порядку, к принятию воли Бога.
Холодное отречение разочарованного разума не есть мир. Мир состоит только в примирении с судьбой, когда судьба является благой в религиозном смысле, т. е. когда человек чувствует себя непосредственно в присутствии Бога. Тогда только воля покоряется. Но совершенно она покоряется только тогда, когда она обожает. Душа подчиняется жестокостям судьбы, только когда поймёт великое возмездие за них, состоящее в любви Всемогущего. Другими словами — она не может привыкнуть ни к скудости, ни к голоду, она ужасается пустоты, и ей нужно счастье надежды или счастье веры. Она может легко переменить объект надежды, но объект нужен ей. Она откажется от своих прежних идолов, но она будет требовать другого культа. Душа алчет и жаждет счастья, и, если бы даже всё покинуло её, она никогда не признает себя покинутой.
26 октября 1875 г.
Все начала — тайны; причина всякой индивидуальной или коллективной жизни — тайна, т. е. нечто, не поддающееся разуму, неизъяснимое, неопределённое. Одним словом: всякая индивидуальность есть неразрешимая загадка и никакое начало не объясняется. В самом деле, всё то, что сделалось, объясняется прошедшим, но начало чего бы то ни было не сделалось. Оно представляет всегда fiat lux, начальное чудо, творение; потому что оно не есть следствие чего-либо другого: оно является только между прежними вещами, которые составляют ему среду, случай, обстановку, но которые сопутствуют его появлению, не понимая, откуда оно явилось.
[ Сравн.: «Круг чтения», 8 октября, тема «Наука»: 42, 131 – 132.
Редакция этого отрывка у Толстого – невелика. Ибо идейное сближение авторов здесь – максимально. И у обоих – великие идейные предтечи: Сократ, Платон, Паскаль… В других антологиях эта же тема у Толстого поименована характернее: не «Наука», а – «Суеверие науки» («На каждый день») и «Ложная наука» («Путь жизни»). А ложно, по мнению Льва Николаевича, положение как раз таких направлений и таких деятелей научной мысли, которые отказыва-ются признать таинственное и непознаваемое, вечную Божью тайну, которые, не без выгод для себя, выдают за познанное то, что не познано или познано лишь отчасти. Это вредно и для науки, и для нравственной личности учёного.
Вот собственные об этом суждения Льва Николаевича из записей «Круга чтения» на этот же день: «Только люди, никогда не думавшие о главных и существенных вопросах жизни, могут думать и говорить, что всё доступно человеческому уму. <…> Ничто так не развращает и не ослабляет умственной силы и не возбуждает так самомнения, как витание в областях непознаваемого. Хуже всего притворяться, что понимаешь то, чего не понимаешь» (42, 131 - 132). ]
Быть может также, истинных индивидуумов нет, а —в этом случае нет и начала, кроме одного только первоначального толчка, первого движения. И все люди составляют только одного двухполого человека, и человек не отделяется от животного и животное от растения, и единственный индивидуум есть только вся живая природа, сведённая к живой материи, к гюлозоизму Фалеса. Но и при этой гипотезе только одного начала, в абсолютном смысле, оставались бы относительные начала, многообразные символы первого начала. Всякая жизнь, которую мы называем приблизительно индивидуальной, представила бы в миниатюре историю мира, для философа же была бы микроскопическим сокращением этого мира.
История образования идей более всего освобождает разум.
Философическая истина делается популярной, только очеловечившись через ораторскую душу, только тогда, когда она передана через даровитую личность. Чистая истина неусвояема толпою: чтобы сообщиться, она должна сделаться заразительной.
30 января 1876 г.
При помощи искусства возвратиться к природе: эта задача была бы прекрасна для такой архисложной литературы, как наша.
Также и Руссо нападал на литературу, обладая всеми средствами писательского искусства, и восхвалял прелести дикости со всеми уловками самого изощрённого цивилизованного человека. Это-то соединение противоположностей и нравится особенно: пряная сладость, учёная невинность, рассчитанная простота, да и нет, безумная мудрость. В сущности, это та высшая ирония, которая льстит вкусу эпох разложения, которые желают двух ощущений за раз, как улыбка Джоконды соединяет два противоположных значения. Удовлетворение выражается тогда также двусмысленной улыбкой, которая говорит: я очарован, но не обманут, я под иллюзией и вне её; я вам уступаю, но понимаю вас; я снисходителен, но я горд; я испытываю ощущения, но я свободен; вы талантливы — я умён, мы квиты и понимаем друг друга.
1 февраля 1876 г.
Сегодня вечером мы беседовали о бесконечно большом и бесконечно малом. Бесконечно большое кажется г-же X.... более ясным, чем бесконечно малое, потому что бесконечно большое есть число, слагающееся из самого себя, тогда как она не умеет анализировать то, что должно быть измеряемо другим способом.
Существо мыслящее может поставить себя на все точки зрения и заставить жить свою душу всеми способами, но надо признаться, что очень мало людей пользуются этой возможностью. Люди вообще как бы заключены в тюрьме, привинчены к своим обстоятельствам, почти как животные. Они не подозревают этого совсем, потому что они не судят себя. Поставить себя вне всех своих состояний и смотреть внутрь своей жизни и своего существа есть дело критика и философа.
Пускай воображение боится призраков, которые оно само себе творит,— это простительно ему, потому что оно воображение. Но чтобы ум подчинялся или боялся тех категорий, которые он порождает,— непростительно ему, потому что он, как сила критическая, не может быть обманут.
А между тем суеверия величины есть обман ума, творящего понятие пространства. Сотворённое же не может быть больше творца, сын — не больше отца. Тут необходима поправка. Ум должен освободиться от пространства, дающего ему ложное понятие о нём самом. Но освобождение это возможно только тогда, когда мы научимся видеть пространство в уме, вместо того чтобы видеть ум в пространстве. Как же так? Возвратив пространство к его основному свойству. Пространство есть рассеяние, ум — сосредоточение.
Поэтому Бог везде, не занимая миллиардов кубических вёрст, ни в сто раз меньше, ни в сто раз больше.
В мысли мир занимает точку, но в состоянии рассеяния и анализа для этой мысли нужны небеса в небесах.
Время, число также в разуме, поэтому человек, возвратившись к сосредоточению разума, не меньше, а больше их.
[Отрывок, начиная со слов: «Пускай воображение боится прзраков...», был включён Л.Н. Толстым в сборник мудрой мысли «Круг чтения» под 12 апреля, в теме «Бог»: 41, 241.
О том, к каким размышлениям о жизни, добре, красоте и о Боге привело Льва Николаевича в 1892 году знакомство с этим и другими размышлениями Амиеля – было уже сказано выше. Но попытки философского определения Толстым понятий жизни и божественного не связаны именно с влиянием Амиеля и, даже судя по тому, что данный отрывок не вошёл в более поздние антологии Толстого – пробивался Лев Николаевич в этом деле по независимому от выводов женевца пути.
И вот один из важнейших (быть может, самый важный!) вывод Толстого о Боге, богословиях и богопознании, сделанный им в записи Дневника от 7 октября 1910 года, то есть – незадолго до смерти:
«Религия есть такое установление [человеком] своего отношения к миру, из которого вытекает руководство всех поступков. Обыкновенно люди устанавливают своё отношение к началу всего – Богу, и этому Богу приписывают свои свойства: наказания, награды, желание быть почитаемым, любовь, которая, в сущности, свойство только человеческое, не говорю уж о нелепых легендах… <…> Лучше всего ОСТАВИТЬ БОГА В ПОКОЕ, не приписывать ему не только творения рая, ада, гнева, желания искупить грехи и т.п. глупости, но не приписывать ему воли, желаний, любви даже. Оставить Бога в покое, понимая Его, как нечто совершенно недоступное нам, а строить свою религию, отношение к миру на основании тех свойств разума и любви, которыми мы владеем» (58, 114 – 115. Выделение наше. – Р.А.).
Однако нечто в сложившихся о Боге представлениях для Толстого-христианина было незыблемо до конца: это представление о божественности (сыновности Богу) каждого человека по разумению и духу и посланничестве его в мире для работы по замыслу и воле Отца. Воля Бога – в его законе разуму человека, изложенном в мировых религиозных учениях в их первоначальном варианте (ещё не перетолкованном и не извращённом церковниками и иными безбожными людьми). Разум и душа доверившегося не попам, а Богу (т.е. истинно верующего) человека чуют истину Бога, пробиваются через нагромождения мирской лжи…
Именно для того, чтобы «не терять из виду» в повседневной суете этого своего высшего назначения и этого закона, Толстой признавал для себя и всякого человека всё-же небесполезными попытки выводить понятие Бога (Там же. С. 116).
Наконец, вот знаменитые и раздёрганные на цитаты строки из последней (31 октября) записи Дневника, писанной Александрой Львовной Толстой под диктовку умиравшего отца. Она, разумеется, о Боге:
«Бог есть то неограниченное Всё, чего человек сознаёт себя ограниченной частью.
Истинно существует только Бог. Человек есть проявление Его в веществе, времени и пространстве. Чем больше проявление Бога в человеке (жизнь) соединяется в проявлениях (жизнями) других существ, тем больше он существует. Соединение этой своей жизни с жизнями других существ совершается любовью.
Бог не есть любовь, но чем больше любви, тем больше человек проявляет Бога, тем больше истинно существует. <…> Бога мы познаём только через сознание Его проявления в нас. Все выводы из этого сознания и руководство жизни, основанное на нём, всегда вполне удовлетворяет человека и в познании самого Бога и в руководстве своей жизни, основанной на этом сознании» (58, 143 - 144).
Докончив диктовку, Толстой таки удружил Бога оставлением его в покое. А Бог – не оставил его без скорого и желанного ответного подарка… ]
12 июля 1876 г.
Горе за горем. Припадок кашля; ни хорошая погода, ни прекращение работы не улучшают состояние моего здоровья. Разрушение ускоряется. Разрушение преждевременное, тяжёлое испытание? «После стольких несчастий что же тебе остаётся? — Я сам».
то я и есть центральное сознание, ствол всех срезанных ветвей, основа, на которой совершались все урезывания. Скоро ничего больше не останется, кроме этого, кроме голой мысли. Смерть приводит нас к математической точке; разрушение, предшествующее ей концентрическими кругами, всё более и более тесными, приводит нас к этому последнему неразрушимому убежищу. Я предвкушаю этот ноль, в котором уничтожаются все формы. Я вижу, каким образом совершается возвращение во мрак и обратно, — вижу, как выходят из него. Жизнь есть только метеор, путь которого виден мне. Рождение, жизнь, смерть
получают новый смысл при каждом фазисе нашего существования. Видеть себя как летящую ракету, присутствовать при убегающем феномене своей жизни — вот практическая психология. Я предпочитаю созерцать мир, который представляет фейерверк более обширный и богатый; но когда болезнь суживает мой горизонт и приводит меня к моему ничтожеству, моё ничтожество представляет всё-таки зрелище для моей любознательности. Интересует меня во мне, несмотря на моё отвращение, то, что я нахожу в себе подлинный экземпляр человеческой природы, следовательно, образчик общей ценности. По образчику я понимаю бесчисленное количество подобных же положений и моих ближних...
Если история разума и сознания есть сердцевина и сущность существования, то быть пригнанным к психологии, даже личной, не значит выходить из вопроса. Напротив, в этом положении находишься в самой середине вопроса, в центре всемирной драмы.
Мысль эта утешительна. Всё может быть у нас отнято; но если нам остаётся мысль, то мы держимся ещё за ось мира магическою нитью. Но мы можем потерять мысль и слово. Остаётся тогда только простое чувство: чувство присутствия Бога и смерти в Боге; это есть последний остаток преимущества человека; преимущество участия во всём, в общении с абсолютным.
Твоя жизнь есть молния, которая исчезает в своей туче.
Но молния спасла тебя, если она показала тебе Небо.
26 июля 1876 г.
Дневник располагает к лени, он избавляет от необходимости рассматривать предметы со всех сторон, он допускает повторения, следует за всеми капризами и извилинами внутренней жизни и не ставит себе никакой цели. Этот дневник содержит в себе материал для многих томов. Какая страшная трата времени, мысли и сил. Он не будет ни для кого полезен, даже для меня он послужит скорее к тому, чтобы увернуться от жизни, чем войти в неё. Дневник заменяет поверенного, т. е. друга и жену; он заменяет деятельность, он заменяет отечество и общество. Это есть забвение страдания, отводящее средство, увёртка. Но этот фактотум, который заменяет всё, сам по себе ничего не представляет.
Что же составляет историю души? Это есть наслаивание её успехов, список её приобретений и ход её судьбы. Чтобы твоя история просветила кого-нибудь и заинтересовала тебя самого, нужно, чтобы она высвободилась из своего материала, упростилась и очистилась. Эти тысячи страниц суть только куча листьев и кора дерева, из которой ещё нужно извлечь её сущность. Целый лес хинных деревьев не стоит бочки хинина. Целый сад розовых кустов в Смирне сгущается в один флакон розовых духов. Эта 29-летняя болтовня резюмируется, быть может, в ничто, каждый ведь интересуется только своим романом и своей личной жизнью. Ты, может быть, и сам никогда не удосужишься перечитать его.
Итак... итак, что ж? Ты прожил, а жизнь ведь состоит в повторении человеческого типа и всё той же человеческой ритурнели, — как это делали, делают и будут делать во веки веков легионы тебе подобных. Сознать эту ритурнель и этот тип — уже что-нибудь да значит, и мы не можем сделать ничего большего. Реализация типа лучше удаётся и ритурнель более радостна, если обстоятельства благоприятны и милостивы, но сделают ли марионетки так или иначе... Trois petits tours et puis s’en vont. Три раза повернутся и потом уходят (1).Всё это падает в ту же бездну и всё почти одинаково.
Бороться с судьбой, отбиваться от неё, чтобы спастись от неизбежного исхода, — это почти ребячество. Столетняя жизнь и жизнь эфемерида суть величины очевидно эквивалентные, — геология или астрономия позволяют нам рассматривать эти жизни с этой точки зрения, — что значат наши незаметные треволнения, наши усилия, наши злобы, наше честолюбие, наши надежды? Смешно поднимать мнимые бури ради сна во сне. Что значат для нас те сорок миллионов инфузорий, которые занимают полувершковый куб мела? Что значат для селенита те сорок миллионов людей, которые составляют Францию? Быть сознательной монадой, быть ничем, но признавать себя микроскопическим привидением мира — вот всё то, чем мы можем быть.
19 сентября 1876 г.
Дудану (2) недоставало только дозы материальности, грубости и необходимого честолюбия, чтобы занять блестящее положение; но, оценённый в лучшем обществе Парижа, он не искал ничего другого. Он напоминает мне Жуберта.
20 сентября 1876 г.
Ум состоит в удовлетворении ума другого, доставляя ему зараз два наслаждения: именно понять вещь и угадать по ней о другой, так сказать, убить двух зайцев зараз. Таким образом, Дудан никогда почти не высказывает прямо свою мысль, он скрывает её и осторожно вводит её в сознание читателя намёком, образом, гиперболой, лёгкой иронией, притворным гневом, разыгрываемым смирением, любезной хитростью. Чем более различается та вещь, которую надо угадать, от той, которая сказана, тем более приятного изумления для собеседника или корреспондента. Эта тонкая и прелестная манера выражаться даёт возможность поучать без педантизма и быть смелым, не оскорбляя. В этой манере есть что-то воздушное и аттическое, серьёзное с шуточным, фикция с истиной, и всё это — с лёгкой грацией, от которой не отказались бы Лафонтен и Алкивиад.
15 ноября 1876 г.
Вот ещё новые приложения закона иронии. Каждая эпоха имеет два противоречивых стремления, которые логически отталкивают друг друга, фактически же соединяются. Таким образом, в прошлом веке философский материализм был сторонником свободы. Теперь же дарвинисты стоят за равенство, тогда как дарвинизм доказывает право сильного. Бессмысленное есть характер жизни; существа реальные суть живые противоречия, одушевлённые и движущиеся патологизмы. Согласие с самим собой было бы примирением, отдыхом и, может быть, неподвижностью. Почти все люди признают деятельность и прилагают её только в виде войны, внутренней войны за существование, внешней и кровавой войны наций, наконец войны с самим собой. Итак, жизнь есть вечная битва, которая хочет того, чего она не хочет, и не хочет того, чего она хочет. Отсюда то, что я называю законом иронии, т. е. бессознательный обман; опровержение себя самим собой, конкретное осуществление абсурда. Неужели это необходимо? Я не думаю. Борьба есть карикатура гармонии. Гармония же, которая состоит в соединении противоположностей, может быть тоже началом движения. Война есть грубое и жестокое умиротворение, подавление противодействия через истребление или рабство побеждённых. Взаимное уважение было бы лучше. Борьба происходит от эгоизма, признающего своим пределом только постороннюю силу. Законы животности преобладают почти во всей истории. Человеческая история преимущественно зоологична; она очеловечивается только поздно, и то только в лучших душах, преданных справедливости, доброте, энтузиазму и самоотвержению. Ангел только редко и с трудом пробивается сквозь животное.
Христианские нации обнаруживают вполне закон иронии. Они исповедуют небесную буржуазию, исключительный культ вечных благ, и никогда алчное преследование тленных благ, привязанность к земле, жажда приобретения не были более сильны, чем у этих наций. Их официальный девиз прямо противоположен их положительным стремлениям. Под чужим знаменем, под ложным флагом они производят контрабанду с шутовскою беспечностью совести. Есть ли это лицемерный обман? Нет, это есть приложение закона иронии.
Плутовство столь обычно, что оно становится незаметным самому преступнику. Все нации противоречат себе каждую минуту и ни одна не чувствует, насколько она смешна. Нужно быть японцем, чтобы заметить шутовские противоречия христианской цивилизации. Нужно быть селенитом, чтобы понять вполне глупость человека и его постоянную иллюзию. Философ также подпадает закону иронии, потому что после того, как он мысленно освободился от всех предрассудков, т. е. вполне обезличился, ему нужно снова входить в своё рубище, в свою гусеницу, есть и пить, испытывать голод, жажду и холод и поступать, как все другие смертные, после того как он на мгновение поступит как никто. Здесь-то и ожидают его комические поэты; животные потребности мстят за эту экскурсию в эмпиреи и с насмешкой кричат ему: ты грязь, ты ничтожество, ты человек!
4 декабря 1876 г.
Люди гениальные поставляют сущность истории, тогда как толпа есть только критический фильтр, ограничение, замедление, необходимое, но пассивное отрицание идей, приносимых гением. Глупость динамически есть необходимый противовес ума. Нужно много, нужно три четверти азота, примешанного к кислороду, чтобы сделать воздух годным для дыхания, жизненным; чтобы создать историю, нужно иметь много силы для того, чтобы победить сопротивление и увлечь за собой массы.
5 января 1877 г.
И вот я опять совсем несчастен нынче утром, полузадушенный своим бронхитом, стеснённый в ходьбе, с ослабленным мозгом, — то, чего я боюсь больше всего, потому что размышлением я защищаю себя против других неприятностей. Быстрое убывание сил, незаметная порча высших органов, разрушение мозга; какое испытание, и никто не подозревает его. Некоторые жалеют вас за то, что вы наружно старитесь, но это ничего. Ровно ничего, если чувствуешь свои способности сохранившимися.
Это благодеяние даровано было стольким людям умственной деятельности, что и я немного надеялся. Увы! Неужели и этим надо пожертвовать? Жертва легка, если верить, что она возложена или, скорее, отечески потребована Богом, особенным Его промыслом. Но у меня нет этой религиозной радости. Это моё увечье умаляет меня, не принося никому пользы. Мне остаётся только один мотив: мужественная покорность перед неизбежным и пример для других; чистая стоическая мораль.
Это нравственное воспитание отдельной души пропадёт ли? Когда наша планета окончит цикл своего назначения, кому и на что в небе это послужит на пользу? Прозвучать одной своей нотой в симфонии творения. Мы сознаём целое и неизменное, потом исчезаем, мы, индивидуальные атомы, ясновидящие монады. Разве этого мало? Да, мало, потому что, если нет прогресса, приращения, улучшения, есть только химическая игра и эквивалентность сочетаний. Брама создал и поглощает. Если мы — лаборатория духа, то по крайней мере пусть дух увеличивается нашими силами. Если мы осуществляем высшую волю, то пусть Бог радуется этому. Если доверчивая покорность души более радует его, чем величие мысли, будем входить в его план, в его намерение. Это-то и значит жить для славы Бога, выражаясь теологическим языком. Религия состоит в сыновнем принятии божеской воли, какова бы она ни была, лишь бы только отчётливо понимать её. А разве можно сомневаться в том, что убывание, болезнь и смерть находятся в программе нашего существования? То, что неизбежно, есть судьба. А судьба не есть ли безымённое указание Того, которого религии называют Богом. Спускаться без ропота по реке своей судьбы, переживать без возмущения посвящение в тайну последовательных отречений, беспредельных умалений, беспредельных до 0 (нуля) - вот что нужно. Свитие так же естественно, как и развитие. Входишь так же постепенно во мрак, как постепенно выходил из него. Игра сил и органов, грандиозный механизм жизни часть за частью скрываются в коробке. Начинаешь инстинктом, нужно уметь кончить ясновидением, нужно видеть себя разрушающимся и умирающим.
6 февраля 1877 г.
То, что реже всего встречается, это верность ума, метод, критика, соразмерность, постепенность... Общее состояние мыслей есть путаница, бессвязность, самоуверенность, и общее состояние сердец есть страстность, невозможность быть справедливым, бесстрастным, уступчивым, открытым; воля всегда впереди ума; желания впереди воли; и случай рождает желание; так что люди выражают только случайные мнения, которые не стоят того, чтобы их принимать серьёзно, и которые не могут оправдать себя ничем иным, как детским рассуждением: я есмь, потому что я есмь. Искусство познавать истину редко прикладывается к делу, да оно даже и неизвестно, потому что нет личного смирения и даже нет любви к истине. Мы хотим познаний, которые вооружили бы наши руки или язык, которые служили бы нашему тщеславию или нашей потребности власти, но критика самих себя, своих предрассудков, своих склонностей нам антипатична.
Человек животное своевольное и жадное, которое пользуется своей мыслью, чтобы удовлетворять своим наклонностям, но которое не служит истине, которое имеет отвращение к личному исправлению, которое ненавидит беспристрастное созерцание и работу над самим собой. Мудрость раздражает его, потому что она приводит его в смущение и потому что он не хочет видеть себя таким, каков он есть.
Большая часть людей только запутанные мотки, неполная клавиатура, хаос, существа, или всегда стоящие, или всегда шумящие, и что делает их положение почти неизлечимым, это то, что это положение им нравится. Нельзя излечить больного, который считает себя здоровым...
5 апреля 1877 г.
Освятить на минуту глубокую душу, сделать добро тем, которые несут, сострадая, тягость стольких сокрушённых сердец и стольких страдающих жизней, есть благословение, преимущество, цену которого я чувствую. Есть какое-то религиозное блаженство в том, чтобы подкреплять силу и мужество благородных характеров. Сам удивляешься, что обладаешь этой силой, которой не считаешь себя достойным, и хочется прилагать её с сознанием её значения. Я испытываю с особенной силой, что человек во всём том, что он делает или может делать прекрасного, великого и доброго, есть только орган и орудие чего-то или кого-то высшего его. Это чувство есть религия. Человек религиозный присутствует с трепетом священной радости при этих совершающихся через него, а не от него явлениях, которые происходят в нём. Он отдаёт им в распоряжение свой голос, свои руки, свою волю, своё содействие, стараясь почтительно стереться, для того чтобы как можно меньше извратить высшее дело этого гения, который на время пользуется им для исполнения своего дела. Он обезличивается, он уничтожается от восхищения. Его «я» должно исчезнуть, когда говорит Святой Дух, когда действует Бог. Так пророк слышит призыв, так молодая мать чувствует, как двигается плод в её утробе, так проповедник смотрит, как текут слёзы его слушателей. До тех пор, пока мы чувствуем своё «я», мы ограничены, эгоисты, пленники; когда мы в согласии с общей гармонией, когда мы вибрируем в унисон с Богом, наше «я» исчезает. Так в совершенно согласном хоре нужно фальшивить, чтобы услыхать самого себя. Состояние религиозное это есть сдержанный энтузиазм, прочувствованное созерцание, спокойный экстаз. И как редко это состояние для несчастного существа, измученного долгом, необходимостью, злым светом, грехом, болезнью! Это есть состояние внутреннего счастья. Но основа существования, обычная ткань наших дней, есть деятельность, усилие, борьба, следовательно диссонанс. Беспрестанно возобновляющаяся битва с короткими и всегда непрочными перемириями — вот картина человеческого существования. Будем же приветствовать, как отзвук неба, как предвкушение лучшего устройства мира, эти краткие мгновения полного согласия, эти затишья между двумя бурями. Мир не химера, но есть только неустойчивое равновесие — случайное. «Блаженны миротворцы, — они сынами Божьими назовутся».
[С заметными редакторскими правками Лев Николаевич включил в свои сборники «Круг чтения» и «На каждый день» отрывок из данной дневниковой записи Анри Амиеля – от слов: «Я испытываю с особенной силой…» до слов: «…наше «я» исчезает». Слова: «…чрез него, а не от него…» выделены у Толстого курсивом.
Сравн.: «Круг чтения», 1 июля, тема «Божественная природа души»: 41, 462; «На каждый день», 1 июля, тема «Вера»: 44, 4.
В окончательный, печатный текст книги «Путь жизни» Толстой не включил отобранный им отрывок ни в каком виде. Но в черновых вариантах к первому Отделу этой книги (имевшему черновое название – «О вере») мы находим вот такой своеобразный краткий пересказ этого отрывка:
«Религия состоит в том, чтобы знать, что всё то хорошее, что делает человек, он делает только потому, что в нём живёт Бог. Человек религиозный знает, что всё хорошее, что он делает, делается не им, а чрез него. До тех пор, пока человек чувствует себя одним собою, он ограничен, себялюбив, несвободен. Свободен он становится только тогда, когда соглашается с той силой, которая живёт через него» (45, 500). ]
26 апреля 1877 г.
Перелистывал «Париж» Виктора Гюго. В 10 лет накопились изобличения во лжи пророка, но доверие пророка к тому, что он воображает, — не уменьшилось. Смирение и здравый смысл приличны только лилипутам. Виктор Гюго гордо не ведает всего того, чего он не предвидел. Он не знает, что гордость есть граница ума и что гордость безграничная есть признак мелкости души. Если б он ставил себя наряду с другими людьми, а Францию с другими народами, он видел бы вернее и не впадал бы в свои безрассудные преувеличения и свои нелепые предсказания. Но соразмерность и верность не в его струнах. Он обречён титаническому. Его золото всегда смешано со свинцом, его созерцания — с ребячеством, его разум — с безумием. Он не может быть прост. Он освещает как бы пожаром, только ослепляя. Словом, он удивляет, но он раздражает, он волнует, но он оскорбляет. Он всегда наполовину или на две трети во лжи, это-то и есть секрет тягостного чувства, которое он постоянно заставляет испытывать. Великий поэт не может отделаться от шарлатана, который сидит в нём. Можно назвать общественным бедствием Франции то, что самый могучий поэт её не понял лучше своей роли и что противно тому делали еврейские пророки, которые, любя свой народ, наказывали его — он систематически и вследствие своей гордости кадит своим согражданам. Франция - это мир; Париж - это Франция; Гюго - это Париж. Народы, падайте ниц!
2 мая 1877 г.
Какая нация лучше всех? Нет ни одной, в которой бы зло не составляло противовеса добра. Каждая нация есть только карикатура человека, что и доказывает то, что ни одна не имеет тех качеств, вследствие которых она могла бы устранить все другие нации, то, что все они должны поучаться друг от друга. Я постоянно поражаюсь качествами и недостатками каждой из них... Моя точка зрения философская, т. е. беспристрастная и не личная. Единственный тип, который мне нравится, это совершенство, человек, просто человек, человек идеальный. Что касается национального человека, я терплю, изучаю его, но я не восхищаюсь им. Я могу восхищаться только прекрасными образцами рода, великими людьми, гениями, характерами возвышенными, душами благородными, и эти образцы находятся во всех этнографических отделах. Моё отечество «по выбору» (выражаясь словами г-жи Сталь) состоит из избранных личностей. Я не чувствую никакого внутреннего пристрастия ни к французам, ни к немцам, ни к швейцарцам, ни к англичанам, ни к полякам, ни к итальянцам столько же, сколько к бразильцам или китайцам. Иллюзия патриотическая, шовинистская, семейная, профессиональная не существует для меня. Напротив, я почувствую с большей живостью недостатки, пороки и несовершенства группы, к которой я принадлежу. Моя наклонность — это видеть вещи такими, каковы они есть, отвлечёнными от моей личности, освобождёнными от всякого желания и всякой воли. Моя антипатия не к тому или этому, но к заблуждению, к предвзятости, к предрассудку, глупости, исключительности, преувеличению.
4 июня 1877 г.
Слушал «Ромео и Джульетту» Гектора Берлиоза. Сочинение озаглавлено: «Драматическая симфония для оркестра с хорами». Исполнение было очень хорошо. Произведение интересное, тонкое, обработанное, любопытное, но оно не трогает. Обдумывая своё впечатление, я объясняю его себе так: подчинять человека вещам, присоединять голоса как добавление к оркестру — мысль ложная. Обращать драматическое положение в простой рассказ — это значит из более высокого делать ничтожное. Ромео и Джульетта, где нет ни Ромео ни Джульетты, вещь нелепая. Поставить низменное, тёмное, туманное, вместо высокого и ясного, это пари вопреки здравому смыслу. Нарушается естественный порядок вещей, и нарушается не безнаказанно. Музыкант фабрикует ряд симфонических картин, без внутренней связи, представляющих нанизанные загадки, единственный ключ к которым есть текст в прозе, составляющий вместе с тем и единственную связь между этими картинами. Единственно понятный голос, который является в произведении, это отец Лоренцо; его проповедь не могла быть передана аккордами и поётся отчётливо; но поучение драмы не есть драма, и драма вся исчезла в речитативах. Не будучи в состоянии достигнуть прекрасного, силятся дать новое. Ложная оригинальность, ложное величие, ложный гений! Это измученное искусство мне антипатично. Наука, которая хочет казаться гениальной, есть только разновидность шарлатанства. Берлиоз — критик, блестящий умом, учёный музыкант, умный и изобретательный, но он хочет создать большее, не будучи в состоянии создать и малого. Тридцать лет тому назад в Берлине я получил то же самое впечатление, после того как прослушал «Детство Христа», исполненное под его же управлением. Я не нахожу у него здорового и производительного искусства, прочной и истинной красоты.
Я должен сказать, однако, что публика, довольно многочисленная в этот вечер, казалась очень довольной.
9 августа 1877 г.
Возрастающее торжество дарвинизма, т. е. материализма или грубой силы, угрожает понятию справедливости. Но придёт и её черед. Высший человеческий закон не может быть заимствован у животности. А справедливость есть право в высшей степени индивидуальной независимости, совместимое с такой же свободой для других; другими словами, это уважение к человеку, к меньшему, к слабому, к ничтожному, это гарантия человеческих совокупностей, ассоциаций, государств, национальностей, союзов непосредственных или сознательных, которые могут увеличить сумму блага и удовлетворить желанию личных существований. Эксплуатация одних другими нарушает справедливость. Право сильного не есть право, но простой факт, который может быть правом, только покуда не встречает протеста и сопротивления. Это как бы холод, тьма, тяжесть, которые должны быть переносимы до тех пор, покуда не найдёшь отопления, освещения, рычага. Вся человеческая промышленность есть освобождение из-под власти грубой природы, прогресс же справедливости есть не что иное, как ряд ограничений, которым подвергалась тирания сильного. Как медицина состоит в победе над болезнью, так благо состоит в победе над слепым зверством и необузданными вожделениями человека-зверя. Таким образом, я вижу всегда один и тот же закон, возрастающее освобождение личности, восхождение всего существа к жизни, к благу, к справедливости, к мудрости. Алчная жадность есть точка отправления; разумное великодушие есть точка достижения.
[Сравн.: «Круг чтения», 14 августа, тема «Насилие»: 41, 572; «На каждый день», 17 февраля, тема «Суеверие насилия»: 43, 91.
Кроме того, этот же отрывок из записи А. Амиеля от 9 августа 1877 г. (со слов: «Право сильного не есть право…») стал эпиграфом для 3-й главы статьи Л.Н. Толстого с говорящим само за себя заглавием – «Закон насилия и закон любви» (1908 г., см. 37, 156).
Этот отрывок Амиеля столь совершенен, столь перекликается с собственными Льва Николаевича размышлениями о христианском законе непротивления, об отказе людей от веры в грубую силу и закон насилия как условии нравственного совершенствования всех, – что как-либо редактировать его Лев Николаевич попросту не стал. Из «Круга чтения», правда, отчего-то выпало заключительное предложение отрывка (о жадности и великодушии), но в других двух вышеназванных сочинениях Толстого оно в цитатах присутствует. ]
6 ноября 1877 г.
Мы много говорим о любви, прежде чем познаем её, и мы думаем, что мы знаем её, если повторяем о ней то, что говорят о ней люди, или то, что рассказывают о ней в книгах. Таким образом, есть незнание нескольких степеней и степени призрачного знания. От этого-то и скука общества, что в нём происходят эти вечные турниры с горячими и неистощимыми разговорами, которые имеют вид, что знают вещи, потому что говорят о них, имеют вид, что верят, любят, думают, ищут, тогда как всё это есть только подобие и болтовня. Хуже всего в этом то, что, когда болтовня эта вызывается самолюбием, эти незнания обыкновенно делаются отчаянными в своих утверждениях; лепетание принимается за мнение, предрассудки выдаются за принципы. Попугаи считают себя мыслящими существами, подражание выдаётся за оригиналы, и вежливость требует допущения этих условностей. Это несносно.
Язык есть орудие этого смешения и бессознательного обмана, и это зло чудовищно преувеличивается всеобщим образованием, периодической прессой и всеми теперь изобретёнными средствами распространения знаний. У всех в обращении кучи ассигнаций, и немногие дотрагивались до золота. Все живут символами и даже символами символов, и никто никогда не держал в руках и не проверял самих вещей. Судят обо всём и ничего не знают.
Как мало существ оригинальных, индивидуальных, искренних, которых стоит труда послушать! Истинное «я» у большинства облечено чуждою и заимствованной атмосферой. Как мало таких, которые представляли бы что-нибудь кроме известных склонностей — кроме животных, только языком и своими двумя ногами напоминающих о своей высшей природе.
Огромное большинство нашей расы представляет только кандидатуру на человечество, не более. Мы имеем возможность быть людьми, мы можем быть ими, мы должны бы быть ими, но мы не осуществляем тип нашей расы. Подобия людей, подделки под людей наполняют обитаемую землю, населяют острова и континенты, деревни и города. Чтобы уважать людей, надо забывать про то, что они такое, и думать об идеале, который они носят скрытым в себе, думать о человеке справедливом и благородном, умном и добром, вдохновенном и творце, честном и правдивом, верном и надёжном — словом, о человеке высшем, о божественном образце, который мы называем душой. Единственные люди, которые заслуживают носить это имя, это герои, гении, святые, существа гармоничные, могущественные и совершенные.
Мало лиц, заслуживающих внимания, с сострадательным любопытством и смиренною проницательностью. Ведь все мы — потерпевшие крушение, приговорённые больные, остальные же должны быть наблюдаемы. Пусть каждый трудится над своим совершенствованием и осуждает только самого себя; так будет лучше для всех. Какое бы нетерпение ни вызывал в нас наш ближний, какое бы негодование ни внушала нам наша порода, мы сцеплены вместе и товарищи по каторге; мы только всё потеряем, если будем взаимно упрекать и осуждать друг друга. Будем молчать, будем помогать, будем терпеть, будем даже любить друг друга. Если не можем быть нежны, то будем хоть сострадательны. Оставим бич сатиры, раскалённое железо гнева, лучше масло и вино милосердного самаритянина. Можно извлечь презрение из идеала; но не лучше ли извлекать из него доброту?
Кто отдаёт справедливость весёлости? Те, кто не печален? Они именно знают, что весёлость есть порыв и бодрость, что обыкновенно она есть скрытая доброта и что, даже если бы она была делом только темперамента и расположения духа, она всё-таки благо.
26 июля 1878 г.
Каждое утро я пробуждаюсь с одним и тем же чувством напрасной борьбы против прилива, который поглотит меня. Я должен погибнуть от задушения, и оно уже началось.
Нельзя ничего предпринять, когда каждый день приводит к какой-нибудь новой неприятности. Нельзя даже решиться на что-нибудь в смутном и неопределённом положении, где предвидишь худшее, но где всё сомнительно. Предстоит ли тебе ещё несколько лет или только несколько месяцев? Будет ли смерть медленная или ускоренная катастрофа? Как я буду переносить дни и чем я их наполню? Как кончить со спокойствием и достоинством? Не знаю. Я дурно делаю всё то, что я делаю в первый раз; здесь же всё ново; ничего не испытано; кончаешь как попало. Какая обида для того, кто слишком любил независимость; зависишь от тысячи случайностей. Не знаешь того, что будешь делать, того, что из тебя станет. Хотелось бы побеседовать об этих вещах с другим здравомыслящим и добрым советчиком, но с кем? Не решаешься тревожить привязанностей, наиболее преданных, и наверное знаешь, что другие умудрятся смутить тебя и не войдут в истинное положение.
И в ожидании (в ожидании чего? здоровья? достоверности?) недели текут, как вода, сила расходуется, как дымящая свеча.
Имеешь ли ты право идти к смерти, не сопротивляясь ей? Самосохранение составляет ли обязанность человека? Обязаны ли мы для тех, которые любят нас, продолжать наивозможно больше эту безнадёжную борьбу? Мне кажется, что да, но это опять стеснение. Нужно тогда притворяться, что имеешь надежду, которой не имеешь, скрыть то совершенное отчаяние, которое испытываешь. И почему нет? Будет великодушно со стороны тех, которые умирают, не уменьшать пыла тех, которые сражаются или которые радуются.
Два параллельных пути ведут к одному и тому же результату; размышление парализирует меня, физиоло-гия осуждает меня. Душа умирает, тело тоже. Так или иначе я прихожу к концу. Оставаясь один с собою, я извожу себя грустью, и медицина мне говорит также: ты не пойдёшь дальше. Оба эти приговора означают одно и то же, что у меня нет более будущего. Это кажется нелепостью моему неверию, которое хотело бы видеть в этом только дурной сон. Сколько бы ум ни говорил, что это так, нет внутреннего согласия. Ещё противоречие! У меня нет силы надеяться, и я не имею силы безропотно покориться. Я не верю и всё-таки ещё верю. Я чувствую, что кончаюсь, и не могу вообразить себе, что это так. Уж не безумие ли это? Но нет, это только человеческая природа в своём проявлении. Противоречие в самой жизни, потому что она есть беспрестанная смерть и ежедневное воскресение, потому что она утверждает и отрицает, разрушает и созидает, собирает и рассеивает, унижает и возвышает в одно и то же время. Жить — это значит умирать постоянно, это значит пребывать в этом вихре двух противоположных направлений, это значит быть загадкой.
Если невидимый ещё тип, намечаемый этим двойным течением в противоположных направлениях, если эта форма, на основании которой совершается твоя метаморфоза, сама имеет в себе своё самобытное значение, что нужды, что она продолжит свою игру на несколько оборотов Луны или Солнца больше! Она сделала то, что она должна была сделать, она представила известную, единственную комбинацию, представила особенное выражение рода. Эти типы суть тени, души умерших. Века кажутся занятыми их созданием. Слава есть доказательство того, что один тип явился для других типов более новым, более редким, более прекрасным, чем другие. Люди обыкновенные также души; но они имеют значение только для Создателя и для совсем маленького числа личностей.
Сознавать свою бренность — хорошо, но быть к ней равнодушным — это высший взгляд.
Знать меру немощи полезно; но понимать смысл своей жизни ещё полезнее. Жалеть самого себя есть также тщеславие; должно сожалеть только о том, что стоит того, а жалеть самого себя — это значит бессознательно придавать себе значение. Это значит в то же время не признавать своего истинного значения. Нет необходимости жить, но нужно не портить своего типа, оставаться верным своему идеалу, охранять свою монаду от изменения и извращения.
7 ноября 1878 г.
Есть люди, которые убивают истину истинами. Самое обычное явление нашего педантизма точности состоит в том, дабы разбить в порошок статую для того, чтобы подробнее рассмотреть её. Я называю ложными умами те, которые видят только часть предмета, так же как и те, которые уродуют эти части. Видеть вещи и людей такими, какими они есть, видеть то, чем они могли бы быть, и то, чем они должны быть,— в этом состоит дело хорошего критика, соединяющего в одно эти три способности.
Понимать вещи — значит побывать в них и потом выйти из них; нужно, стало быть, пленение и потом освобождение, — очарование и разочарование, увлечение и охлаждение. Тот же, который находится ещё под очарованием, так же как и тот, который не был очарован, — одинаково некомпетентны. Мы знаем хорошо только то, чему прежде поверили и потом обсудили. Чтобы понимать — надо быть свободным, но прежде этого быть пленённым. Это справедливо относительно любви и искусства, и религий, и патриотизма. Любовь есть первое условие критики, разум и справедливость предполагают вначале чувство.
[Толстой использовал отрывок, от слов: «Понимать вещи – значит…» до слов «…одинаково некомпетентны», в двух своих антологиях мысли: «Круг чтения», 29 января, тема «Мудрость» (41, 70) и «На каждый день», 26 декабря, тема «Усилие воздержания в мыслях» (44, 380).
Редактирование Толстым записи Амиеля от 7 ноября 1878 года коснулось, прежде всего, мастерства выборки. Толстой цитирует отрывок вне тех контекстуальных ограничений, которые очевидны в записи Амиеля. Опять же, речь можно вести всё о тех же двух разных пониманиях жизни, о которых мы много сказали выше: Амиель в этой своей записи не возвышается до жизнепонимания всемирно-божеского, до жизнепонимания Христа и Льва. Он рассуждает применительно к ряду чуждых для Толстого-христианина слагаемых не христианского, а ещё языческого, общественно-государственного, жизнеустройства. Напимер, применительно к разноречивым религиям, тогда как, по жизнепониманию Толстого, религия, разумное Божье учение о жизни, может быть, как сам Бог и как Божья истина, – только одна; или – применительно к патриотизму, который Толстой отрицал как враждебное христианству суеверие. Иное семантическое наполнеие вливает христианское жизнепонимание и в понятия искусства (а также и критики искусства), и особенно в понятие любви, никак не сводимому для Толстого к «чувству».
Да, Амиель здесь огромнейшее прав. «Внутри вещей», то есть понятий вместе с их субъективным семантическим наполнением, действительно, нужно, для лучшего их понимания, побывать – и выйти. Вот Толстой и вышел… Он прожил десятки лет с общим с большинством его современников «джентльменским набором» догм, стереотипов, суеверий… пока, наконец, не научился на большинство из них смотреть ИЗВНЕ, с позиций иного, высшего понимания…
Конечно, худшие часы и дни бывают у всякого человека. Слабость, сомнения, маета, ропот – удел всех смертных на пути к полноте знания и духовной реализации. Маялся и Христос в ожидании страданий и смерти… И Толстой нередко «соскальзывал» на «ступень» оценок отжитого жизнепонимния. С другой стороны, даже молодой Амиель в лучшие минуты и часы – прозревал от внушённых ему мирских и церковных суеверий к Богу и ко Христу. В той же записи «Круга чтения» от 29 января, а также в записях на 10 мая, у Толстого процитирована ещё одна запись Амиеля (уже рассмотренная нами), из его берлинского ещё, 1848 года, дневника. Уже тогда молодой Анри, страстно и неортодоксально верующий человек, стремился рвать все «фундаментальные» оценочные шаблоны пошлой обывательской «адекватности»… Это ещё не новое религиозное понимание жизни, но – верная установка на него. Вот эта запись – “на бис”, ибо – стоит того:
«Судить о нашем времени с точки зрения всемирной истории, историю с точки зрения геологических периодов, геологию с точки зрения астрономии, вот что делает мысль свободной. Когда продолжительность жизни человека или народа представляется нам такой же микроскопической, как и жизнь мушкарки, и наоборот, жизнь эфемерида так же бесконечна, как жизнь небесного тела со всею пылью народов, мы чувствуем себя и очень малыми и очень великими, и мы со всей высоты небесных сфер можем рассматривать наше собственное существование и те маленькие вихри, которые волнуют нашу маленькую Европу.
В сущности, есть только один предмет изучения: это разные виды и превращения духа. Все другие предметы сводятся к этому же, все другие изучения приводят к тому же» (Из дневника Амиеля. – СПб., 1894. – С. 5).
Это и есть выход на жизнепонимание всемирно-божеское, жизнепонимание Иисуса и Льва: представление об истинной жизни человека как жизни духа во временном материальном теле – инструменте, которым на срок вооружается всякий человек, сын Бога, для исполения в мире работы Отцу, разумной и доброй жизни в воле Его. ]
13 января 1879 г.
Никак не могу вспомнить, какие я вчера писал письма. Ночь вырывает пропасть между мной вчерашним и мной сегодняшним. Моя жизнь без единства действия, потому что я не помню того, что делаю. Вероятно, моя мыслящая сила, расходуясь на овладевание собой в форме сознания, пропускает всё то, что заполняет обыкновенно мысли, как ледник отбрасывает камни и обломки, упавшие в его трещины, чтобы остаться чистым кристаллом. Философскому уму противно загромождать себя фактами и ничтожными воспоминаниями. Мысль цепляется только за мысль, т. е. за себя, за душевное движение. Обогащать свой опыт есть единственное его стремление. Внутреннее изучение игры своих способностей делается его удовольствием и даже его склонностью и привычкой. Размышление есть только аппарат, записывающий впечатления, эмоции, идеи, которые проходят в уме.
Всё это очень хорошо, но очень опасно.
Пока находишься в числе живых, т. е., погружён в среду людей, интересов, борьбу тщеславия, страстей, а также обязанностей, нужно отказаться от этого утончённого состояния, нужно соглашаться быть определённой личностью, имея своё имя, своё положение, свой возраст, свою сферу деятельности. Как ни соблазнительно безличие, нужно всё-таки возвратиться к состоянию существа, заключённого во временные и пространственные условия, к состоянию личности, которая имеет своё окружение, своих друзей, врагов, профессию, отечество, которая должна иметь помещение, кормиться, вести свои счёты, заботиться о своих делах; нужно поступать, одним словом — поступать, как всякий встречный. Есть дни, когда все эти подробности кажутся мне сном, когда я удивляюсь пюпитру, который под моей рукой, своему собственному телу, когда я спрашиваю себя, есть ли улица перед моим домом и реальна ли вся эта географическая и топографическая фантасмагория. Время и пространство сводятся тогда к простым точкам. Я присутствую тогда при моём существовании в области чистого духа. Я вижу себя sub specie ;ternitatis [лат. - в облике вечного].
И потому ум может произвести в себе опыт бесконечного; из человеческой личности выделяется иногда божественная искра, которая позволяет ему проникнуть в существо — источник, существо — основу, существо — начало, в котором находится всё, как ряд в своей производящей формуле. Мир есть только излияние лучей духа; излияния лучей божеского Духа более, чем правдоподобие для нас, — они имеют реальность, параллельную нашей.
Идеал есть предварение божеского порядка умом. Ум способен к идеалу, потому что он ум, т. е. потому, что он проникает в вечное. Действительное, напротив, есть отрывок, есть преходящее. Только закон вечен. Идеал, таким образом, есть неразрушимая надежда на лучшее, невольный протест против настоящего, фермент будущего. Он то, что сверхъестественно в нас или, скорее, сверхживотно; он причина способности человека к совершенствованию.
Тот, кто не имеет идеала, довольствуется тем, что есть, он не спорит с фактом, который становится для него тождественным со справедливостью, с благом, с красотою. Но почему божеское излияние лучей несовершенно? Потому что оно ещё продолжается. Наша планета, напр., находится в середине своих опытов. Флора, фауна продолжают преобразовываться. Эволюция человечества более близка к своему началу, чем к своему окончанию. Совершенная спиритуализация животности кажется особенно трудной, и это есть дело нашей породы. Наперекор этому идут заблуждения, зло, эгоизм, смерть, не считая теллурических переворотов. Устройство благосостояния, знания, нравственности, справедливости для всех начато, но только начато. Тысяча задерживающих и извращающих причин нарушает эту гигантскую работу, в которой участвуют нации, породы, континенты. В настоящее время человечество не составляет ещё физической единицы, его воспитание как целого ещё впереди. Все опыты порядка были только местные кристаллизации, зачатки мгновенной организации. А теперь начинают приближаться осуществления (единство почты и телеграфов; всемирные выставки; путешествия вокруг планеты; международные конгрессы и т. д.). Наука и взаимные интересы связывают большие фракции человечества, разделяемые языками и верою. Такой год, когда проектируют сеть африканских железных дорог, идущих от берегов до центра, соединяющих сухим путём Атлантический океан, Средиземное море и Индийский океан, — такой год лучше всего характеризует новую эру. Фантастическое сделалось постижимым. Возможное стремится сделаться реальным. Планета делается садом человека. Человек имеет главной задачей сделать возможным сожитие людей между собой, т. е. найти равновесие, право, порядок нового времени. Разделение труда позволяет ему искать всего сразу; промышленность, наука, искусство, право, воспитание, нравственность, религия, политика, экономические отношения — всё рождается.
19 января 1879 г.
Доброта произвольно ограничивает остроту ума; доброта ставит экран на слишком острые лучи проницательности; она-то именно отказывается освещать безобразие и нищету интеллектуального госпиталя. Доброта боится признать своё преимущество, она предпочитает быть смиренной и милосердной; она старается не видеть того, что режет ей глаза, т. е. несовершенства, калечества, уклонения. Её сострадание принимает вид одобрения. Она побеждает свои отвращения, чтобы ободрять и возвышать.
Ум аристократичен, доброта демократична. В демократии равенство самолюбий, при неравенстве заслуг, создало на практике огромное затруднение. Одни выпутываются из него, обуздывая благоразумием свою откровенность, другие — поправляя свою проницательность кротостью. Кажется, что добродушие надёжнее осторожности. Оно не оскорбляет и ничего не убивает.
Доброта великодушна; она охотно рискует и, несмотря на сотню опытов, не предполагает зла. Нельзя быть в одно и то же время добрым и осторожным, нельзя служить двум господам: своему эгоизму и любви. Надо уметь быть обманутым. Это та жертва, которую должны принести ум и самолюбие совести. Кажется, Фенелон сказал: прекрасные души одни только понимают величие доброты.
21 января 1879 г.
Религия занимает сначала место науки и философии; потом же она должна удержать только своё место, т. е. быть задушевным чувством сознания, тайной жизнью души в общении с божественной волей и всемирным порядком. Благочестие есть ежедневное освежение идеала, возвращение к равновесию нашего внутреннего существа, колеблемого, смущаемого, раздражаемого ежедневными случайностями жизни. Молитва есть духовный бальзам, драгоценное крепительное лекарство, которое возвращает нам мир и мужество. Она напоминает нам прощение и долг, она говорит нам: ты любим — люби; ты получил — давай; ты должен умереть, делай своё дело; побеждай гнев великодушием, зло добром. Что нужды до слепого мнения, до ложного суждения о тебе, до испытанных тобой неблагодарностей. Ты не обязан ни следовать пошлым примерам, ни иметь успеха. Делай что должно, пусть будет что будет. Твой свидетель — твоя совесть, а твоя совесть — это Бог, который говорит тебе.
[Сравн. в «Круге чтения» (8 марта, тема «Молитва»):
«Жизнь путает, раздражает нас, рассеивает нащи мысли. От этого-то и бывает так полезна для души молитва. Молитва – это крепительное лекарство, оно возвращает нам мир и мужество. Она напоминает нам наши грехи, нашу обязанность прощения всех, она говорит нам: “Ты любим – люби; ты получил – давай; ты должен умереть – делай своё дело; побеждай гнев великодушием, зло добром. Что нужды до ложного суждения людей о тебе. Ты не обязан ни угождать им, ни иметь успех. Делай, что должно, пусть будет, что будет. Твой свидетель – твоя совесть, а твоя совесть – это Бог, который говорит в тебе. Вспоминай и освежай в себе всё это – в этом молитва”».
В позднейшие сборники даже этот, заметно отредактированный Толстым, текст Амиеля не вошёл. Причина очевидна: уже по статье «Христианское учение» (1894 - 1896), называемой иногда «катехизисом Толстого», видно, что понимание Бога, а значит и молитвы как обращения к Божественному, было у Толстого, вероятно, уникально для его, забывшей Христа, эпохи. Ему потребовалось рассказать о нём своими словами, а не путём подбора даже сильно переделанных цитат других авторов.
Да и сложно это рассказать… быть может, не легче, чем рассказать Бога. Но Бога нельзя и показать – можно лишь привести к доверию к Нему. А молитва – всё-таки может быть и демонстрирована, и вербализирована. Толстой без успеха, но всё-таки попытался научить современников христианскому пониманию и деланию молитвы.
Сравним обычное даже в наше время понимание молитвы и – понимание, обретённое Л.Н. Толстым.
Вот что говорит о молитве толковый словарь начала XXI века:
«МОЛИТВА, -ы, ж. 1. В религии: установленный канонический текст, произносимый при обращении к Богу, к святым. <…> 2. Моление, обращённое к Богу, к святым. <…> +Стоять на молитве – молиться, стоя перед иконами, образами (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. – М., 2005. – С. 362).
Итак, для молитвы, в традиционном толковании этого термина, молящемуся необходимы, как минимум:
1) Боги, святые, духи и пр. надмирные существа, которые могут слышать молитву и реагировать на неё.
2) Иконы или аналогичные предметы культа.
Теперь посмотрим, как представлял себе молитву Лев Николаевич.
В его «Круге чтения» под 21 декабря мы находим следующее размышление: «Можно жить без молитвы только тогда, когда или страсти вполне завладевают человеком, или когда вся жизнь его есть служение Богу. Но для человека, борющегося со страстями и ещё далёкого от исполнения того, что он считает своим долгом, молитва есть необходимое условие жизни».
И чем большее значение для человека приобретают борьба со страстями и исполнение высшего долга – тем важнейшее место занимает в духовной жизни такого человека молитва: «Человек постоянно растёт, изменяется, и потому должно изменяться и уясняться и его отношение к Богу. Должна изменяться и молитва» (Круг чтения. 25 февраля).
О каком росте речь? Вот тут уже – снова не обойтись без пристального рассмотрения соответстующих аспектов всё той же концепции трёх жизнепониманий, прекрасно изложенной Л.Н. Толстым, как уже было нами сказано, в статье «Религия и нравственность» (1893) и трактате «Царство Божие внутри вас» (1890 - 1893).
Проанализировав в «Религии и нравственности» различные определения религии, Лев Николаевич приходит к выводу, что сущность всякой религии состоит в ответе на вопросы: зачем я живу и каково моё отношение к окружающему меня бесконечному миру и первопричине его?
На выражения этого отношения в различных вероучениях влияют, конечно, и этнографические, и исторические условия, и перетолкования, уродование учения его мнимыми последователями, но в сущности – их не более трёх: 1) первобытное личное, 2) языческое общественное, или семейно-государственное и 3) христианское, всемирно-божеское. При этом, подчёркивает Толстой, второе, общественно-государственное, жизнепонимание есть «только расширение первого».
Первое, низшее, жизнепонимание – это выражение отношения к жизни детей, нравственно-грубых людей и дикарей: они признают себя самодовлеющими существами, а смыслом своей жизни – благо личное. Такое жизнепонимание находит своё выражение как в языческих религиях, так и в низших формах исповедания буддизма (который Толстой именует «отрицательным язычеством»), ислама и др. т.н. «мировых» религий. Характеризующая черта молитв при этом отношении к жизни – ПРОСИТЕЛЬНОСТЬ: человек молит богов, святых о даровании земных благ и избавлении от страданий.
Второму, языческому, семейно-государственному или общественному, жизнепониманию соответствует в индивидуальном развитии человека возраст возмужания. Человек, сознание которого пробудилось к этому, высшему чем первобытноличное, жизнепониманию, признаёт значение своей жизни уже не в благе одной своей личности, а в благе известной совокупности личностей: семьи, рода, народа, «своей» церкви, «своего» государства, а в пределе – и всего человечества. Он готов жертвовать своим личным благом ради блага этих совокупностей. «Двигатель его жизни есть слава. Религия его состоит в возвеличении глав союзов: родоначальников, предков, государей и в поклонении богам – исключительным покровителям его семьи, его рода, народа, государства». Это отношение людей к миру исторически выразилось в общественно-патриархальных религиях: государственной религии Рима, иудаизме (как религии избранного народа), исламе (как религии межплеменного единения), религиях Китая и Японии, а также – и в церковно-государственных извращениях христианства, включая сюда греко-российское православие.
Что же исполняет роль молитвы у людей такого жизнепонимания и адептов этих вероучений? На этом отношении человека к миру, указывает Толстой, зиждутся «все обряды поклонения предкам в Китае и Японии, поклонения императорам в Риме, вся многосложная еврейская обрядность <…>, все семейные, общественные церковно-христианские молебствия за благоденствие государства и за военные успехи».
Наконец, третье, и высшее из открытых человечеству пониманий жизни – соответствующее в индивидуальной жизни человека возрасту опыта и мудрости – признаёт значение жизни человека уже не в достижении целей отдельной личности или совокупности таковых (вплоть до человечества), а исключительно в служении человеком «той Воле, которая произвела его и весь мир для достижения не своих целей, а целей этой воли». Для исполнения в мире воли Бога такой человек радостно жертвует не только своим личным, но и семейным, и общественным благом. Человек – посланник и работник Бога в мире; тело его – инструмент делания в мире Божьей работы, а вовсе не получения чувственных удовольствий или обслуживания интересов (экономических, военных и пр.) других людей.
И это высшее жизнепонимание «получило своё полное и последнее выражение только в христианстве – в его истинном, неизвращённом значении».
Какова же должна быть молитва христианина? Вот теперь – заглянем в «Христианское учение» (1894 - 1896).
«Для того, – пишет здесь Толстой, – чтобы больше и больше, яснее и яснее узнавать себя и помнить о том, кто такое человек, есть одно могущественное средство. Средство это есть молитва. <…>
Для людей прежнего времени молитва была и теперь остаётся для большинства людей обращением при известных условиях, в известных местах, при известных действиях и словах – к Богу или богам для умилостивления их.
Христианское учение не знает таких молитв, но учит тому, что молитва необходима не как средство избавления от мирских бедствий и приобретения мирских благ, а как средство укрепления человека в борьбе с грехами.
Для борьбы с грехами человеку нужно понимать и помнить о своём положении в мире и при совершении каждого поступка оценивать его для того, чтобы не впасть в грех. Для того и другого нужна молитва».
Христианин – не раб и жертва церковной лжи, а именно истинный, свободный христианин – признавая себя и ближних детьми по разуму и духу единого Отца, обращается с молитвами не к личному «Царю Небесному», «Аллаху» и под., а – к божественной основе собственного существа, Отцу в самом себе.
Толстой представляет себе христианскую молитву двоякой: есть молитва временная («та, которая уясняет человеку его положение в мире») и молитва ежечасная («та, которая сопутствует каждому его поступку, представляя его на суд Богу, проверяя его») («Христианское учение», гл. 60).
Вот как описывает Толстой христианскую молитву временную в «Круге чтения» (25 февраля):
«Молитва состоит в том, чтобы, отрешившись от всего мирского, от всего, что может развлекать мои чувства <…>, вызвать в себе божеское начало. Самое лучшее для этого – то, чему учит Христос: войти одному в клеть и затвориться, то есть молиться в полном уединении, будет ли оно в клети, в лесу или в поле. Молитва – в том, чтобы, отрешившись от всего мирского, внешнего, вызвать в себе божественную часть своей души, перенестись в неё, посредством неё вступить в общение с тем, кого она есть частица, сознать себя рабом Бога и проверить свою душу, свои поступки, свои желания по требованиям не внешних условий мира, а этой божественной части души.
И такая молитва бывает не праздное умиление и возбуждение, которое производят молитвы общественные с их пением, картинами, освещениями и проповедями, а такая молитва – помощь, укрепление, возвышение души. Такая молитва есть исповедь, поверка прежних и указание направления будущих поступков».
Молитва же ежечасная воспомоществует человеку в его повседневной борьбе с сознанными как зло грехами, «напоминает человеку во все минуты его жизни, при всех поступках его, в чём его жизнь и благо». «Молитва ежечасная есть постоянное во время посланничества сознание посланником присутствия Пославшего» («Христианское учение», гл. 62).
Вот что сказано о ежечасной христианской молитве в «Круге чтения»:
«Молитесь ежечасно. Самая нужная и самая трудная молитва – это воспоминание среди движения жизни о своих обязанностях перед Богом и законом Его. Испугался, рассердился, смутился, увлёкся – вспомни, кто ты и что ты должен делать. В этом молитва. Это трудно сначала, но эту привычку можно выработать».
Дневник Л.Н. Толстого начиная с 1880-х гг., оставил нам множество свидетельств, что он стремился выработать в себе такую привычку…
Сопутствующим молитве делом для Толстого было общение – посредством чтения – с мудрейшими людьми разных эпох, философскими и религиозными учителями человечества. Подчёркивая подкрепляющий силу молитвы характер такого чтения, Лев Николаевич назвал его как-то «причащением» (49: 68).
Надо ли говорить, что при христианском жизнепонимании для всякого, пробудившегося к нему разумным сознанием, человека уже не существует раз и навсегда фиксированных и сакрализированных текстов молитв. В 1908 – 1909 гг. Толстой составляет для себя в Дневнике несколько таких текстов молитв-выражений христианского жизнепонимания:
«Благодарю тебя, Господи, за то, что открыл мне то, что можно жить Тобою. И не хочу и не могу жить другой жизнью» (Запись 14 мая 1908 г.).
«Помоги мне быть в Тебе, с Тобою, Тобою» (1 января 1909 г.).
«Хочется помощи от Бога. Понимать же Бога могу только любовью. Если люблю, то Он во мне и я в Нём. И потому буду любить всех, всегда, в мыслях, и в словах, и в поступках. Только в такой любви найду помощь от Бога» (7 февраля 1909 г.).
«Отец мой, начало любви, помоги мне, помоги в том, чтобы делать то, чего Ты через меня хочешь» (23 июня 1909 г.).
(При встрече с человеком). «Помоги, Бог, мне обойтись с этим проявлением Тебя с уважением и любовью, думая только о Твоём, а не людском суде» (19 июля 1909 г.).
«Помоги мне быть только Твоим работником» (10 декабря 1909 г.).
И так далее… Как видим, понимание молитвы Львом Николаевичем – неизмеримо более глубокое, нежели то, какое зафиксировала приведённая нами выше словарная статья.
Вспоминает И.Е. Репин:
«Лев Николаевич, выйдя из усадьбы, сейчас же снимал свои старые, своей работы, туфли, засовывал их за ременный пояс и шёл босиком. Шёл он уверенным, быстрым, привычным шагом, не обращая ни малейшего внимания на то, что тропа была засорена сучками и камешками.
<…>
Только мудрецы всех времён и народов, возлюбившие Бога, составляют его желанное общество, только с ними он в своём кругу. (Как не вспомнить тут о «причащении», которым Толстой называл чтение мудрых книг. – Р.А.). Разумеется, его религиозность несоизмерима ни с каким определённым формальным культом религий, она у него обобщается в одном понятии: Бог один для всех.
<…>
– Теперь я пойду один, – вдруг сказал Лев Николаевич на прогулке. Видя, что я удивлён, он добавил:
– Иногда я ведь люблю постоять и помолиться где-нибудь в глуши леса.
– А разве это возможно долго? – спросил я наивно и подумал: “Ах, это и есть «умное делание» у монахов древности”.
– Час проходит незаметно, – отвечает Лев Николаевич задумчиво.
– А можно мне как-нибудь, из-за кустов, написать с вас этюд в это время? <…>
– Ох, да ведь тут дурного нет. И я теперь, когда меня рисуют, как девица, потерявшая честь и совесть, никому не отказываю. Так-то. Что же! Пишите, если это вам надо, – ободрил меня улыбкой Лев Николаевич.
И я написал с него этюд на молитве, босого» (Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1978. С. 481 – 483. Выделения наши. – Р.А.).
Итак, в соответствии со своим пониманием молитвы, Толстой уединялся в «природной клети», дабы собраться с мыслями, вспомнить прочитанное у мудрецов и религиозных учителей человечества и осмысленное, подумать о Боге, духовно подготовиться к общению с людьми… Босым же ходил – ибо летом обычно жил У СЕБЯ ДОМА, в родной усадьбе, и к тому же считал необходимым поберечь обувь.
Мы видим, что И.Е. Репин, отчасти единомысленный Льву Николаевичу, понимает настоящее значение для Толстого и уединённых прогулок-молитв, и чтения-причащения. Недаром лесное уединение великого яснополянского христианина он сравнивает с «умным деланием» у православных монахов, имеющих ту же, что и молитвы Толстого, общую цель – направить помыслы и поступки человека к совершенствованию в добре.
Понимала в этом отца и старшая дочь Льва Николаевича, Татьяна Львовна Толстая-Сухотина. Вот её свидетельство:
«Проснувшись, он уходил в лес или поле. По его словам, он ходил “на молитву”, то есть один на лоне природы он призывал лучшие силы своего “я” для исполнения дневного долга» (Сухотина Т.Л. Воспоминания. М., 1976. С. 405).
Приведём, наконец, ещё одно свидетельство – секретаря Л.Н. Толстого, Николая Николаевича Гусева:
«В 1907 – 1909 годах, когда я имел счастье жить в Ясной Поляне и помогать великому Толстому в его работах, Лев Николаевич вставал обычно около восьми часов и, умывшись, шёл на прогулку. Эта утренняя его прогулка длилась обыкновенно недолго, от получаса до часа. Гулял он почти всегда один, и эти утренние часы уединённого общения с природой служили для него вместе с тем временем, когда он усиленно сосредоточивался в самом себе для того, чтобы в течение всего последующего дня держаться на уровне духовной высоты, как в сношениях со всеми людьми, родными и чужими, с которыми приходилось ему сталкиваться, так и во время его собственной напряжённой творческой деятельности. Это напряжение духовных сил и сосредоточение в самом себе он называл “молитвой”» (Лев Толстой – человек / В кн.: Гусев Н.Н. Два года с Л.Н. Толстым. М., 1973. С. 358). ]
3 марта 1879 г.
Учение равенства уравновешивает дарвинизм подобно тому, как волк держит на почтительном расстоянии другого волка. Но оба чужды долгу. Учение равенства утверждает право не быть съеденным своим ближним, дарвинизм констатирует факт, что сильные поедают слабых, и прибавляет: тем лучше. Ни тот ни другой не сознают ни любви, ни братства, ни доброты, ни благочестия, ни добровольной покорности, ни самоотречения.
Все силы и все принципы действуют одновременно в мире. Их равнодействующая скорее добро, чем зло. Но война безобразна, потому что она расшатывает все истины и вводит в бой заблуждения против заблуждений, партии против партий, т. е. половинки существ, одних уродов против других. Эстетическая натура не уживается с этим зрелищем, она хочет внимать гармонии, а не всегдашнему скрипению диссонанса. Нельзя не допустить это условие существования человеческих обществ: шум, ненависть, обман, преступление, дикость интересов, упорство предрассудков; но философ вздыхает об этом и не может полагать в этом своего сердца; ему нужно смотреть с высоты на историю и слышать часто музыку вечных сфер.
15 марта 1879 г.
Я перелистываю «Историю моего крёстного», соч. Сталь, и несколько глав «Наши сыновья и наши дочери», соч. Легувэ. Эти писатели ставят ум, грацию, весёлость и приятность на сторону добрых нравов; они хотят показать, что добродетель не так уж пресна и здравый смысл не так уже скучен. Это убедительные моралисты и пленительные рассказчики; они возбуждают аппетит к добру. Эта привлекательность имеет, однако, свою опасность. Мораль в сахаре, конечно, принимается охотно, но нельзя не бояться, что её принимают только из-за сахара. Сибариты переносят проповедь, если она настолько утончённа, что льстит их литературной чувствительности; но прельщён только их вкус, совесть же не пробуждается; основание их поведения не затронуто.
Веселить, просвещать, поучать суть различные роды, которые, конечно, можно смешивать и соединять, но которые нужно уметь разделять, чтобы произвести реальное и искреннее действие. Ребёнок со здравым умом не любит вообще смесей, в которых есть хитрость и обман. Долг требует повиновения, учение требует прилежания, игра требует только доброго расположения духа. Обращать повиновение и прилежание в приятную игру — это значит ослаблять волю и ум. Эти усилия сделать добродетель модой похвальны, но, если они и делают честь писателям, они доказывают нравственную анемию общества. Неиспорченным желудкам не нужно столько ухищрений, чтобы вызвать в них вкус к хлебу.
22 мая 1879 г. (Вознесение).
Звон всех колоколов. Наступает время церковной службы. К живописным музыкальным и поэтическим впечатлениям присоединяются впечатления исторические и религиозные. Все народы христианства, все церкви, распределённые вокруг нашей планеты, празднуют прославление Распятого.
А что делают в эту минуту столько наций, которые имеют других пророков и иначе чествуют божество? Что делают евреи, мусульмане, буддисты, вишнуисты, гебры? Они имеют другие благочестивые даты, другие обряды, другие торжества, другие верования. Но все имеют религию, все дают жизни идеал и желают, чтобы человек возвышался над несчастьями и мелочами настоящего эгоистического существования. Все веруют во что-нибудь более великое, чем они сами, все молятся, все смиряются, все обожают. Все видят по ту сторону Природы Дух, по ту сторону зла — добро. Все свидетельствуют о Невидимом. В этом-то братство всех народов. Все люди существа воздыхания и желания, беспокойства и надежды. Все хотели бы привести себя в согласие со всеобщим порядком и чувствовать себя одобрёнными и благословенными Творцом вселенной. Все знают страдание и желают счастья. Все знают грех и просят прощения.
Христианство, в его первоначальной простоте, есть примирение грешника с Богом через уверенность в том, что Бог всё-таки любит нас и наказует только любя. Христианство дало людям новый двигатель и новую силу для достижения высшей нравственности, оно привлекало людей к святости, сблизив её с сыновней благодарностью.
9 сентября 1879 г.
Небытие совершенно, бытие несовершенно; этот поразительный софизм становится прекрасным только в платонизме, потому что небытие заменяется там Идеей, которая существует и которая Божественна.
Идеал, химера, пустота не должны стоять так высоко над реальным, которое имеет несравненное преимущество существования. Идеал убивает наслаждение и довольство, заставляя унижать настоящее и действительное. Его голос говорит: нет, как и Мефистофель. Нет, ты не достиг того, к чему стремился; нет, ты не найдёшь покоя; всё то, что ты видишь, всё то, что ты делаешь, недостаточно, незначительно, переделано, недоделано, несовершенно. Жажда идеала есть бич Сивы, который ускоряет жизнь только для того, чтобы ускорить смерть. Это неизлечимое желание составляет страдание личности и прогресс рода. Оно убивает счастье ради достоинства.
Единственное положительное благо — это порядок, следовательно возвращение к порядку, возвращение к равновесию. Мысль дурна без действия, и действие без мысли. Идеал — это яд, если он не осуществляется в действительности; и действительность портится без благоухания идеала. Ничто частное не хорошо без своего дополнения и без своей противоположности. Изучение себя опасно, если оно преобладает над расходованием своих сил; мечтание вредно, когда оно усыпляет волю; кротость дурна, когда она отнимает силу; созерцание гибельно, когда оно разрушает характер. Излишество и недостаток одинаково грешат против мудрости. Крайность — зло, апатия — другое зло. Энергия в умеренности — в этом долг; прелесть в тишине — в этом счастье. Подобно тому как жизнь дана нам на время, на несколько лет и мы не владеем ею, так же и добро, которое есть в нас, не принадлежит нам. Вовсе не трудно рассматривать себя с таким внутренним отречением от себя; для этого достаточно немного знания самого себя, некоторого постигновения идеала и немного религии. Есть даже много прелести в той мысли, что мы ничто сами по себе и что нам, однако, даровано призывать друг друга к жизни, к радости, к поэзии, к святости.
Закон иронии: Зенон, хотя и фаталист в теории, делает своих учеников героями; Эпикур же, напротив, утверждая свободу, делает своих учеников беспечными и изнеженными. Направление даёт только идеал; идеал стоический — это долг, идеал эпикурейский — расчёт. Два направления, две морали, два мира. Также янсенисты и, перед ними, великие реформаторы стояли за несвободную волю, а иезуиты за свободу, и однако первые основали свободу, вторые — рабство совести. Таким образом, важен не теоретический принцип; существенное — это скрытое направление, стремление, цель.
В каком возрасте видишь всего вернее? Это должно быть в старости перед физическими немощами, которые ослабляют или делают мрачным. Древние имели правильную точку зрения. Старец, добрый и бескорыстный, созерцает, а созерцание и есть то, вследствие чего мы, наблюдая вещи в их относительном и пропорциональном значении, должны видеть их лучше всего.
2 января 1880 г.
Чувство отдыха, даже успокоения. Тишина в доме и вне его. Огонёк в камине — общее благосостояние. Портрет моей матери как будто улыбается мне; тишина этого утра не смущает, но радует меня. Как ты велика, прелесть чувств,— что может сравниться со сладостью этих часов безмолвного сосредоточения...
Желанья и страх, грусть и злоба не существуют... Это счастье, как понимают его восточные люди, блаженство анахоретов, которые не борются уже, ничего не желают, обожают и наслаждаются. Не знаешь, какими словами выразить это нравственное состояние, потому что наши языки, знающие только частные и местные вибрации жизни, неспособны выразить это неподвижное сосредоточение, это божественное спокойствие, это состояние затихшего океана, который отражает небо и вместе с тем обладает сам собою, во всей своей глубине... Душа сознаёт себя только душою и перестаёт чувствовать свою индивидуальность, свою отделённость. Она чувствует себя чем-то ощущающим всемирную жизнь, становится одной из чувствительных точек божества. Она ничего не присвояет себе и не чувствует пустоты... Это состояние, соединяющее радости бытия и небытия, состояние, которое не есть ни размышление, ни воля, но которое выше нравственного и интеллектуального существования, которое составляет возвращение к единству... один из желательных видов нирваны.
Несомненно, что люди Запада и в особенности американцы чувствуют иначе. Для них жизнь есть пожирающая, непрестанная деятельность. Им нужно завоёвывать золото, власть, могущество, давить людей, подчинять природу. Они упорствуют в приобретении средств и ни минуты не думают о цели. Они смешивают бытие с личным существованием и расширение этой жизни со счастьем. Это значит, что они не живут душой, они не знают неподвижного и вечного, они бьются на периферии, потому что они не могут проникнуть до оси своего существования. Они беспокойны, пылки, положительны, потому что они поверхностны. Зачем столько суматохи, шума, алчности и борьбы? Всё это только одурманение себя. Неужели на одре смерти они не замечают этого? А если да, то отчего не замечают они этого раньше? Деятельность хороша только тогда, когда она свята, т. е. направлена на то, что вечно.
9 февраля 1880 г.
Жизнь бежит, тем хуже для раненых. Как только слабеют силы, поток молодых и жадных сбивает тебя с ног. «Vае victis, vae dibilibus» («горе побеждённым, горе слабым»), — кричит толпа, несущаяся на приступ земных благ. Как ни умаляй себя, ты всегда стоишь на дороге кому-нибудь, всегда занимаешь какое-нибудь пространство, потому что, как мало ни завидуй, сколь малым ни владей, кто-нибудь непременно завидует тебе и желает того, что ты имеешь. Подлый мир, мир подлецов! Чтобы утешиться, нужно думать об исключениях, о благородных, о возвышенных душах. Они есть, не будем же думать о других.
Как пропасть близко! Мой челнок тонок, как ореховая скорлупа, быть может даже, как яичная. Пусть увеличится немного повреждение — и я чувствую, что всё кончено для пловца. Самая ничтожная случайность отделяет меня от идиотизма, от сумасшествия, самая ничтожная случайность отделяет меня от смерти. Лёгкой бреши достаточно, чтобы причинить опасность этому искусному и ломкому сооружению, которое называется моим бытием и моей жизнью. Стрекоза недостаточно хрупка, чтобы быть символом этого бытия; мыльный пузырь лучше передаёт это призрачное великолепие, это убегающее проявление маленького «я», которое и составляет нас......
Ночь довольно плачевная, пробуждался три или четыре раза от моего бронхита. Меланхолия, беспокойство. Возможно, что я задохнусь в одну из этих зимних ночей. Я предвижу необходимость быть в готовности и привести всё в порядок. Прежде всего сотрём все обиды, горечи, простим всем, не будем судить никого; будем смотреть на недоброжелательство и на вражду как на недоразумение. «Насколько это зависит от нас, будем в мире со всеми людьми». На смертном одре ум должен созерцать только вечное. Все пошлости исчезают. Битва кончена. Можно вспомнить только о полученных благодеяниях и обожать пути Господни. Естественно, сосредоточиться на чувстве христианского смирения и милосердия. «Отец, прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим».
Приготовься, как если бы ближайшая Пасха была бы твоей последней Пасхой, ибо твои дни отныне будут коротки и тяжки.
30 мая 1880 г.
Вероятно, сам Бог смотрит снисходительно на иллюзии человеческого рода, когда они невинны. Дурен только грех, т. е. эгоизм и возмущение. Что касается до заблуждения, то человек так часто меняет их, что никогда не выходит из них. Если всегда путешествуешь, то всегда где-нибудь да находишься; так, всегда находишься на какой-нибудь точке истины, как путешествуя находишься на какой-нибудь точке земного шара. Только общество представляет некоторую полную единицу. Личность должна довольствоваться тем, чтобы быть одним из камней здания, одним колесом огромной машины, одним словом — поэмы. Личность составляет часть семьи, государства, человечества, всех тех особенных совокупностей, которые слагаются вследствие интересов, верований и стремлений. Души самые возвышенные суть те, которые сознают всемирную симфонию и добровольно сотрудничают в том огромном и сложном концерте, который называется цивилизацией.
Ум принципиально способен уничтожить все границы, которые он находит в себе: границы языка, национальности, религии, расы, эпохи. Но нужно сказать, что чем более он одухотворяется и обобщается, тем менее он действует на других. Влияние свойственно людям действия, а чтобы действовать, ничто так не полезно, как узость мысли, соединённая с энергией воли.
Полёт мысли огромен, но действует ничтожно. Умам узким нужен успех, слава и выгода; и довольно с них. Но зато они никогда не узнают восторгов свободы и радости путешествия в бесконечном. Впрочем, я не предпочитаю одних другим, потому что каждый счастлив только по своей природе. История совершается специалистами и борцами, но, я думаю, небесполезно и то, чтобы среди этой горячечной деятельности западного мира было бы хоть несколько браманизирующих душ.
1 июня 1880 г.
Стендаль (La charteuse de Parme). Произведение замечательное, типичное, образцовое (une t;te de ligne). Стендаль открывает ряд натуралистических романов, которые устраняют участие нравственного чувства и насмехаются над предполагаемой свободой. Личности безответственны; они управляемы своими страстями, и зрелище человеческих страстей доставляет радость неприятелю, пищу художнику. Стендаль — романист во вкусе Тэна, верный изобразитель, не волнующийся, не негодующий и которого всё забавляет: мошенник и мошенница, и честный человек, и честная женщина, но который не имеет ни веры, ни предпочтения, ни идеала. Литература здесь подчинена естественной истории, науке; она не составляет уже части «гуманитарных» знаний, она не делает уже человеку чести ставить его в особый ряд, она ставит его в ряд с муравьями, бобрами и обезьянами. И это-то нравственное равнодушие ведёт к безнравственности. Недостаток всей этой школы состоит в цинизме, презрении к человеку, принижаемому до скотины; это есть культ силы, беззаботность души, недостаток великодушия, уважения, благородства, которые видишь, несмотря на все уверения противного; словом, это антигуманность. Нельзя быть безнаказанно материалистом; люди бывают грубы при самой утончённой культуре. Свобода мысли, конечно, великая вещь, но сердечное благородство, вера в добро, способность к энтузиазму и самопожертвованию, жажда совершенства и святости ещё более прекрасны.
26 июня 1880 г.
Демократия существует; напрасный труд замечать её недостатки и смешные стороны. Всякий образ правления имеет свои недостатки, а этот образ правления есть всё-таки наименьшее зло. Он невыгоден для вещей, но зато полезен для людей, потому что развивает личность, приучая каждого заниматься множеством различных вопросов. Он производит дурную работу, но образует граждан. В этом его оправдание, и оправдание это не только может быть принято, но имеет серьёзное значение в глазах филантропа, потому что, в конце концов, общественные учреждения сделаны для человека, а не наоборот.
1 июля 1880 г. (3 часа)
Воздух тяжёлый. Я должен буду пересмотреть мои заметки, подумать о завтрашних экзаменах. Внутреннее отвращение, недовольство, пустота. Ворчит ли это совесть, вздыхает ли сердце, душа ли раздирается? Или это ощущение уходящей силы и теряющегося времени? Откуда эта смутная тревога? От печали ли, от сожаления ли о чём-нибудь или от предчувствия? He знаю, но это неясное подтачивание сердца опасно; оно наталкивает на быстрые и безумные решения. Хочется убежать от самого себя, заглушить надоедливый голос того, чего нам недостаёт. Недовольство — отец соблазнов. Нужно насытить невидимую змею, которая скрывается в глубине нашего колодца, насытить её, чтобы усыпить. И все эти тщетные порывы, о чём свидетельствуют они? О стремлении к чему-то. Мы жаждем бесконечного, любви, чего-то непонятного. Это счастье рычит в глубине пропасти. Это Бог зовёт или отмщает.
8 июля 1880 г.
He подобна ли жизнь духа жизни старых ив или неумирающих баобабов? He нарастает ли живой слой сознания на сотни умерших слов? Умерших? Это слишком сильно сказано, но, когда память ослабевает, прошедшее как будто уничтожено. Вспоминать, что знал что-либо, не есть богатство, но признак потери, это номер гравюры, которой уже нет на своём гвозде, заглавие книги, которой нет на её полке. Таков мой ум; он представляет собою пустую раму тысяч стёртых образов. Выработанный тысячами упражнений, мой ум есть только культура, но он почти ничего не удержал в своей сети. Он уже только форма без содержания. Он не имеет более знания, a есть только метод. Он этеризовался, алгебраизовался. Жизнь поступила с ним так, как смерть поступает обыкновенно с другими умами; она уже приготовила его к дальнейшей метаморфозе. С 16 лет я уже умел смотреть глазами слепого, которому только что сняли катаракты, т. е. отрешиться от воспитания зрения и уничтожить расстояния; теперь я могу смотреть на жизнь почти как из-за гроба; всё мне странно, я могу быть вне своего тела, вне своей личности, я обезличен, отрешён, улетучен — He сумасшествие ли это? — Нет. Сумасшествие составляет невозможность вернуться к своему равновесию после странствования в чуждых формах, после дантовских посещений невидимых миров. Сумасшествие состоит в невозможности судить самого себя и остановиться. Мне же кажется, что мои умственные превращения суть только философические опыты. Я не связан ни с одним из них. Но я не скрываю от себя того, что эти попытки утончают нить здравого смысла, потому что уничтожают предрассудки и личные интересы.
29 августа 1880 г.
Мне несколько лучше. Пользуюсь этим, чтобы возвратиться к оставленным упражнениям и прерванным привычкам. Но я состарился на несколько месяцев в одну неделю. Это очень заметно. Окружающие меня притворяются, что ничего не видят, но зеркало правдивее. Облегчение есть, но я всё-таки слышу накативший челнок судьбы и чувствую, как бегу к смерти, несмотря на остановки и короткие перемирия.
Самая прекрасная жизнь была бы подобна жизни реки, в которой водопады и пороги встречаются только при колыбели и усиливающееся течение которой образовалось бы из последовательного ряда богатых долин, переходящих каждая в озеро с разнообразными видами, одинаково живописными, и завершилась бы среди равнин старости соединением с океаном, в котором всё усталое находит своё успокоение. Мало таких полных, плодотворных и приятных существований. К чему желать их или сожалеть о них? Мудрее и труднее считать свой удел наилучшим и сказать себе, что всё-таки и самый лучший портной не может нам сделать кафтан более впору, чем наша кожа. «Настоящее имя счастья это довольство своей судьбой». Главное для каждого то, чтобы помириться с своей судьбой. Она не сдержала того, что обещала тебе, ты иногда сердился на неё, — довольно взаимных упрёков; надо заснуть примирённым.
9 сентября 1880 г.
Мне кажется, что с уменьшением моей деятельной силы я делаюсь более духовным. Всё делается для меня прозрачным, я вижу типы, основу существ, смысл вещей.
Все личные события представляются мне только частными опытами, только предлогами для размышления, фактами для обобщения их в законы, реальностями для преобразования их в мысли; жизнь представляется мне только документом, который надо растолковать, материей, которую надо одухотворить. Такова жизнь мыслителя; он всё более и более обезличивается с каждым днём. Если он соглашается испытывать и действовать, то только для того, чтобы лучше понимать. Если он чего хочет, то только для того, чтобы познать волю. Хотя ему приятно быть любимым и он не знает ничего столь радостного, но и тут ему кажется, что он только повод для явления, но не цель его. Он созерцает зрелище любви, и любовь остаётся для него зрелищем. Он не считает даже своего тела своим; он чувствует проходящим через себя жизненный вихрь, который дан ему на время только для того, чтобы он мог познавать вибрации мира. Он только мыслящий субъект и удерживает только форму вещей, он не приписывает себе никакой материальной собственности, он требует от жизни для себя только мудрости. Это настроение делает его непонятным для всего наслаждающегося, властвующего, захватывающего. Он воздушен, как привидение, которое можно видеть, но нельзя схватить. Он подобен человеку столько же, сколько тень Ахиллеса подобна живому человеку. Я ещё не умер, но уже привидение. Люди кажутся мне сновидениями, и я представляюсь им сном.
Категория времени уже не существует для моего сознания, и вследствие этого все перегородки, которые делают из жизни дворец в тысячу комнат, падают для меня, и я не выхожу из первобытного, одноклеточного состояния. Я знаю себя только в состоянии монады и чувствую, что мои способности вновь возвращаются в ту субстанцию, которую они индивидуализировали. Все выгоды животности, таким образом, откинуты, уничтожено также всё то, что дало изучение и культура... Птица вернулась в яйцо, организм в зародыш. — Это психологическое явление есть предварение смерти; оно изображает жизнь загробную, возвращение к тому, из чего я вышел, уничтожение среди привидений, падение в область «матерей» или, скорее, укрощение личности, которая, откинув все случайности, существует уже только в состоянии нераздельности, в состоянии точки, в состоянии потенции, в состоянии нуля, но нуля плодотворного... Это ничто есть всё. Этот «punctum» без измерений есть «punctum saliens».
Что такое жолудь, как не дуб, лишённый своих ветвей, листьев, ствола, корней, т.е. всех своих приспособлений, всех форм, всех особенностей, но который сосредоточен в своей сущности, в своей производительной силе, который вновь может завоевать всё, что она отбросила. Это обеднение, стало быть, есть только внешнее сокращение.
Возвратиться к своей вечности это-то и значит умереть, но не уничтожиться, это значит возвратиться к своей потенциальности.
[Сравн.: «Круг чтения», 7 декабря, тема «Бессмертие»: 42, 315; «На каждый день», 30 октября, тема «После смерти»: 44, 253. Редакция незначительна.]
9 октября 1880 г. (Кларенс).
Прогулка. Умиление и восхищение. Это было так прекрасно, так ласкающе, так поэтично, так матерински любовно. Лучи, листья, небо, колокола говорили мне: соберись с силами и мужайся, бедный страдалец. Это времена благоволения; здесь забвение, тишина, покой. Ошибки и страданья, беспокойства и сожаления, заботы и обиды — всё это одно и то же бремя. Мы не различаем; мы облегчаем все страданья, мы распространяем мир, мы утешение. Привет усталым, огорчённым, больным, грешникам, всему тому, что страдает сердцем, совестью и телом. Мы благодетельный источник, пейте и живите! Бог повелевает восходить своему солнцу над праведными и неправедными. Его щедрость не жалеет благодеяний, не взвешивает их, как меняла, и не нумерует, как кассир. Приходите! всем достанет!
29 октября 1880 г.
...Как узнать про человека, что он такое? Прежде всего по его поступкам, но и ещё по чём-то таком, что познаётся только интуицией. Душа судит о душе по своему сродству с нею, через слова, через молчание, через поступки, через взгляды.
Положим, что этот критерий субъективен и подвержен ошибке, но, во-первых, y нас нет более верного, a потом, точность приближения соответственна нравственному развитию судящего.
Мужество знает толк в мужестве, доброта в доброте, благородство в благородстве, прямодушие в прямодушии. Истинно знаешь только то, что потерял, т. е. то, о чём сожалеешь: напр., детская чистота, стыдливость девственницы, незапятнанность чести. Настоящий судья, стало быть, бесконечная доброта, a после неё возрождённый грешник или святой, человек, прошедший испытания, или мудрец. Справедливо, что наш пробный камень тем более чувствителен, чем менее мы дурны.
22 ноября 1880 г.
Как победить дурное расположение духа? Прежде всего смирением: когда знаешь свою слабость, зачем раздражаться, когда другие указывают на неё? Это нелюбезно с их стороны, но они правы. Потом рассуждением: в конце концов останешься всё-таки тем, чем был, и если слишком уважал себя, то приходится только изменить о себе мнение; неучтивость ближнего оставляет нас такими, какими мы и были. Главное же — прощением: есть только одно средство не ненавидеть тех, которые делают нам зло и обиды, это делать им добро; победить свой гнев добротою; их не переменишь этой победой над своими чувствами, но обуздаешь себя. Недостойно возмущаться за себя; должно возмущаться только ради общих и важных дел.
[Отрывок, посвящённый дорогой для Л.Н. Толстого теме усилий личного нравственного совершенствования человека. Несомненный фаворит Толстого, и, как положено фавориту – помещён во все три главных антологии Льва Николаевича: в «Круге чтения» – под 8 июля в теме «Любовь»: 41, 484; в книге «На каждый день» – под 11 сентября, в теме «Грех недоброжелательства»: 44, 150; в книге «Путь жизни» – в отделе XI «Гнев», в главе 6 «Борьба с грехом недоброжелательства»: 45, 172.
Во всех трёх книгах слова «смирение», «рассуждение» и «прощение» выделены Толстым курсивом, как обозначения этапов обуздания гнева и недоброжелательства. Кроме того, во всех трёх случаях из отрывка исключено последнее предложение, в котором Амиель как будто оправдывает гнев «ради общих и важных дел». Оно не могло не показаться Толстому отвратительным, уничтожающим всю силу и всё значение сказанного в отрывке. Подобно тому как уничтожает силу запрета на гнев приписка в евангелии к словам Христа слова «напрасно»: «не гневайтесь напрасно». В практической повседневной жизни человек не способен объективно рассудить, «напрасен» ли будет его гнев, или «праведен». Так же невозможно человеку объективно решить вопрос о том, достаточно ли важно поддерживаемое им общее дело, чтобы предаваться ради него недоброжелательству. Или – всегда борись, ориентируясь на закон Бога, или – уступай, чтя лишь мирские предания своей эпохи и своей социальной среды…
Прекрасна на наш взгляд редакция отрывка, выполненная Львом Николаевичем для книги «Путь жизни». Философское рассуждение превращено здесь в совет нравственного наставника, – и так же, как честный и мудрый совет, максимально сжато и ясно:
«Меня осуждают, мне неприятно, тяжело. Как избавиться от этого неприятного чувства? Прежде всего смирением: когда знаешь свою слабость, не будешь сердиться за то, что другие указывают на неё. Это нелюбезно с их стороны, но они правы. Потом рассуждением: в том, что в конце концов останешься всё-таки тем, чем был, и если слишком уважал себя, то приходится только изменить о себе мнение. Главное же – прощением: есть только одно средство не ненавидеть тех, которые делают нам зло и обиды, – это делать им добро; если и не переменишь их, то зато себя обуздаешь» (45, 172). ]
Ничем нельзя вынуть из раны отравленного жала, как только бальзамом молчаливого и предупредительного милосердия. Зачем позволять себе раздражаться на человеческую злобу, на неблагодарность, на зависть, даже на коварство? Перекорам, жалобам, наказаниям никогда не будет конца. Самое простое — стереть всё. Обиды, упрёки, вспышки смущают душу. Человек любит судить, но есть одно зло, которое он не призван наказывать, — это то, которое сделано ему самому. Надо иметь средство исцеления против этих зол. Огонь очищает всё.
Моя душа подобна огню,
Который пожирает и окуривает
Всё то, что бросают на него,
Чтобы заглушить его.
[Сравн.: «Круг чтения», 8 июля, тема «Любовь»: 41, 485.
С этим отрывком из той же записи от 22 ноября 1880 года случилось то же, что с предыдущим: Толстой не нашёл, что исправлять в основной его части. И содержательно, и по форме оно представилось ему безупречным, но… вплоть до оговорки о том, что человек не призван наказывать только то зло, которое сделано ему.
То есть: бороться за душу ближнего, противостоять его заблужде-нию, Амиель считает возможным только тогда, когда тот грешит в отношении кого-то третьего… с чего бы? Здесь не важно то, кто этот третий, кто «жертва»: истинная жертва всегда – тот, кто совершает или готов совершить ошибку, грех. Защитить надо – его (или её). Именно защитить, а не убить, искалечить или сплавить в тюрьму. Вот почему важен внутренний запрет сопротивляющегося злу на ответное зло, на насилие. Тем более – на насилие, возведённое в систему т.н. «юридического», «правового», «судебного» принуждения. В лже-христианском мире лукавцы (слуги лукавого) оправдывают «рациональное принуждение», то есть системно организованное зло, его эффективностью. На самом же деле наплодить в обществе людей с безоружным против соблазнов умом и невоспитанным сердцем, а то и развращённых созданными для них этим же обществом условиями, а потом расправляться с ними поодиночке, ситуативно, по случаю того или иного «преступления» – вот это как раз самое неэффективное в борьбе со злом! Как вшивость лечится чистотой одежд и тела, а не выколупыванием из них вшей поодиночке, так и душегубцы, совратители, террористы, жулики, политики, попы или эксплуататоры чужого труда вылечиваются нравственной чистотой общественного организма, а не расправой, тюрьмой, казнью или революцией.
Убрал Толстой из своей редакции и амиелеву метафору великодушия как очистительного пламени, и иллюстрирующее её четверостишие. Метафорам, иносказаниям – не место в учительных текстах для простого народа, а стихов, за исключением особенно гениальных или идейно близких, Толстой в принципе не любил. ]
28 декабря 1880 г.
Есть два способа определения людей, которых мы знаем: первый — утилитарный, по отношению к себе, различает друзей, врагов, симпатичных, индифферентных, тех, которые могут оказать нам услугу или повредить нам; второй — беспристрастный, распределяет их по их внутреннему значению, по их собственным качествам или недостаткам, вне чувств, которые они питают к нам или которые мы испытываем к ним.
Мне свойствен второй род определения. Я оцениваю людей менее по привязанности, которую они оказывают мне, чем по их личному совершенству, и не смешиваю благодарность с уважением. Хорошо, когда можно соединить оба чувства. Но тяжело быть обязанным благодарностью, не испытывая уважения и уверенности.
Ревность — ужасное чувство. Оно кажется похожим на любовь — только совершенно противоположно ей. Ревность не ищет блага любимого предмета, но хочет его зависимости и своего торжества. Любовь есть забвение своего «я»; ревность есть самая страстная форма эгоизма, усиление своего деспотического, требовательного, тщеславного «я», которое не может себя забыть и подчинить. Контраст совершенный.
Притупление совести узнаётся по неспособности к негодованию, которую не нужно смешивать ни с кротостью любви, ни с сдержанностью смирения.
Человек есть страсть, которая приводит в движение волю, которая в свою очередь толкает ум, и, таким образом, органы, которые как будто предназначены для служения уму, суть только орудия страсти. Детерминизм прав для людей толпы; свобода внутренняя существует только как исключение и только вследствие победы над собой. Даже тот, кто вкусил свободы, свободен только промежутками и порывами. Истинная свобода не есть, таким образом, постоянное состояние, она не есть неразрушимое и всегда одинаковое свойство. Человек свободен только в той мере, в которой он не обманут собой, своими изворотами, своими инстинктами, своей природой. Человек свободен только вследствие критики и энергии, т. е. вследствие отречения от себя и управления самим собой. Так что мы в рабстве, но способны к освобождению; мы связаны, но способны развязаться...
Материальные результаты суть только позднее проявление невидимых деятельностей. Ядро уже давно вылетело, когда звук выстрела доходит до нас. Решающие события совершаются в мысли.
[Сравн.: «Круг чтения», 9 августа, тема «Зло»: 42, 558. ]
Жизнь должна быть рождением души, выделением высшего вида реальности. Животное должно быть очеловечено, плоть должна быть претворена в дух; физиологическая деятельность должна быть превращена в мысль, в сознание, в разум, в справедливость, в великодушие, как свеча в свет и теплоту. Слепая, жадная, эгоистическая природа должна быть превращена в красоту, в благородство. Эта высшая алхимия оправдывает наше присутствие на земле; в этом наша миссия и наше достоинство.
[Сравн.: «Круг чтения», 22 мая, тема «Рост»: 41, 340.
Выставленные Амиелем идеалы «красоты» и «благородства» в редакции Толстого отсутствуют: вне зависимости от их окказиональной семантики в тексте Амиеля, у читателя «Круга чтения» они могли бы вызвать ассоциации с ценностями нехристианского жизнепонимания. ]
Отказаться от счастья и думать только о долге, заменить желания сердца совестью: в этом добровольном мученичестве есть своё благородство. Наша природа противится нам в этом, но лучшее нашего «я» покоряется этому. Надежда на справедливость — признак болезненной чувствительности. Нужно уметь обходиться без неё. Мужественный характер состоит в этой независимости. Пусть свет думает о нас что хочет, это его дело. Если он намерен поставить нас на наше место только после нашей смерти или даже никогда, в этом его право. Наше же — в том, чтобы поступать так, как будто отечество признательно, как будто мир правосуден, как будто общественное мнение проницательно, как будто жизнь справедлива, как будто люди добры.
Даже смерть может быть согласием и потому нравственным поступком. Животное издыхает, человек должен вручить свою душу её Создателю.
[Волшебная жемчужинка в дневнике Амиеля! И, конечно, – абсолютный фаворит Льва Николаевича. В «Круге чтения» мысль эта особо выделена Толстым и печатается курсивом.
В трёх печатных строчках – глубочайший ответ на множество важнейших для Толстого и для всякого христианина вопросов. Это афористичное чудо – и о торжестве жизни духа, и о слиянии человеком своей воли с волей Бога, и о преодолении страха смерти, даже о просветлённой радости, которая может ей сопутствовать…
Хотя почему – «даже»? Вот именно это словцо – единственное, к чему Толстой придрался в этих трёх строках и – убрал его… как нечаянную соринку с драгоценного камня. В остальном он предоставил читателям «Круга чтения» и «На каждый день» наслаждаться его великолепием без дополнительной огранки… («Круг чтения», 26 мая, тема «Смерть»: 41, 346; «На каждый день», 29 декабря, тема «Нет смерти»: 44, 384). А вот в книге «Путь жизни» Толстой поместил афоризм Амиеля тоже в посвящённом теме смерти XXIX-м разделе, в главе с характерным названием: «Смерть не может быть страшна человеку, живущему духовной жизнью», и – не вынесла душа прозаика! – умудрился-таки ещё подсократить:
«Смерть может быть согласием и потому нравственным поступком. Животное издыхает, человек отдаёт себя Богу» (45, 454). ]
5 января 1881 г.
Если б я имел здоровье, я был бы человеком самым свободным из тех, кого знаю, хотя немного сухости для моего сердца было бы необходимо, чтобы увеличить мою независимость.
He будем преувеличивать: моя свобода только отрицательна. Никто не имеет преимущества передо мной, но многие вещи мне менее возможны, и, если б я имел глупость желать их, границы свободы сделались бы очевидны. От этого-то я остерегаюсь желать этих вещей и вызывать их в моём уме. Я хочу только того, что я могу, и, таким образом, я не толкаюсь ни о какую стену, я уничтожаю даже загородку моего луга. Я хочу, скорее, немного меньше того, что могу, чтобы даже не касаться препятствия. Отречение есть охрана своего достоинства. Отнимем y себя всё, и ничто не будет y нас отнято. Тот, кто отдал свою жизнь, может смотреть в лицо смерти. Что же ещё может она отнять y него? Отречение от желаний и исполнение закона любви — в этом метод Будды, в этом всё искусство «освобождения»...
Моё горло мучает меня. Идёт снег. Таким образом, я завишу от природы и Бога. Но я не завишу от человеческого каприза: в этом-то и дело. Правда, мой аптекарь может сделать ошибку и отравить меня, мой банкир — привести меня к суме, так же как и землетрясение — разрушить мой дом, без вознаграждения. Полная независимость есть, стало быть, только чистая химера. Ho y меня есть независимость относительная, независимость стоика, который уходит в свою волю и запирает двери этой крепости.
«Поклянёмся, исключая Бога, не иметь господина».
Клятва древней Женевы останется моим девизом.
10 января 1881 г.
Огорчаться недоброжелательством, неблагодарностью, равнодушием людей — это слабость, к которой я склонен. Мне тяжело быть непонятым, осуждаемым, y меня нет сурового мужества, моё сердце уязвимо более чем следует. A впрочем, мне кажется, что я притерпелся к этому и закалился. Недоброжелательство людей тревожит меня теперь меньше, чем бывало. Обязан ли я этому философии? Есть ли это следствие возраста? Или, может быть, причина этому просто в уважении и расположении, которые были мне оказаны? Мне нужны были эти доказательства для того, чтобы внушить мне какое-либо уважение к самому себе. Иначе я легко поверил бы в своё ничтожество и незначительность всех моих попыток. Для робких успех необходим. Одобрение нравственно возвышает, похвала — крепительный эликсир.
Мысль видит дело, как оно есть, т. е. что положение плохо, но животное протестует. Оно верит в зло, только когда оно наступило. Так ли дурно это? Вероятно, нет. Природа хочет, чтоб живущий защищался от смерти; надежда сливается с любовью к жизни; это — органический импульс, принимающий иногда религиозный характер.
Кто знает, Бог может спасти нас, сделать чудо. При том никогда нельзя быть уверенным, что нет какого-нибудь исцеляющего средства. Неизвестность есть убежище надежды. Сомнительное считается между благоприятными шансами. Бренность смертных хватается за всякую опору. Как упрекать её в этом. Даже со всею этою помощью она не избегает бедственности и отчаяния. Лучшее решение всё-таки покоряться необходимости, называя её отеческою волею Бога, и нести мужественно свой крест во имя властителя судеб. Воин не рассуждает о полученном приказе, он повинуется и умирает без ропота. Если бы прежде исполнения он хотел знать, на что служит его жертва, он не знал бы покорности.
Я думал сегодня утром, что очень немногие люди имеют понятие о наших физических немощах, что наши близкие и даже наши самые интимные друзья не знают наших бесед с Царём ужасов. Есть мысли, которых нельзя поверить другому, есть печали, которые не разделяются. Нужно даже из великодушия скрывать их. Мечтаешь один, страдаешь один, умираешь один, один и занимаешь дом из шести досок. Но не запрещено открывать Богу это одиночество. Суровый монолог делается, таким образом, диалогом, отвращение становится покорностью, отречение становится миром, болезненная раздавленность вновь делается свободой.
«Желать того, чего хочет Бог, есть единственное знание, которое даёт нам покой».
Каждый из нас испытывает много противоположных побуждений, но как только он узнаёт, в чём закон и подчиняется закону, всё хорошо.
О, если бы, как умирающий мудрец, мы бы могли сказать с миром: «Я слишком долго блуждал, искал, я обманывался. Всё благо; мой Бог обнимает меня».
29 января 1881 г.
Ужасная ночь. Боролся три или четыре часа подряд с моими удушителями и заглянул близко в глаза смерти... Ясно, что меня ожидает задушение, асфикция. Я задохнусь.
Я бы не избрал этой смерти; но когда нет выбора, нужно только покориться. Спиноза умер перед доктором, которого он приказал позвать. Ты должен свыкнуться с мыслью умереть внезапно, в одну прекрасную ночь, удушённый своим ларингитом. Это не то, что последний вздох патриарха, окружённого своим коленопреклонённым семейством. В этом нет красоты, величия и поэзии; но стоицизм состоит в отречении. Abstine et sustine. [лат. Воздерживайся и выдерживай. Приписываемый Эпиктету девиз стоиков, имевший смысл: терпи невозмутимо житейские неприятности и воздерживайся от удовольствий, чтобы сохранить внутреннюю свободу. – Р.А.].
Ты ведь знаешь, что y тебя есть верные друзья; так лучше не мучить их. Стоны и волнения только делают ещё более трудным великий переход. Одно слово заменяет все другие: да будет воля Бога, но не моя! Лейбница провожал к кладбищу только один его слуга. В одиночестве одра смерти и гроба нет ничего дурного. Таинственное непередаваемо. Диалог между душою и Царём ужасов не требует свидетелей. Живым хочется поклониться тому, кто уходит. И потом, никто не знает наверно, что ему предназначено. Что будет, то будет. Наше дело только сказать «аминь».
4 февраля 1881 г.
Испытываешь странное ощущение, ложась в постель с мыслью, что не увидишь, может быть, завтрашнего дня. Это ощущение было y меня вчера довольно сильно, и между тем вот я жив. Чувство чрезвычайной бренности способствует покорности и уничтожает всякое честолюбие:
«Оставьте долгую надежду и обширные замыслы».23 января 1881 г.
В эту минуту я чувствую себя хорошо, и мне кажется странным, что я приговорён, и так скоро. Жизнь не чувствует никакого родства со смертью. Поэтому-то, вероятно, всегда и возрождается в нас машинальная, инстинктивная надежда, затемняющая разум и заставляющая сомневаться в верности научного решения. Жизнь стремится упорствовать в бытии. Она повторяет, как попугай в басне, даже в ту минуту, когда его душат: «Это, это ничего».
[Сравн.: «Круг чтения», 10 октября, тема «Смерть»: 42, 135 – 136; «Путь жизни», Отдел XXIX. Смерть. 3. Смерть не может быть страшна человеку, живущему духовной жизнью: 45, 452.
Занимательно подследить, как в редакциях этого отрывка отразились личные убеждения и предпочтения Льва Николаевича. Наукообразные эпитеты «машинальная», «инстинктивная» в приложении к существительному «надежда» наверняка заставили его похряхтеть и поморщиться – и он заменил их на «смутная». И то же скептическое отношение Толстого к науке и научной фразеологии привело к замене «научного решения» на «знание о неизбежности смерти». ]
Мысль видит дело, как оно есть, т. е. что положение плохо, но животное протестует. Оно верит в зло, только когда оно наступило. Так ли дурно это? Вероятно, нет. Природа хочет, чтоб живущий защищался от смерти; надежда сливается с любовью к жизни; это — органический импульс, принимающий иногда религиозный характер.
Кто знает, Бог может спасти нас, сделать чудо. При том никогда нельзя быть уверенным, что нет какого-нибудь исцеляющего средства. Неизвестность есть убежище надежды. Сомнительное считается между благоприятными шансами. Бренность смертных хватается за всякую опору. Как упрекать её в этом. Даже со всею этою помощью она не избегает бедственности и отчаяния. Лучшее решение всё-таки покоряться необходимости, называя её отеческою волею Бога, и нести мужественно свой крест во имя властителя судеб. Воин не рассуждает о полученном приказе, он повинуется и умирает без ропота. Если бы прежде исполнения он хотел знать, на что служит его жертва, он не знал бы покорности.
Я думал сегодня утром, что очень немногие люди имеют понятие о наших физических немощах, что наши близкие и даже наши самые интимные друзья не знают наших бесед с Царём ужасов. Есть мысли, которых нельзя поверить другому, есть печали, которые не разделяются. Нужно даже из великодушия скрывать их. Мечтаешь один, страдаешь один, умираешь один, один и занимаешь дом из шести досок. Но не запрещено открывать Богу это одиночество. Суровый монолог делается, таким образом, диалогом, отвращение становится покорностью, отречение становится миром, болезненная раздавленность вновь делается свободой.
«Желать того, чего хочет Бог, есть единственное знание, которое даёт нам покой».
Каждый из нас испытывает много противоположных побуждений, но как только он узнаёт, в чём закон и подчиняется закону, всё хорошо.
О, если бы, как умирающий мудрец, мы бы могли сказать с миром: «Я слишком долго блуждал, искал, я обманывался. Всё благо; мой Бог обнимает меня».
29 января 1881 г.
Ужасная ночь. Боролся три или четыре часа подряд с моими удушителями и заглянул близко в глаза смерти... Ясно, что меня ожидает задушение, асфикция. Я задохнусь.
Я бы не избрал этой смерти; но когда нет выбора, нужно
только покориться. Спиноза умер перед доктором, которого он приказал позвать. Ты должен свыкнуться с мыслью умереть внезапно, в одну прекрасную ночь, удушённый своим ларингитом. Это не то, что последний вздох патриарха, окружённого своим коленопреклонённым семейством. В этом нет красоты, величия и поэзии; но стоицизм состоит в отречении. Abstine et sustine. [лат. Воздерживайся и выдерживай. Приписываемый Эпиктету девиз стоиков, имевший смысл: терпи невозмутимо житейские неприятности и воздерживайся от удовольствий, чтобы сохранить внутреннюю свободу. – Р.А.].
Ты ведь знаешь, что y тебя есть верные друзья; так лучше не мучить их. Стоны и волнения только делают ещё более трудным великий переход. Одно слово заменяет все другие: да будет воля Бога, но не моя! Лейбница провожал к кладбищу только один его слуга. В одиночестве одра смерти и гроба нет ничего дурного. Таинственное непередаваемо. Диалог между душою и Царём ужасов не требует свидетелей. Живым хочется поклониться тому, кто уходит. И потом, никто не знает наверно, что ему предназначено. Что будет, то будет. Наше дело только сказать «аминь».
4 февраля 1881 г.
Испытываешь странное ощущение, ложась в постель с мыслью, что не увидишь, может быть, завтрашнего дня. Это ощущение было y меня вчера довольно сильно, и между тем вот я жив. Чувство чрезвычайной бренности способствует покорности и уничтожает всякое честолюбие:
«Оставьте долгую надежду и обширные замыслы».
Работа на отдалённый срок кажется абсурдом; живёшь только со дня на день.
Если не мечтаешь о том, чтобы видеть перед собой свободные пятилетия, год, месяц, если рассчитываешь только на 12 часов и если ближайшая ночь есть уже угроза и неизвестность, то очевидно, что отказываешься от искусства, науки и политики, довольствуясь диалогом с самим собой, возможным до самого конца. Внутренний монолог есть единственное утешение осуждённого на смертную казнь, которая отсрочив-ется. Он уходит сам в себя, он не проявляется более наружу, он поглощён самоанализом. Он не действует более, он созерцает. Он ещё пишет тем, которые ждут этого от него, но отказывается от публики и уходит сам в себя. Как заяц, он возвращается умирать на своё логово, и это логово есть его совесть, его мысль. Также и его задушевный дневник. До тех пор, пока он может держать перо и пока y него есть минута уединения, он сосредоточивается перед этим отзвуком самого себя и беседует с своим Богом. Но это не нравственное испытание, не акт раскаяния, не призывный крик. Это только «аминь покорности»... «Дитя моё, отдай Мне твоё сердце».
7 февраля 1881 г.
Сегодня прекрасное солнце. Но я имею едва достаточно силы, чтобы замечать его. Восхищение, радость предполагают хоть некоторое облегчение. Тяжесть головы утомляет шею, тяжесть жизни удручает сердце; это не эстетическое состояние... Я думал о разных вещах, которые надо бы написать, но самое оригинальное, самое лучшее в нас самих то, что мы чаще всего теряем. Мы откладываем на будущее, которое никогда не приходит. Omnis mоrіаr. [лат. – Все смертны. ]
14 февраля 1881 г.
Предполагая, что твои недели сочтены, что должен ты делать, чтобы быть в согласии с миром? Возвратить каждому то, что ему приходится, отдать дань справедливости, благоразумию, доброте, оставить по себе добрую память. Попробуй не забыть ничего полезного и никого из тех, которые чего-нибудь ожидают от тебя.
18 февраля 1881 г.
Погода туманная. Ночь провёл довольно хорошо. Продолжаю, однако, худеть. Одним словом, коршун даёт мне отдых, но парит над своей добычей. Возможность вернуться к моим служебным занятиям представляется мне сновидением...
He имея в эту минуту впечатлений могилы, я чувствую себя навсегда пленником, хроническим больным. Это колебательное состояние, которое не есть ни жизнь, ни смерть, имеет свою прелесть, потому что, если оно и есть отречение, оно позволяет мыслить. Это мечтание без страданий, тихая сосредоточенность. Окружённый привязанностями и книгами, я плыву по течению времени так же, как я скользил, бывало, иногда по каналам Голландии, без сотрясения и без шума. Мне кажется, что я ещё в трекшюте. Едва слышишь иногда приятное журчание воды, рассекаемой бичевой баркой, или звук копыта гужевой лошади, которая бежит по песчаной дорожке. Путешествие при этих условиях имеет нечто фантастичное. He уверен, что ещё существуешь и держишься на земле. Вспоминаешь об умерших душах, о тенях бегущих во мраке, об inania r;gna... [лат. – обитель теней.] Я смотрю, как проходят мои впечатления, мои мечты, мои мысли, мои воспоминания, как человек, который отрёкся от всего.
22 февраля 1881 г.
Типическое движение ума мы видим в астрономии: нет неподвижности, но и нет поспешности; орбиты, циклы, стремительность, но гармония; движение, но порядок; всё весит и противовесит; получает и отдаёт свет. Эта космическая и божеская деятельность не может ли сделаться нашей? Взаимопоедание борьбы всех против всех есть ли высший тип равновесия? Мне противно думать так. Фаза дикости принята некоторыми теоретиками за последнюю форму. Тут должна быть ошибка. Справедливость восторжествует, a справедливость не есть эгоизм. Независимость и доброта должны провести равнодействующую, которая и будет требуемой линией.
14 марта 1881 г.
Мериме умер от той же болезни, которая и меня мучает. Бронхит и астма, отсюда инэдия и, наконец, истощение. Он также испытал мышьяк, зимы в Каннах, сжатый воздух. Всё было бесполезно. Удушение и истощение убили автора Colomba. Hic tua res agitur... [лат. – Это касается и тебя…] Небо мрачное и серого цвета моих мыслей. Впрочем, и неизбежное имеет свою прелесть и своё успокоение. Блуждание иллюзий, неопределённость желаний, скачки надежды уступают место тихой покорности. Находишься в каком-то загробном положении. Кстати, на этой неделе должен быть куплен мой уголок могильной земли в Оазисе. Всё подходит к концу, festinat ad eventum [лат. – так не будем его откладывать].
16 марта 1881 г.
Печальная ночь, утро грустное... Два конька доктора, дигиталис и бром, оказываются бессильными. Присутствую при своём разрушении с усталостью и скукой. Сколько усилий, чтобы помешать умереть! Эта самозащита опротивела мне.
Бесполезная и беспрестанная борьба унижает мужественную природу. Льву противнее всего бороться с мошкарой. Человек естественный чувствует то же. Но человек духовный должен выучиться кротости и долготерпению. Неизбежное – это воля Бога. Хотелось бы другого, но надо принять тот жребий, который предназначен нам. Впрочем, одно только нужно:
Сохрани в моём сердце веру в Твою святую волю
И делай со мной, Боже, всё, что Ты хочешь.
19 марта 1881 г.
Отвращение, уныние. Сердце разрушается. A между тем какие нежные заботы, какое участие окружает меня... Но без здоровья к чему всё это? Зачем всё то, что дано мне? Для чего нужны были испытания Иова? Чтобы созрело его терпение, изощрилась его покорность.
Так выйдем же из самих себя, стряхнём это уныние. Будем думать не о том, что потеряно, но о всём том, что могло бы ещё потеряться. Сознаем наши преимущества. Постараемся быть достойными этих милостей.
21 марта 1881 г.
Эта жизнь больного слишком эпикуреична. Вот уж пять недель, как я только то и делаю, что выжидаю, ухаживаю за собой, развлекаюсь, и пресыщение уже тут. Мне недостаёт труда. Труд есть приправа существования. Без цели, без усилия жизнь приторна. Леность приводит к вялости; вялость рождает отвращение. К тому же ещё весенняя тоска. Это пора неопределённых желаний, глухих недомоганий, беспредметных вздохов. Видишь сны наяву. Ищешь чего-то ощупью. Стремишься к тому, что не имеет имени, если только то, к чему стремишься, не есть счастье или смерть.
28 марта 1881 г.
Я не могу работать; мне трудно существовать. Посвятим несколько месяцев баловству дружбы, потому что и это хорошо; но потом? He лучше ли уступить место живучему, деятельному, производительному?
Хотел ли бы я ещё жить? He думаю. Я желаю одного — здоровья, не страдания. Но так как это невозможно, то остальное мне ненужно. Пресыщение. Усталость. Отречение. «Укротим наши сердца терпением».
10 апреля 1881 г. (Воскресение).— Визит к X... Она перечла мне письма 1844 — 1845 годов, писанные моей рукой. Сколько обещаний и какой ничтожный результат! Так вот что мы такое! Я потеряюсь в песках, как Рейн, и приближается час, когда моя струйка воды исчезнет.
Маленькая прогулка при заходящем солнце, впечатление рассеянных лучей и грозовых туч. Зелёная дымка обволакивает все деревья.
«И всё уж возрождается, и уже боярышник
Видел пчелу, прилетавшую на его цветок».
Мне всё это уже чуждо.
(В тoт же день). Как обманчивы желания!.. Судьба сокрушает нас двояким образом: отказывая нам в наших желаниях и исполняя их. Но тот, кто хочет только того, чего хочет Бог, избегает обеих бед. «Всё обращается к его благу».
[Сравн.: «Круг чтения», 12 августа, тема «Слияние своей воли с волей Бога»: 41, 568; «На каждый день», 30 сентября, тема «Жизнь – благо»: 44, 187. ]
15 апреля 1881 г.
Сегодня страстная седмица, праздник скорби. Мне знакомы дни предсмертной тоски и ночи агонии. Будем нести смиренно свой крест. У тебя нет более будущего. Твоя обязанность привести в порядок настоящее и твои дела. Старайся хорошо кончить, потому что тебе нечего более предпринимать, нечего и продолжать.
19 апреля 1881 г.
Изнеможение... Полная слабость плоти и духа...
Как трудно жить, о, моё усталое сердце!
. . . . . . . . . . . .
<Анри Амиель скончался 11 мая 1881 г. в возрасте 59 лет>.
КОНЕЦ
(комментарии Р. Алтухова – в [] скобках)
(1) Французская колыбельная песенка.
(2) Французский писатель Хименес Дудан (1800 - 1872).