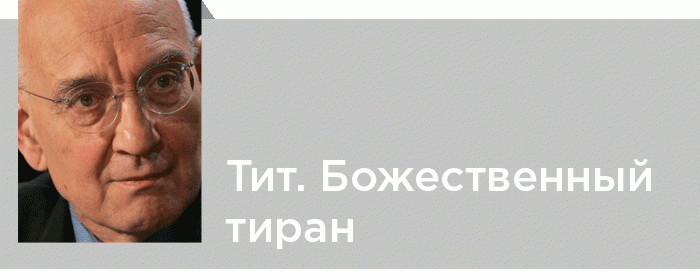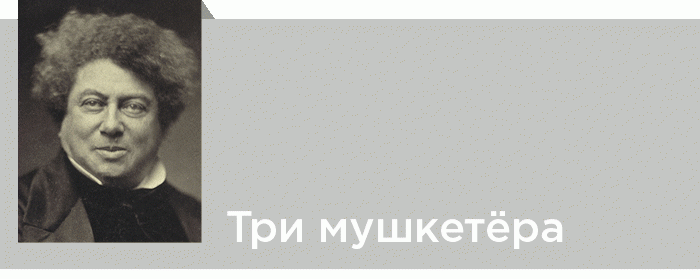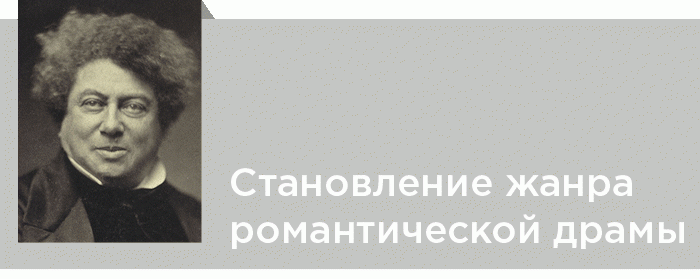Дюма, или Театр и воображение
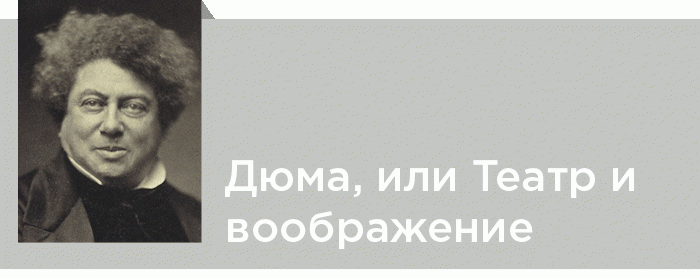
А. Васильев
Я черпаю свои сюжеты в мечтах.
Александр Дюма
Эта заметки озаглавлены по образцу знаменитой в свое время пьесы Александра Дюма «Кин, или Беспутство и гениальность» — комедии из жизни великого английского актера-трагика Эдмонда Кина. В запутанной интриге этой комедии есть, между прочим, такой мотив:
Жила-была некая молоденькая англичанка Энн, которой не мил был белый свет. Черная меланхолия снедала ее; казалось, Энн умирает. Ни на что не надеясь, родные отвезли ее в театр. И тут игра беспутного гения Кина сделала то, что отчаялись сделать врачи. Театр оказался лучшим из эскулапов. Энн воскресла. Энн полюбила, Энн захотела жить...
Так, пусть наивно, но зато искренне выразил Дюма свой непреходящий восторг перед искусством, веру в художника, помогающего людям жить. Но почему же именно Кин воплощал для него идеал художника-чудодея, Художника с большой буквы? Не будем задумываться и гадать — этому есть простое биографическое объяснение.
...В 1827 году Кин приехал с гастролями в Париж. А незадолго перед тем впервые приехал в Париж из провинции и двадцатипятилетний Александр Дюма. Сын наполеоновского генерала, внук чернокожей рабыни из Сан-Доминго, этот «голубоглазый квартерон» — простодушный гигант с младенческой улыбкой — сразу очаровал своих парижских знакомых. Он был самоуверен, но «казался огромным ребенком — таким наивным и добрым было его лицо». Многих смешило его невежество и фанфаронство, но вера его в свою звезду внушала невольное почтение. Как некогда юноша Д’Артаньян, он ничего не умел и поэтому готов был взяться за что угодно, только никак не мог решиться — за что.
Когда он увидел Кина в роли Отелло («это был дикий зверь, полутигр, получеловек»), он ни слова не понимал по-английски, но сила страстных хриплых интонаций, резкий рисунок жестов, натурализм в сценах агоний и страстей — вся бурная эстетика сыгранного в романтическом ключе Шекспира — сразу подсказали ему: «Вот оно!» Кин — это же олицетворение его темперамента! Театр — воплощение его мечты!..
Решение родилось мгновенно: он будет писать для театра. Наспех подыскав во «Всемирной биографии» несколько подходящих сюжетов, Дюма сел за сочинение исторических драм. И тут произошло что-то вроде чуда, потому что уже вторая их них — «Двор Генриха III» — имела феноменальный успех у пресыщенных парижан. В одно прекрасное утро безвестный провинциал проснулся знаменитым.
И долгие годы с тех пор Дюма царил на парижских подмостках. Среди драматургов-романтиков — а тогда все романтики были драматургами — равным себе он считал одного Гюго. И так же считала публика, ошеломленная каскадом невероятных «действ», то смешных, то «роковых» и кровавых, но всегда живых, умелых, ослепительных: «Антони», «Нельская башня», «Ричард Дарлингтон», тот же «Кин»... Однако в отличие от драм Гюго, драмы Дюма были недолговечны; сейчас их без улыбки и читать, пожалуй, нельзя. Время их быстро миновало — и тут надо отдать справедливость Дюма: он первым почувствовал, что драматург в нем умирает. С начала сороковых годов он больше не пишет пьес, хотя и не отказывается при случае для денег переработать в пьесу какой-нибудь свой роман, — и в Париже время от времени с неизменным аншлагом идёт то восьмичасовой (!) спектакль «Три мушкетера», то спектакль «Граф Монте-Кристо» — два вечера подряд...
Для Дюма наступила пора романов. Почему это произошло, ведь раньше он и не думал ни о какой перемене амплуа? Потому, наверное, что он исчерпал небогатый репертуар своих драматургических средств. Потому что вообще романтическая драма шла к закату. Потому что он угадал, что поприще романиста позволит ему развернуться шире. Много было различных причин. Удивительно здесь другое: Дюма-романист сохранил свою влюбленность в театр, веру в его законы, в театральное построение интриги, в быстрое чередование глав-картин, в чисто театральный эффект концовок — отточенных и блестящих реплик «под занавес», во все, что составляет своеобразие, самую суть и прелесть театра. «Никто так не чувствует театр, как он, — это видно по всем его романам», — заметил проницательный современник, и это было едва ли не самое тонкое суждение о романах Дюма.
Вообще-то Дюма — писатель и человек — скоро оказался объектом самых разнообразных суждений, недоброжелательной критики, зависти, слухов, порой — клеветы. Слишком уж необычную, можно сказать фантастическую, фигуру он собой представлял. Он жил на виду — шумно и расточительно, доверчиво, «открытым домом». Он зарабатывал много денег, а тратил еще больше. Дом его под Парижем — сумасбродная фантазия, «замок Монте-Кристо» — днем и ночью ломился от гостей. Гости пировали, а хозяин, довольный, что запустил в ход машину веселья, потихоньку уходил в свою светелку, где стояли только грубая кровать и стол со стулом, и садился работать.
Больше всего интриговала невероятная плодовитость Дюма: мало того, что романы выходили один за другим, — в первые годы карьеры Дюма-романиста получалось еще и так, что каждый следующий роман оказывался лучше предыдущего. Пищи для домыслов было хоть отбавляй (заметим, что полное собрание сочинений Дюма составило бы 500 или 600 томов и главным образом это были бы романы; едва ли найдется кто-нибудь, кто прочитал все романы Дюма). Вскоре стало известно, что Дюма работает не один. Но многие поняли это так, будто на него трудится целая фабрика литературных «негров». Вышел негодующий анонимный памфлет «Торговый дом «Александр Дюма и К» — занятно, что автором его оказался человек, который сам домогался сотрудничества с Дюма, но был за бездарностью отставлен.
Действительно, сотрудники у Дюма были: главный, многолетний — Огюст Маке и несколько случайных, среди которых писатели Нерваль и Готье. Обычно работа происходила так: сотрудник приносил «сценарий» будущего романа, Дюма просматривал его и начинал писать, придерживаясь (и то не всегда) канвы «сценария» и только. Самое главное: ритм, детали, диалоги — все это принадлежало безраздельно ему. Ему же, как правило, принадлежал и первоначальный замысел. Кажется, уже после смерти Дюма Огюст Маке решил, так сказать, «восстановить справедливость» и опубликовал собственный вариант первых глав «Трех мушкетеров». О лучшей защите от оговоров Дюма не мог бы и мечтать, — это был тусклый, безжизненный текст, «сырье» в полном смысле слова...
Итак, очевидно, что Дюма если и не все сам физически «писал», то все создавал, преображал, оттачивал. И он по праву считается автором собственных книг. Могучий, как Портос, он проявлял чудеса работоспособности. И все-таки биографам не давала покоя загадка этого пресловутого «сотрудничества». Зачем оно ему было нужно? Чего он хотел? Много догадок существует на этот счет, но все они неточны, условны. Кроме, пожалуй, одной, которую высказал Андре Моруа в книге «Три Дюма». «Отравленный театром, — писал Моруа, — Дюма создавал роман-спектакль; ему как воздух была нужна театральная атмосфера, — атмосфера труппы: он нуждался в «подателях идей», в людях, которые воспламеняли бы его, сгорая сами, — так режиссер, являющийся автором спектакля, нуждается в драматурге, актере, декораторе...»
Что ж, может быть, так оно и есть; во всяком случае, этот взгляд опирается на «театральную» структуру самих романов Дюма. Но, может быть, дело тут в чем-то другом.
Все мы, конечно, знаем и помним лучшие романы Дюма — «мушкетерскую» трилогию, «Королеву Марго», «Графа Монте-Кристо». Помним с детства — детской благодарной памятью. Давно уже Дюма — неисчерпаемый кладезь детского чтения, и в этом нет решительно никакой несправедливости. Он и сам был «большим ребенком» всю жизнь (даже в глазах собственного сына) и, перечитывая на старости лет «Мушкетеров», сам волновался и радовался, как дитя, и никогда не было для него удовольствия слаще, чем воображать себя в образе своих героев. Граф Монте-Кристо, Атос, Портос...
Но стоит задуматься о том, какой запас чувств и представлений, какой, так сказать, «урок» извлекут наши читающие дети из соприкосновения с буйным, героическим и, честно говоря, малоправдоподобным миром этого писателя. Что тут можно сказать? Прежде всего, вот что: чтение Дюма учит благородству. Не благонравию — именно благородству, рыцарству, доблести и чести.
Кроме того, романы Дюма — исключительный катализатор воображения. В его героев можно влюбляться, и можно о них мечтать. Они, собственно, сотканы из прозрачного вещества фантазии. «Я черпаю свои сюжеты в мечтах...».
Так что истории как таковой, истории как правде учиться у Дюма не следует, и верить ему нельзя. Он сам был до мозга костей французом. И только потому он так вольно обращался с историей и устраивал из нее блестящий воображаемый спектакль, что был в ней всегда, «как дома», — это бы «его» история. «...Эти четверо друзей («три мушкетера» с Д’Артаньяном) представляют собой четыре основных варианта нашего национального характера, — заметил как-то его биограф. — И если Дантон и Наполеон были воплощением французской энергии, то Дюма явился ее певцом».
Можно было бы и закончить этими словами, но хочется, чтобы читатель услышал голос самого Дюма — уже немолодого, пережившего свой звездный час, уставшего, хотя, конечно, в том, что он устал, Дюма и самому себе ни за что бы признался. Он пишет своему издателю:
«Что бы сказали Вы о грандиозном романе, который начинается с Рождества Христова и кончается гибелью последнего человека на земле, распадаясь на пять отдельных романов: один разыгрывается при Нероне, другой при Карле Великом, третий при Карле IX, четвертый при Наполеоне и пятый в будущем? Это покажется Вам безумным, и спросите Александра (Дюма-сына. — А. В.), знающего эту вещь от начала до конца, каково его мнение о ней...»
Этого романа Дюма не написал. Но понятно, что мечтал он именно о таком романе. Это то, чего он всегда хотел: объять необъятное, залить пространство ослепительным театральным светом, вывести на авансцену действующих лиц и сказать им: «Начинайте!»
Л-ра: Семья и школа. – 1977. – № 7. – С. 49-50.
Произведения
Критика