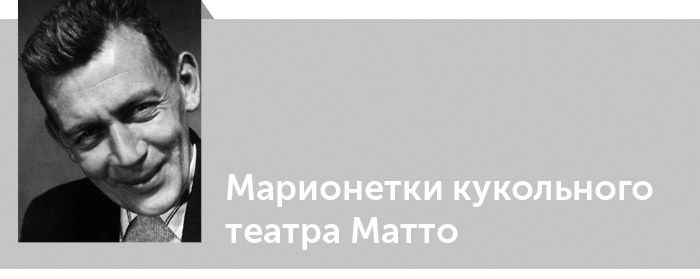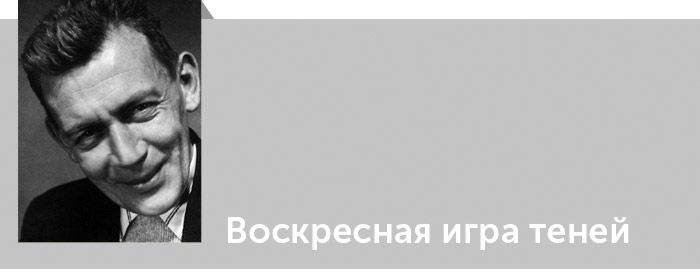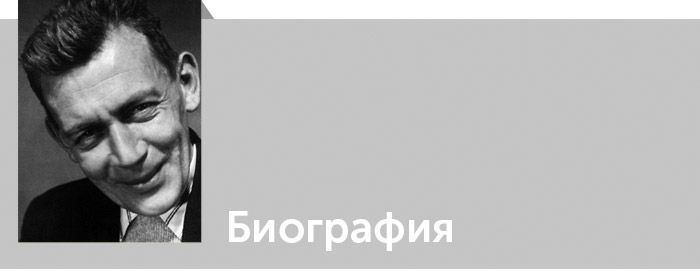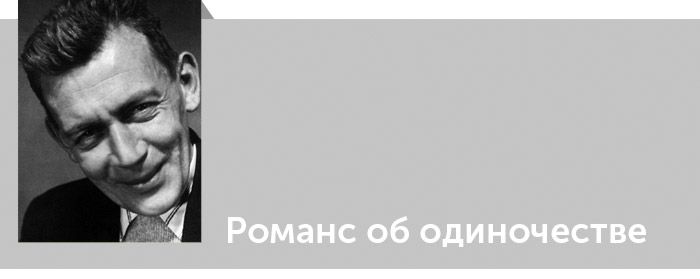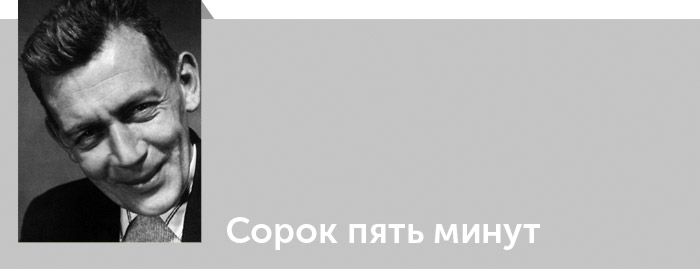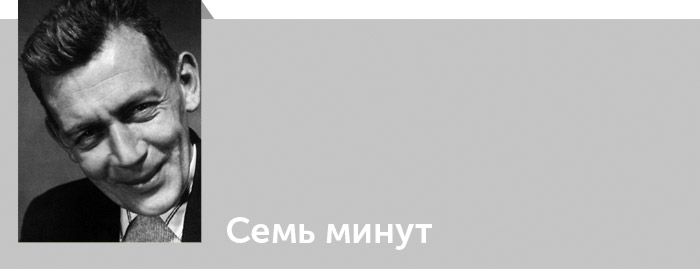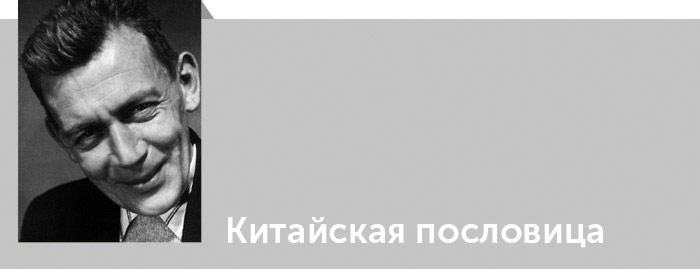История швейцарской литературы. Том 3. Глава 6. Фридрих Глаузер

Фридрих Глаузер (Friedrich Glauser, 1896-1938) принадлежит к плеяде швейцарских писателей первой половины XX в., полузабытых или не принимавшихся всерьез при жизни и заново открытых только в 60-70-е годы, с опозданием на добрую треть столетия. Среди них — Роберт Вальзер, Ганс Моргенталер, Людвиг Холь и другие, менее известные. Их «вина», как и «вина» Глаузера, в том, что они отказывались от «преждевременного примирения» (Л.Холь) с действительностью, тяготели к изображению изъянов общественного устройства, изломов человеческих судеб, осмеливались идти против течения.
Долгое время Глаузера считали писателем «в высшей степени не швейцарским», он не вписывался в картину гельветской словесности, пораженной вирусом областнического самолюбования. В историях немецкоязычной литературы, созданных в 1930-1950-е годы, его имя даже не упоминается. Специалистам его книги и публикации в периодике были, надо думать, известны, но в расчет не принимались — слишком уж противоречили они представлениям о том, какой подобало быть швейцарской литературе.
«Нешвейцарским» было не только творчество писателя, «нешвейцарской» была и его жизнь, его человеческая судьба. Глаузер был неудачником, аутсайдером, изгоем. Однако именно этому неудачнику швейцарская литература обязана, как теперь выяснилось, удачнейшими произведениями, созданными в конце 1920-х и в 1930-е годы. Добившиеся признания писатели областнической ориентации (Э.Цан, Я.К.Геер, Г.Федерер) претендовали на право называться реалистами, наследниками Готфрида Келлера; Глаузер же, ни на что не претендуя, реалистом (в широком понимании этого слова) был. «Если сравнивать Глаузера с его современниками, то лишь немногие могут стать вровень с ним», — констатирует Хуго Лебер1, один из инициаторов «второго открытия» писателя. А другой швейцарский критик, Дитер Фрингели, называет Глаузера «одним из самых глубоких и точных портретистов в новейшей немецкоязычной литературе»2.
Изучение творческого наследия писателя продолжается. Еще нет более или менее полного, научно выверенного собрания сочинений, но уже существует несколько собраний наиболее читаемых произведений Глаузера, вышли в свет его письма3, появилось несколько тщательно документированных биографий4, выходят переводы его книг на другие языки, в том числе и на русский5. И все же и в Швейцарии, и в других странах Глаузера знают в основном по его детективам, которые без конца переиздаются и пользуются неизменным читательским спросом.
Глаузер вообще многообразен. Вначале он пытался воплотить свой жизненный опыт в произведениях автобиографического плана с сильным лирическим началом. Ему было о чем рассказать: жизнь писателя являет собой цепь нескончаемых злоключений и выглядит кошмаром на фоне традиционного швейцарского благополучия. Он знал Швейцарию не с парадного входа, он изучал ее в приютах, больницах, сумасшедших домах, исправительных заведениях, куда он раз за разом попадал за строптивость и неподчинение «порядку». «Собственно говоря, доволен я был только тогда, когда сидел в тюрьме или в сумасшедшем доме», — скажет он о себе в конце короткой жизни. Трагизм этих слов сопоставим разве что с грустными признаниями другого швейцарского писателя, Роберта Вальзера, который отказывался покинуть приют для душевнобольных, чувствуя себя там в относительной безопасности: действительность казалась ему страшнее сумасшедшего дома.
Как и Вальзер, Фридрих Глаузер не был экстравагантной личностью, «человеком беспорядка», бродягой по призванию, он тоже хотел только одного: быть полезным людям, выполнять в обществе ту роль, к которой чувствовал душевную склонность. Но всякий раз он снова оказывался, говоря его собственными словами, на «задворках общества», и виновато в этом было не только сытое, лишенное внутренней динамики, безжалостное к аутсайдеру общество, которое высокомерно отворачивалось от всего, что говорило о боли, болезни, страдании, смерти; виноват был и он сам, никогда не делавший из себя страдальца за «правое дело», мученика. Какая-то сила в нем толкала его к страждущим, обездоленным, отверженным. Его бедой и проклятием были наркотики, к которым он пристрастился в юности, когда лечился от болезни легких. Еще одной его страстью было творчество, писательство, которое он не мыслил без погружения в глубины экзистенциальных проблем, сопровождающих человека на его жизненном пути. «Я должен копать глубоко, чтобы в конце концов добраться до освежающих меня источников, — писал он. — Прежде всего я должен забыть и отбросить то, что ценил до сих пор. Только бы избавиться от этого ужасного чувства пустоты и бесполезности»6. Глаузер упорно отстаивал свою концепцию искусства, выстроенную на фундаменте сострадания и соучастия, полагая, что без них немыслимы полнота и цельность бытия. Свою болезненную тягу к «катастрофам», к житейским «срывам» он объяснял желанием преодолеть однозначность и односторонность безбедного существования. «Я искал страдания, искал, разумеется, неосознанно, какая-то частица моего “я” нуждалась в нем, — писал он, признаваясь, что «катастрофы» странным образом его успокаивали, избавляли от чувства смутной вины. — Только через страдание я снова вступал в тот тесный контакт с жизнью, который был мне совершенно необходим»7.
О своей жизни Глаузер рассказал в предельно краткой автобиографии, которую стоит привести целиком:
«Родился в 1896 г. в Вене от матери-австриячки и отца-швейцарца. Дед по отцовской линии был золотоискателем в Калифорнии (sans blague)*, а по материнской — надворным советником (хорошенькая смесь, а?). Начальная школа, три класса гимназии в Вене. Потом три года закрытая школа в сельской местности, в Гларисегге. Следующие три года — коллеж в Женеве (Collège de Genève). Оттуда исключен незадолго до выпуска за критическую статью о сборнике стихов тамошнего учителя и поэта. Аттестат зрелости получил в Цюрихе. Один семестр изучал химию. Затем дадаизм. Отец решает поместить меня в закрытый пансион и отдать под опеку. Бегство в Женеву. Остальное вы можете прочитать в очерке “Морфий”. В течение года интернирован в Мюнзингене. Побег. Год в Асконе. Арест из-за мо (морфия. — В. С.). Принудительное возвращение в интернат. Три месяца в Бургхельцли (контрэкспертиза, так как Женева объявила меня шизофреником). 1921-1923 годы в Иностранном легионе. Потом мойщик посуды в Париже. Шахтер в Бельгии. Позднее семинар в Шарлеруа. Снова мо. Интернирован в Бельгии. Пересылка в Швейцарию. Год заключения в Вицвиле. Затем в течение года — подсобный рабочий в плодово-ягодном питомнике. Курс психоанализа (год), одновременно работал в плодово-ягодном питомнике в Мюнзингене. Садовник в Базеле, потом в Винтертуре. В это время написан роман об Иностранном легионе (1928-1929). 1930-1931 гг. — годичные курсы садоводства в Эшберге. Июль 1931 г. — повторный курс психоанализа. С января по июль 1932 г. — “свободный художник”» (красиво сказано!) в Париже. Поездка к отцу в Мангейм.
Там за поддельные рецепты арестован и доставлен в Швейцарию. С 1932 по май 1936 интернирован. Et puis voilà. Ce n’est pas très beau? mais on fait ce qu’on peut**»8.
Многое в этой заметке, пронизанной иронией и горечью за неудавшуюся жизнь, требует расшифровки и дополнительных разысканий. Но основные вехи намечены точно. Заметка была написана для журнальной врезки, предварявшей публикацию романа об Иностранном легионе. Это случилось в июле 1937 г., за полтора года до смерти Глаузера. Это время было заполнено не только новыми скитаниями и настойчивыми (всегда добровольными) попытками избавиться от пагубного пристрастия к наркотикам, но и интенсивной литературной работой. Он становится членом Союза швейцарских писателей, работает сразу над несколькими произведениями, задумывает несколько новых детективных романов, начинает писать развернутую автобиографию. Чтобы избавиться, наконец, от опеки, он решает официально вступить в брак со своей давней подругой и спутницей Бертой Бенгель. Поскольку в Швейцарии объявленному недееспособным Глаузеру сделать это практически невозможно, он с невестой, немкой по происхождению, отправляется в Италию Муссолини, полагая, что там ему удастся быстрее уладить все формальности, а заодно и отдохнуть. Но процедура затянулась, начались финансовые затруднения, обострились болезни, и Фридрих Глаузер скончался в Нерви, близ Генуи, 8 декабря 1938 г. Свадьба, назначенная на 9 декабря, так и не состоялась. Судьба и тут жестоко обошлась с бездомным скитальцем, который, несмотря на все старания, так и не сумел обрести свое место под солнцем.
Но свое место в литературе Глаузер отстоял вопреки ударам судьбы и сопротивлению среды.
У благополучной Швейцарии были основания не любить своего «блудного сына». Писатель и окружение, причем окружение нередко самое ближайшее, как говорится, на дух не переносили друг друга. Трагическая судьба писателя была предопределена уже в детские и юношеские годы. Ранняя смерть матери (1900), непомерная строгость и педагогическая беспомощность отца, человека властного и жесткого, не могли остаться без последствий: едва достигнув совершеннолетия, Глаузер порвал со своим окружением, с семьей, стал отщепенцем, изгоем. Особенно тяжело подействовала на него смерть матери. «Единственное, на что мне иногда хочется пожаловаться — писал он уже в зрелом возрасте своей подруге, — это на то, что моя мать умерла, когда мне было четыре года. И я всю жизнь тыкался носом то туда, то сюда в поисках матери. Родины у меня тоже нет, мне было только тринадцать лет, когда я очутился в Швейцарии. Австрия стала для меня чужбиной... Знаешь, иногда просто ужасно осознавать, что у тебя никого нет, что ты нигде не чувствуешь себя дома»9. Невзирая на тонкую душевную организацию и рано проявившуюся художественную одаренность сына, Глаузер-старший настойчиво пытался сделать из него благонамеренного и законопослушного бюргера, каким был сам, силой и принуждением втискивал его в прокрустово ложе «нормы», а когда ему это не удалось, потребовал учредить над ним опекунство, в письме в полицейское управление Цюриха называл его лжецом и симулянтом, а позже, в 1935 г., требовал от опекуна «для своей собственной безопасности и ради блага общества» изолировать Глаузера от общества пожизненно.
От родителя не отставали врачи-психиатры. Их диагноз: Глаузер — психопат, морфинист. В глазах окружения он — мелкий воришка, рафинированный бездельник, негодяй, способный своим ловким обхождением вводить людей в заблуждение. Он не отвечает за свои поступки и потому должен быть изолирован от общества. И никому нет дела до того, что известный тогда писатель Я.К.Геер аттестует (по просьбе опекунского совета) начинающего писателя совсем по-другому — пишет о «необычайно рано созревшем таланте», о мастерском владении литературной формой.
Власти следили за каждым шагом своего подопечного и при каждом удобном случае старались упрятать его в тюрьму или сумасшедший дом за любой, даже безобидный проступок. Глаузер сопротивлялся отчаянно, иногда не выбирая средств. Зависимость от наркотиков загнала его в порочный круг: приступ депрессии, поиски морфия, больница или интернат, курс отвыкания, выписка или бегство, очередной «срыв» — и все повторяется с роковой неотвратимостью.
В сверхлапидарной автобиографии на фоне сменяющих друг друга приютов, интернатов и больниц бросаются в глаза два момента — соприкосновение Глаузера с дадаизмом и курсы психоанализа. Взросление писателя пришлось на трудное время в истории Европы — время Первой мировой войны. Война, обошедшая Швейцарию стороной, всколыхнула ее литературу, вдохнула в нее интенсивность переживания и жгучий интерес к современности. Ощутимый вклад в оживление закосневшей на рубеже веков литературной жизни внесли многочисленные зарубежные литераторы, покинувшие свои страны и осевшие в нейтральной Швейцарии — здесь еще можно было без особого труда выступать против войны и проповедовать самые разные теории и взгляды. Цюрих, куда попал Глаузер, был в то время чем-то вроде «второго Парижа», международным культурным и политическим центром. Экспрессионисты, дадаисты, авангардисты пропагандировали здесь свое искусство. Людей разных политических взглядов объединяло одно: неприятие войны, пацифизм. Благодаря тому, что Швейцария служила своего рода «перекрестком Европы», их деятельность приобретала большой резонанс.
Правда, сами швейцарцы предпочитали держаться в стороне от бурлившего на их территории литературного водоворота. Дадаизм, например, не оказал никакого влияния на швейцарскую литературу. Глаузер был, пожалуй, единственным швейцарцем в кругу дадаистов, но и на его творчестве увлечения молодости сказались мало. Специальностью Глаузера, человека европейски образованного, владевшего несколькими языками, были макаронические стихи. С ними он выступал в «Кабаре Вольтер» вместе с Тристаном Тцара, Рихардом Хюльзенбеком, Хуго Баллем и др. Из «Воспоминаний о Дада», написанных в 1931 году, видно, что Глаузер относился к дадаистам более чем сдержанно, испытывая глубокую симпатию только к своим друзьям — Хуго Баллю и Эмми Хеннинге, которые хотя и были среди инициаторов движения, но его правоверными адептами так и не стали.
Сложнее обстоит дело с влиянием психоанализа. Глаузер шел к психиатрам как пациент, страдающий вполне определенным заболеванием. Сеансы психоанализа ему, правда, не помогли, скорее наоборот. Не зря же, обращаясь к литературным критикам, он призывал их «слегка потрепать психиатров» и сказать им «четко и ясно, что вмешательство в психику, игра с человеческой судьбой, практикуемая этими господами, — опасная игра»10. Но сеансы психоанализа не прошли бесследно для Глаузера-художника: они стимулировали его интерес к подсознательному, к глубинам души, к ее таинственной диалектике. Однако Глаузер никогда не дискредитировал разум, как это сплошь и рядом делали приверженцы «глубинной психологии»11, и ни при каких обстоятельствах не отрывал психику человека от социальных условий. Его способность творить целостный образ человека видна не только в романах, но и в «малой прозе» — рассказах и автобиографических очерках.
Искусство Глаузера не было интровертивным, он умел трезво и пристально вглядываться не только в себя, но и в окружающий мир. Это его качество с блеском проявилось в первом большом произведении — романе об Иностранном легионе «Гуррама» («Gourrama», 1928-1929). Жизненный опыт, обретенный Глаузером во время службы в Гурраме, маленьком французском форте, затерянном в песках марокканской пустыни, доведен здесь до такой степени художественного обобщения, что стал как бы образом эпохи. Для Глаузера-человека этот опыт был крайне тяжелым (приступы отчаяния, попытка самоубийства, болезни, нравственные страдания), для Глаузера-художника — чрезвычайно плодотворным.
Форт «Гуррама», в котором собрались отверженные, бежавшие от себя, от своего прошлого люди, — это замкнутый в себе мир, живущий по собственным законам, жестоким и бесчеловечным. Законы эти, правда, удивительно напоминают — не формой, а сутью — «правила игры» в респектабельном обществе. Гуррама, по существу, — карикатурная модель этого общества. Иностранный легион, как известно, — часть французской армии, инструмент колониальной политики, у него есть своя — достаточно бесславная — история, но Глаузер не заинтересован в выяснении этой истории. «Гуррама» — не антиколониальный роман. Форт в раскаленной марокканской пустыне нужен писателю как замкнутое эпическое пространство, изолированное от внешней среды естественными условиями и военным регламентом. Это пространство, в котором жизненные противоречия выступают в уродливогипертрофированной форме, служит местом испытания героя, отстаивающего свое право оставаться человеком.
С поразительной достоверностью рисуя жизнь отщепенцев, прозябающих в удручающей внутренней изоляции, Глаузер не стремится вызвать отвращение к ним, так как понимает: Гуррама не оставляет человеку возможности самоосуществления. Легионеры служат чужому государству и целям, к которым совершенно равнодушны, получая взамен прожиточный минимум и возможность подвести черту под прошлым, но не возможность начать все сначала. Каждый из них в безнадежном положении, но понимают это не все, а только «духовная аристократия», к которой относит себя и капрал Лес, главное действующее лицо романа.
Линия капрала Лёса проходит через весь роман, определяя его субъективно-эмоциональную окраску. Но перед нами не роман-автобиография. Рядом с судьбой главного героя показаны судьбы множества людей, жизнь большого коллектива. В заглавие романа недаром вынесено название форта, а не имя главного героя (как, например, в романах Роберта Вальзера). История одиночки и история коллектива рассказываются параллельно, иногда линии пересекаются, сталкиваются — тогда нарастает драматизм действия, ведущий к взрыву страстей, к кризису.
В основе жизни личности и жизни коллектива лежит одинаковый ритмический рисунок — тягучесть равнодушия, нарастание тревоги, взрыв эмоций, бунт (или драка), потом снова затишье и равнодушие. Этот же принцип положен и в основу композиции романа, который состоит из трех частей, озаглавленных соответственно «Будни», «Лихорадка», «Разрешение». Внутри каждой части кризис индивида предшествует кризису коллектива. Сначала тучи сгущаются над Лесом, он попадает в карцер и пытается покончить с собой, но болезнь сердца и заступничество друзей спасают его от военно-полевого суда и дальнейшей службы в легионе. В госпитале он узнает о жестоком бунте, после которого сменяется начальство: на место крикливого, но добродушного приходит более жесткий командир и с помощью военно-полевого суда наводит «порядок» — до очередного, быть может, еще более страшного взрыва...
Лес, как и сам Глаузер, попадает в Иностранный легион не по своей воле. Но он не бежит от себя, от своего прошлого, как подавляющее большинство его сослуживцев, а, наоборот, ищет себя, пытается разобраться в причинах своей неприкаянности. Он честен, порядочен, отличается душевной мягкостью и необычайной для легионеров интеллигентностью. Капрал Лес человечен с товарищами (что нередко вынуждает его, заведующего складом, прикасаться к запасам казенного вина), с арабской девушкой Зено, с начальством и подчиненными. Все свои сбережения он отдает старику-арабу, чтобы тот мог купить маленький земельный участок. Это вызывает сплетни и кривотолки в лагере. И без того шаткое положение Леса в Гурраме осложняется, возникает кризисная ситуация, которая разрешается попыткой самоубийства.
Глаузер, несомненно, отдавал себе отчет в сложности взаимоотношений личности и среды, характеров и обстоятельств. Об этом говорят его усилия соотнести в структуре романа две линии — линии Леса и линии Гуррамы. Ни одна из этих линий не получает перевеса. Тяга к синтезу субъективного и объективного, личного и сверхличного — одно из коренных свойств художественного метода писателя. Развернутое изображение жизненных обстоятельств соединено в «Гурраме» с началом лирическим и драматическим. Образ Иностранного легиона в романе становится символом мира, обрекающего людей на трагическую разобщенность и одержимость «демоном скуки». Сила поэтического обобщения такова, что распространяется и на сегодняшнюю действительность. «Люди не связаны больше общими идеями, ни в области религии, политики или морали, ни в какой-либо иной области, — пишет исследовательница творчества Глаузера Э.Якш. — Одиночки или небольшие группки единомышленников создают мировоззрения, претендующие на всеобщность. Люди разобщены. Отношения между ними остаются поверхностными, каждый живет в одиночку. Кажется, будто весь мир превратился в Иностранный легион»12.
В романе неоднократно упоминается имя Марселя Пруста — капрал Лес с упоением читает «В поисках утраченного времени». Сам Глаузер тоже не раз признавался, что в пору работы над «Гуррамой» находился под сильным влиянием Пруста13. Но подражателем он не был, он усвоил из Пруста то, что «срабатывало» в его собственной художественной системе. Его стиль не похож на стиль Пруста, в нем нет той текучести, нет торжества детали, микрокосмоса памяти над макрокосмосом реальной жизни. Глаузера привлекал в Прусте секрет оживления прошлого, техника художественного постижения сокровищниц памяти. Роман создавался не по свежим следам. Впечатления от службы в Иностранном легионе успели потускнеть, и требовалось определенное усилие, чтобы оживить их, заставить засверкать всеми гранями. Выработать это искусство Глаузеру помог — наряду с другими писателями14 — Марсель Пруст.
Глаузер знал, как сильно внутреннее состояние человека окрашивает его восприятие мира. Природа в глазах легионеров утратила единство, цельность, она воспринимается сквозь призму опустошенности. Экзотические марокканские пейзажи кажутся им неестественными, враждебными, нереальными — куда реальнее для них «пейзажи памяти», картины прошлой жизни, в которой еще «журчала вода и зеленели луга». А здесь даже зелень редких оазисов на фоне безжизненной серой пустыни кажется ядовитой — как на аляповатых почтовых открытках. У Роберта Вальзера природа была поводом для поэтических рефлексий; у Майнрада Инглина она подавляет человека мощью и красотой, подчиняет его своим законам. У Глаузера достигается синтез человека и природы, человек включен в ее извечный круговорот.
Глаузер в меньшей степени, чем Роберт Вальзер, использует монологические формы самовыражения (дневники, письма, риторические обращения, внутренние монологи). «Работа души» (Л.Н.Толстой) раскрывается у него более опосредованно, в диалогах и поступках действующих лиц. Своеобразие его поэтики во многом обусловлено особенностями характера и дарования художника, его жизненным опытом. «Гуррама» — роман нового типа, напоминающий скорее художественный очерк, чрезвычайно точный в раскрытии исторически и географически вполне «реальной» реальности, глубокий в самораскрытии личности и потому поднимающийся до высот художественного обобщения. Глаузер не вводит в повествование занимательной интриги и не позволяет «романическим» условностям и надуманным конфликтам вытеснить из фактуры произведения правду жизни. Избегает он и главного порока швейцарской словесности — прямой дидактичности, деления героев на положительных и отрицательных, упрощенно-однозначных представлений о добре и зле. Из всех персонажей романа только садист Каттанео да болезненно честолюбивый Морио лишены положительных качеств; остальные, даже те, кто причиняет зло окружающим, показаны одновременно и как жертвы — обстоятельств или других людей, которым они вынуждены подчиняться. Глаузер судит и обличает не отдельных людей, а наличное мироустройство, механизм, который подавляет в человеке человека, раскрепощает в нем зверя.
«Гуррама» — несомненно, лучший роман Глаузера и один из лучших романов швейцарской литературы 1920-х годов, в чем-то сопоставимый с создававшимися примерно в то же время романами Т.Манна «Волшебная гора» и Г.Гессе «Степной волк» (во всех случаях герой попадает в некое замкнутое пространство, круто меняющее его судьбу). Это произведение новаторское и по форме, и по остроте постановки актуальных проблем. «Одиночество потерпевшего крушение человека... никогда не изображалось в швейцарской литературе с такой пронзительно-оригинальной безусловностью, как в романе Глаузера “Гуррама”»15.
Швейцария оказалась не в состоянии воспринять это новаторское произведение. При жизни автора роман так и не дошел до читателя. (Публикация сокращенного варианта мелкими подачами в журнале «ABC» не в счет.) Крохотным тиражом он был опубликован только в 1940 г.
Форма автобиографического повествования соответствовала характеру дарования Глаузера: он умел «сгущать образы и картины, вкладывать в них метафорический, иносказательный смысл. В этом же ключе написана повесть «В сумерках» («Im Dunkel», 1937), работу над которой он начал в 1933 г., через несколько лет после окончания «Гуррамы». Здесь совпадают не только факты биографии автора и героя, но даже имена: повествователя зовут Фред, Фредерик. Действие происходит в Париже, где комиссованный из Иностранного легиона герой работает мойщиком посуды в ресторане, и в бельгийском городе Шарлеруа, куда он попадает, выгнанный из ресторана за раздоры с шеф-поваром. Повесть, как и роман, долго не удавалось напечатать (в конце концов, она была напечатана в журнале с крайне ограниченным кругом читателей).
Швейцарская литература упорно отторгала Глаузера, видя в нем чужеродное тело. Однако Глаузер не смирился с поражением. С неменьшим упорством он искал выхода из изоляции, искал своего читателя. Эти поиски привели его к детективному роману.
Какие причины побудили Глаузера, уже, по сути дела, сложившегося художника, со своим видением мира и своим почерком, обратиться к детективному жанру? Их несколько. Первая и важнейшая — естественное желание пишущего найти своего читателя, свою аудиторию. Пока что такой аудитории у Глаузера не было. «Вы морщите нос из-за того, что я пишу детективные романы? — говорит он в одном из писем. — Позвольте мне сказать несколько слов в свое оправдание... Вы станете смеяться надо мной, если я признаюсь, что даже самые глупые свои детективные истории я вынашиваю иногда по полгода, пока не сочту, что они созрели... Я не стремлюсь к тому, чтобы меня принимали всерьез литературные бонзы. Я хочу завоевать читателей, которые обычно читают Куртс-Малер и Джона Клинга... Понимаете, я хорошо знаю этих людей, они были моими товарищами, и я горжусь, когда они читают ту или иную мою историю, но не потому, что она моя, а потому, что она их по-настоящему захватывает... Видите ли, я стараюсь просто рассказывать, рисовать картины, в которых есть улица, дом, поезд, предметы, которые люди видят каждый день и в то же время не видят, потому что привыкли к ним. Я стараюсь указать им на них с помощью нестертых слов, чтобы они бессознательно обратили на них внимание»16.
Это, по сути, программа художественного освоения реально существующего, а не воображаемого или желаемого мира. Глаузер полагал (и это тоже важно), что возможности детектива как жанра далеко не исчерпываются массовой литературой. «Не иронизируйте над детективными романами! — говорит он в другом месте. — Сегодня они единственное средство популяризации разумных идей»17.
В детективе Глаузер выдвигал на передний план не столько занимательность, сколько его познавательную и воспитательную роль. Он считал, что в жесткой схеме детективного романа таятся формы и способы непрямого, замаскированного выражения правды жизни в обход идеологического пресса охранительной литературы. Глаузер отдавал себе отчет в опасностях литературного «ширпотреба», понимал необходимость борьбы с этим влиянием, и в этом, видимо, заключалась еще одна причина его обращения к детективу.
Всего Глаузер написал шесть детективных романов: «Чаепитие трех старух» («Der Tee der drei alten Damen», опубл. 1939), «Вахмистр Штудер» («Wachtmeister Studer», 1936), «Власть безумия» («Matto regiert», 1936), «Температурный листок» («Die Fieberkurve», 1938), «Китаец» («Der Chinese», опубл. 1939), «Крок и компания» («Krock & Co.», опубл. 1941). Только три из них увидели свет при жизни писателя. Однако нельзя сказать, что усилия Глаузера пробить стену равнодушия оказались полностью безуспешными. Его «Вахмистр Штудер» получил широкую известность благодаря удачной экранизации. Имя Глаузера стало связываться с именем ставшего знаменитым героя-сыщика. Создавалось впечатление, что Штудер создал Глаузера, а не наоборот. Правда, чудаковатый бернский сыщик (его сыграл известный актер Генрих Гретлер), добродушный и справедливый, каким он предстает в фильме, мало похож на глаузеровского героя, не лишенного трагических противоречий.
Когда Глаузер взялся за писание детективных романов, в западноевропейской литературе уже началось обновление этого жанра: традиционный роман-кроссворд, содержавший логическую задачу и ее решение (Эдгар По, Артур Конан Дойл) стал обогащаться социальными и психологическими проблемами, впитывать в себя общественный климат, историческую обстановку, затрагивать глубокие, нередко крайне запутанные связи между индивидуальной и социальной патологиями. В произведениях Дэшила Хеммета, Реймонда Чандлера, Жоржа Сименона чувствуется внимание не только к криминальной стороне дела, но и к исследованию человеческих характеров, к выяснению причин, порождающих преступления. Их книги — новое явление в истории детективного романа. В ряду этих писателей стоит и Фридрих Глаузер.
Свое понимание детектива он изложил в «Открытом письме» — ответе на «Десять заповедей автора детективного романа» писателя Штефана Брокхофа. Глаузер признает, что, развиваясь в традиции Эдгара По, детективный роман стал специфической формой литературы. У этой формы есть свои достоинства, ей нельзя отказать в праве на существование. Однако со временем детектив превратился в безвкусный продукт массового спроса. «Серьезный» роман за это время, напротив, отдалился от демократического читателя, стал достоянием литературных снобов. Авторы литературы для избранных забыли, полагает Глаузер, о главном: что нужно «сочинять, рассказывать истории, изображать людей, их судьбы, атмосферу, в которой они живут»18. «Серьезный» роман, по мнению Глаузера, стал слишком серьезным, упустил из виду элемент развлечения, игры. В свою очередь, детектив стал фабриковаться по одной и той же схеме: убийство, бессилие заурядных полицейских, появление знаменитого сыщика, раскрытие преступления. Этот автоматизм не оставляет места для художественного вымысла, для «игры», констатирует Глаузер. А ведь только волшебство слова помогает увидеть повседневную жизнь в ином, необычном (или, по терминологии Б.Брехта, «остраненном») освещении.
В своем «Открытом письме» Глаузер требует постижения жизни не только от «серьезного» романа, но и от детектива. «Наша обязанность — с помощью отпущенных нам скромных сил и средств заставить читателя задуматься, осмыслить прочитанное, — пишет Глаузер. — Поверьте, стоит разочаровать тех, кто, прочитав первые десять страниц, тут же заглядывает в конец книги, чтобы узнать, кто же преступник...»19 Сюжетное напряжение, с помощью которого романист овладевает вниманием читателя, может быть подлинным и ложным. Способы создания ложного напряжения демонстрирует дешевый детектив. Цель настоящего детектива — показать обусловленность преступления общественными условиями и психологией человека. Тактика такого произведения диктуется законами жанра, стратегия же определена общими эстетическими установками повествовательного искусства.
Глаузер-теоретик не противоречит Глаузеру-практику, когда выступает против канонизированной техники, согласно которой все, о чем идет речь в детективе, имеет отношение к разгадке тайны преступления: каждый персонаж должен быть подозреваемым, каждый упомянутый предмет — вещественным доказательством. Глаузер же не прочь отдать должное случайности, он отстаивает свое право художника останавливать внимание — если это диктуется художественной целесообразностью — на людях, предметах и природе ради них самих.
В швейцарской, да и всей немецкоязычной литературе Глаузер был одним из первых, кто перевел детектив в традицию социально-психологического романа, насытил анализ и действие глубоким содержанием, превратил сыщика-спортсмена в личность с развитым чувством социальной ответственности. Не только сыщик, но и другие персонажи у него — живые характеры, а не усредненные «типы», носители заданных качеств и функций. В его детективах все сложнее и достовернее, чем в «чистых» образцах жанра. Преступник у него — не просто воплощение зла, сыщик — не просто орудие возмездия. Создавая живые человеческие характеры, Глаузер стимулирует активность читателя, который уже не ограничивается разгадыванием детективной загадки, а проявляет участие к судьбам персонажей и даже «примеривает» их истории к собственной судьбе.
В произведениях и письмах Глаузера есть прямые указания на то, что он знал творчество Агаты Кристи и Жоржа Сименона. Особенно высоко ценил он последнего. «У одного только автора я нашел то, чего мне недоставало во всей детективной литературе. Имя этого автора — Сименон... Всем, что я умею, я обязан ему. Он был моим учителем — разве не все мы чьи-нибудь ученики?»20
Знаменитый комиссар Мегре может считаться крестным отцом вахмистра Штудера. Штудер напоминает Мегре и внешне, и по манере работать. Оба они не рационалисты, а психологи, их успехи зависят не столько от анализа вещественных доказательств, сколько от «вживания» в атмосферу преступления. Не могла не нравиться Глаузеру и человечность комиссара Мегре: как и любого другого человека, детектива терзает неуверенность в себе, обуревают сомнения и страхи, он нередко страдает от раздвоенности между сочувствием к преступнику и сознанием профессионального долга.
Много общего у Глаузера с Сименоном и в некоторых приемах нагнетания и смягчения напряженности, в функциях пейзажных зарисовок, в способах ретардации развязки.
Но Глаузер не эпигон Сименона, а его вахмистр Штудер — не тень комиссара Мегре21. Силой поэтического постижения действительности и человека Глаузер превосходит Сименона — его художественный мир достовернее, центральные проблемы человеческого бытия стоят острее и звучат пронзительнее.
В «Открытом письме» есть слова о том, что «действие детективного романа легко пересказать на полутора страничках. Остальные сто девяносто восемь машинописных листов — начинка. И все дело в том, как обойтись с этой начинкой»22. В качестве «начинки» Глаузер использовал собственную жизнь. Это был смелый и новаторский шаг, ведь обращение к автобиографическому материалу в детективном романе столь же редко, сколь оно обычно в Других разновидностях романного жанра.
Разумеется, с социальным опытом автора, воплощенным в детективе, мы сталкивались и раньше. Но у Глаузера этот опыт выступает непосредственнее, резче, тенденциознее: добропорядочная Швейцария показана у него глазами неудачников, обитателей Домов призрения, завсегдатаев дешевых пивных, пациентов сумасшедших домов и тюремных узников. Детектив сталкивается у него с автобиографической повестью, что порождает дополнительные конфликты и дополнительное напряжение, выходящее за пределы чисто уголовных дел.
В «Чаепитии трех старух» (1936), первом (по времени создания) детективном романе Глаузера, еще нет вахмистра Штудера, вообще нет образа удачливого, способного на гениальные прозрения сыщика. Действие романа разворачивается в Женеве, городе, где заседает Лига Наций, где собрались дипломаты со всего света. Естественно, что политические интриги играют важную роль в этом произведении. Но все же не основную, а вспомогательную: дипломаты и сотрудники секретных служб, заинтересованные в доступе к восточным нефтяным источникам, имеют лишь косвенное отношение к участившимся в тихой, благополучной Женеве загадочным убийствам. То же можно сказать и о трех таинственных старухах, которые, подливая клиентам в чай наркотики, вербуют новых членов гностической секты. Они — лишь слепое орудие в руках еще более таинственного, неуловимого «повелителя золотых небес». Этот «повелитель» не религиозный фанатик, он преследует вполне земные цели, используя тягу своих состоятельных приверженцев к мистицизму и выкачивая из них деньги. С помощью все тех же старух он ради личного обогащения ищет доступ к дипломатическим кругам. Дипломаты и гностики связаны между собой через профессора женевского университета Луи Доминисе, исследователя ядов и морфиниста. В пляске вокруг «золотого тельца» гибнут люди — отравлены молодой дипломат, аптекарь, врач. Полиция безуспешно ищет преступника. В каждой из трех сфер — дипломатической, медицинской и гностической — находятся свои доморощенные детективы. В конце концов, «повелитель» разоблачен, дипломаты-шпионы спасаются бегством, а три полубезумные старухи попадают в сумасшедший дом.
В этом романе Глаузера есть все — тайные агенты великих держав, включая СССР, политические и финансовые махинации, гностические учения, таинственные отравления и ложные подозреваемые, наркотики и яды. Нет только мастера сыска, а значит, и единого повествовательного ракурса. Его место занимает автор, рассказчик. Он вездесущ и всеведущ, он вторгается в действие то с одним, то с другим персонажем, он знает то, чего не знают ни детективы-добровольцы, ни полиция, ни даже государственный советник Мартине.
При такой организации материала возникает вопрос: для чего, собственно, ведется расследование, если повествователь-демиург и так все знает? Не нарушено ли здесь основное правило детектива, гласящее, что читатель не должен знать больше того, что знает следователь? Нет, напряжение сохраняется до конца, криминальная загадка разгадывается только на последних страницах, автор, обходясь без посредника-сыщика, не выбалтывает того, что у него на уме, терпеливо приберегая разгадку для финальных сцен. К тому же он затевает с читателем игру иного рода. Весь роман пронизан тонкой, без нажима, иронией (пожалуй, некоторый нажим чувствуется лишь в изображении советских «агентов»). Зло, выступающее в «Чаепитии» как таинственный и неуловимый фантом, лишено какой бы то ни было привлекательности, разоблачено как жажда власти и наживы, как болезненный эгоцентризм морально нечистоплотных людей. Попутно Глаузер пародирует продувных политиканов вроде Мартине, циничного и тщеславного спекулянта сведениями, предпочитающего «быть первым в Женеве, чем вторым в Лондоне»; посмеивается над беспомощностью безынициативных полицейских; язвительно проходится по дешевым детективным сериям — о Фантомасе и Арсене Люпене. Называя источники, из которых он почерпнул сведения о гностиках, ведьмах и ядах, Глаузер демистифицирует зло, демонстрирует его неестественность. Неестественность эта проступает и в самой закрученности сюжета, и в усложненности композиции — в романе соприкасаются сферы общественной жизни, далеко отстоящие друг от друга. Вместе с тем темные махинации, наркомания, эксперименты над психикой человека — не просто фон для напряженного детективного действа, но и слегка шаржированный образ швейцарской действительности рубежа 1920—1930-х годов, образ тем более достоверный, что почти все из воплощенных в романе кошмаров, включая болезненную тягу к наркотикам, Глаузер испытал на себе самом.
Пять последующих романов объединены образом вахмистра бернской кантональной полиции Якоба Штудера. Создание этого образа — несомненное достижение Глаузера. Внешне Штудер совсем не похож на своего создателя, но его «внутренний портрет» схож с обликом Глаузера. Оба они аутсайдеры, только Штудер аутсайдер неявный, затаившийся, он сохраняет для себя возможность жить в обществе и в то же время держаться от него в стороне. На службе в полиции он лишь для видимости, на деле он служит внутреннему закону — совести. У него нет оснований беспрекословно блюсти законы государства, душой он на стороне тех, против кого эти законы направлены. Роль сыщика, следователя Дает ему возможность незаметно вносить коррективы в отправления правосудия, наказывать зло и давать торжествовать добру.
Глаузер наделил своего героя отличной профессиональной подготовкой. В молодые годы Штудер участвовал в международных конгрессах криминалистов, у него много знакомых и друзей среди известных детективов, он в совершенстве владеет французским и итальянским языками. Положение Штудера в полицейской иерархии — всего лишь вахмистр — никак не соответствует его опыту и способностям. Чтобы устранить это противоречие, Глаузер вводит в биографию сыщика один важный эпизод, о котором упоминается в каждом романе: когда-то Штудер был комиссаром столичной полиции, но в расследовании одной «банковской аферы» проявил принципиальность — отказался, несмотря на недвусмысленные указания начальства, замять дело — и поплатился карьерой. Его разжаловали в рядовые и перевели из городской в кантональную полицию. Здесь он слывет чудаком, мечтателем, к нему относятся с оттенком пренебрежения, но волей-неволей поручают дела, с которыми не могут справиться другие сотрудники. Т.е. дела особой сложности.
Такое положение Штудера как нельзя более соответствует функции, возложенной на него автором. Будь он, в соответствии со своими данными, высокопоставленным чиновником, он не имел бы возможности сталкиваться с миром отверженных и обездоленных. Сделай его автор заурядным полицейским, тогда неестественной бы выглядела его поразительная проницательность. Банковская афера все поставила на свои места.
Глаузер глубоко и тонко, в непривычном для детектива ключе раскрывает внутренний мир, жизнь духа и души следователя, высвечивает тайные побуждения, склонности, неосознанные и подавленные влечения. Пока сыщик изучает детали преступления, внимательный читатель присматривается к нему самому, незаметно для себя подпадает под обаяние его личности и оказывается во власти напряжения, возникающего в результате столкновения Штудера с теми силами, которые из корыстных побуждений препятствуют скорейшему раскрытию преступления.
Чтобы сохранить хрупкое равновесие между ролью, которую он на себя взял, и глубинными побуждениями, лежащими в основе его поступков, Штудер призывает на помощь все свое самообладание. Внешне он почти безропотно подчиняется начальству, с достоинством снося насмешки и унижения. Но всегда поступает так, как считает нужным, как подсказывает ему совесть.
По собственной инициативе Штудер берется за расследование смерти мелкого коммивояжера в деревне Герценштайн, хотя дело это считалось законченным («Вахмистр Штудер»). В ходе дополнительного расследования выясняется, что подсобный рабочий Шлумпф, взявший на себя вину за убийство, был лишь козлом отпущения... За вполне благополучным фасадом швейцарской деревни открывается неприглядная картина. В общине процветают коррупция и шантаж, убийство оказывается логическим звеном в цепи злоупотреблений властью и капиталом. Раскрыть такое преступление может только человек, не запутавшийся в сетях социальной зависимости. Правда, Штудер так и не решается изобличить убийцу публично; он выбирает другой путь: в беседе с преступником (им оказывается председатель общинного совета) воспроизводит ход и детали преступления, и тот, ошеломленный проницательностью следователя, кончает с собой. Штудер не препятствует такому исходу.
Так, на свой страх и риск он действует и в других романах. Почти всегда убийца бывает наказан до того, как к нему подберется рука правосудия, ведь эта рука может и помиловать «своего». Сыщик не мешает вершиться высшему суду — суду совести. В романе «Температурный листок» коварного патера, долго водившего за нос Штудера, убивает один из пострадавших; во «Власти безумия» убийца, пытаясь бежать, попадает под автомобиль и гибнет; в «Кроке» разоблаченный Штудером хозяин гостиницы (действовавший, кстати, из благородных побуждений) не может быть взят под стражу, так как он смертельно болен. И только в «Китайце» убийца арестован, его ждет суд. Это отъявленный преступник, которому неоткуда ждать снисхождения.
Благодаря образу Штудера роман «Власть безумия» насыщается элементами психологизма. Внешне невозмутимый сыщик на самом деле не уверен в себе, его терзают страхи и сомнения. Положение сыщика непрочно, у него мало друзей и союзников, зато сколько угодно врагов и недоброжелателей, он боится допустить промашку, колеблется, осторожничает, даже позволяет себе — как в эпизоде с полковником Каплауном — потешиться мыслью о компромиссе, помечтать о чине лейтенанта, о славе и о достатке. Но это лишь мимолетные проявления вполне объяснимой слабости, с которой Штудер тут же справляется. В конечном счете человек в нем всегда побеждает чиновника и приспособленца.
Действие в романе происходит в сумасшедшем доме, поэтому вполне естественно, что преимущественное внимание автора уделяется душевной жизни, психике человека, причем психике ущербной, больной. Неясные ассоциации, мечты и страхи теснят детективный сюжет; главное в доме скорби — разобраться в мотивах действующих лиц, среди которых и нормальные, и полусумасшедшие, и сумасшедшие на разных стадиях заболевания. Все они — врачи, пациенты, средний медицинский персонал, служащие больницы — в изображении Глаузера представляют собой одно целое, постоянно взаимодействуют, поддерживают связи с внешним миром (который одновременно и питает эту лечебницу) и строят собственные отношения на его основе. Недаром вахмистру Штудеру лечебница в Радлингене представляется «огромным пауком, опутавшим своей паутиной всю близлежащую округу». А доктор Ладунер, главный врач, предостерегающе напоминает несколько растерявшемуся сыщику, что «никто не может без ущерба для себя долгое время иметь дело с сумасшедшими» и что «общение с ними заразительно для психики даже здорового человека».
Неудивительно, что Штудер, приглашенный главным врачом сумасшедшего дома расследовать дело о таинственном убийстве директора, не справляется со своей задачей. Пока он привыкает к необычным условиям, пока адаптируется в царстве, где правит безумие, гибнут еще два человека. И хотя преступление, в конце концов, раскрыто, вахмистру в финале нечем похвастать. Напротив, он получает от Ладунера нагоняй за нерасторопность. И Штудер принимает упреки — он действительно опростоволосился, позволил обвести себя вокруг пальца. Но поражение поражению рознь. Штудер (а вместе с ним и читатель) обогащается пониманием того, что сумасшедший дом в миниатюре повторяет структуру внешнего мира, и царящий в нем непорядок не дано устранить даже самому удачливому детективу. Глаузеру в этом романе важно было не столько раскрыть одно конкретное преступление, сколько понять, точнее, заставить понять других, почему, например, неглупый, но очень мало зарабатывающий разнорабочий Питерлен до такой степени не хотел иметь ребенка, что пошел на его убийство, в чем причина того, что монолит человеческого сознания так часто дает трещины, что гуманное вроде бы общество живет с задней мыслью: «Изничтожить все человечество на белом свете, и как можно скорее».
Тревога не оставляет Штудера не только потому, что на него угнетающе действует атмосфера психбольницы. Сумасшедший дом есть сумасшедший дом, тут уж ничего не поделаешь. Но на поверхность пробиваются и другие источники беспокойства, причем пробиваются из внешнего мира. По радио (а действие, не забудем, происходит во второй половине 1930-х годов) раздаются бравурные военные марши, слышатся истеричные речи больших и маленьких фюреров, волны коричневой заразы докатываются из соседней Германии и до нейтральной Швейцарии, находя там сочувствие и поддержку, особенно у таких людей, как давний противник Штудера полковник Каплаун. Безумие властвует не только в сумасшедшем доме — оно, похоже, претендует на то, чтобы править миром. Однако эту тему Глаузер не успел разработать подробнее — помешала ранняя смерть. Но его отношение к фашизму (тому есть и прямые публицистические свидетельства) было однозначно отрицательным.
Уже одно то, что мотив сопротивления национал-социалистической опасности зазвучал в детективном романе, говорит о значительном вкладе Глаузера в тематику этого жанра. Но обогащение, приращение шло и по другим линиям, причем нередко оно было неожиданным и для самого автора. «Работа над книгой принимает комический оборот, — писал он из психлечебницы в Вальдау, той самой, где обретался и Роберт Вальзер. — Я задумал ее как непритязательное, немного злое сочинение на тему о достославной психиатрии, детективный роман, каких теперь много, и вдруг все оборачивается другой стороной, книга к моему неудовольствию становится поэтической (ну что тут скажешь!), ее персонажи начинают жить собственной жизнью и отказываются вести существование марионеток, со мной происходит то же, что и с режиссером в пьесе Пиранделло “Сегодня мы импровизируем”: актеры не хотят быть персонажами, им вдруг захотелось жить. Ужасная история. Теперь уже не скажешь: “В угол, веник. Сгиньте, чары!” Веник объявляет всеобщую забастовку. Получается не детективный роман, а нечто совсем другое. И Глаузера мороз подирает по коже. Иногда он по полчаса корпит над одной фразой, но затем, покачав головой, решает, что люди, которые будут читать эту книгу, просто не заметят разницы между двумя вариантами. И я радуюсь, что они будут читать ее как довольно скучный детективный роман, и втихомолку посмеиваюсь в кулак, потому что получается нечто совсем другое, но никто этого не заметит»23.
Глаузер, таким образом, преодолевает жесткую схему детектива, но не сминает ее, а насыщает новым содержанием. Его вахмистр Штудер не придерживается испытанных схем расследования, он опирается на интуицию, доверяет смутному чувству симпатии или антипатии. Способен ли данный человек совершить преступление — вот вопрос, на который он пытается ответить. И первое впечатление чаще всего оказывается верным. Основа его сыскного метода — умение «накапливать незначительные повседневные наблюдения, терпеливо складывая их вместе, камешек к камешку, как делают мостовую. Наконец, дорога готова, и она ведет к преступнику»24.
Обычно в детективном романе читатель усваивает точку зрения преследователя, охотника за преступником. У Глаузера этого нет: Штудер ищет не столько виноватого (который может оказаться без вины виноватым), сколько истину. Он не просто расследователь противоправного деяния, он исследователь жизни. Для Глаузера важнее знать, почему было совершено преступление, чем кем и как оно было совершено. Его герой не претендует на то, чтобы в обязательном порядке восстановить нарушенное социальное равновесие, он лишен признаков идеального героя, чего не скажешь, например, о чандлеровском Марло, который делает больше, чем под силу одному человеку, его подвиги не всегда достоверны, они в сильной степени зависят от невероятных совпадений и счастливых случайностей.
Конечно, Штудер тоже по-своему идеален. Это человек чуткий, справедливый, интеллигентный. Такого, видимо, хотел бы иметь своим отцом и сам Глаузер. И все же главная его черта — человечность. Своей обыкновенностью он отличается не только от Пуаро, Марло и иже с ними, но и от детективов Фридриха Дюрренматта. Инспектор Берлах из романов Дюрренматта «Судья и его палач» («Der Richter und sein Henker») и «Подозрение» («Der Verdacht»), Маттеи из романа «Обещание» («Das Versprechen») — фигуры гротескные, даже «демонические», в противном случае на фоне завалов зла они показались бы пигмеями. Дюрренматт делает их, не без налета иронии, «романтическими гигантами»25. Но есть и другое отличие. Глаузер, даже отдавая должное случайности, не возводит ее в абсолют, не приносит ей в жертву всю совокупность причинно-следственных связей; его вахмистр Штудер верит в возможность хотя бы частично восстановить попранную справедливость. Дюрренматтовский Маттеи эту веру утрачивает: столкнувшись с нелепой случайностью, спутавшей все его расчеты, гениальный сыщик сходит с ума. Он так и не выполняет своего обещания — поймать и обезвредить опасного преступника.
Не только в своих трагикомедиях, но и в детективах Дюрренматт прибегает к иносказанию, параболе, создает «модели мира». Ситуации, которые эти модели воспроизводят, возможны в любой западноевропейской стране. Глаузер же предельно конкретен, топография его романов и рассказов подчеркнуто швейцарская. Он смело вводит в языковую фактуру местную специфику, но делает это за счет весьма умеренного употребления диалекта. Обычно швейцарскому писателю нелегко заставить своих героев разговаривать естественным языком, ведь в жизни они изъясняются на местных говорах, а не на немецком, как в книге. Глаузеру это удается. Когда читаешь его романы, особенно роман «Крок и компания», создается впечатление, что они написаны на швейцарском диалекте и что этим диалектом ты уже почти овладел.
Структура швейцарского варианта немецкого языка чувствуется не только в словоупотреблении (Chabis, Meitschi, nüt Apartigs вместо Unsinn, Mädchen, nichts Besonderes), но в грамматике, в синтаксическом строе. Локальная языковая окраска помогает создать атмосферу доверительности, причастности к происходящему. Так говорят свои со своими. О значении незнакомых слов легко догадаться из контекста. Есть у «швицердюч» еще одна функция: он служит более точной характеристике взаимоотношений между персонажами. Всякий раз, когда Штудер переходит на безупречный немецкий язык, он выражает отрицательные эмоции: отчуждение, недоверие, презрение, скепсис. И наоборот, положительные эмоции выражаются с использованием местных слов, речений и оборотов, и чем они сильнее, тем гуще диалектная прослойка.
Жизнь сурово обошлась с Фридрихом Глаузером. Швецария отторгла его от себя, сделала отщепенцем. Творчество Глаузера — это резкое, лобовое столкновение с действительностью, с ее явными и тайными изъянами и неразрешимыми противоречиями. Одновременно это столкновение художника с самим собой, с собственными — как оказалось, тоже неразрешимыми — проблемами. Неразрешимость противоречий, роковая неотвратимость судьбы придали облику писателя трагический оттенок. Но столкновение незаурядной творческой личности с окружением, лишенным интеллектуальной и духовной подвижности, высветило «момент истины», показало — хотя и с опозданием, — на чьей стороне была правда в ожесточенном противоборстве неравных сил.
Сам изгой, Фридрих Глаузер был бескомпромиссным защитником обездоленных и униженных, непримиримым обличителем социального зла, которого, увы, немало и в благополучных странах. В его художественном арсенале можно найти полный набор средств и приемов обличения — юмор, иронию, сатиру, пародию, карикатуру, гиперболу, гротеск. Как никто другой в швейцарской литературе первой половины XX века, он обнажал бушующие за благообразным фасадом общественные антагонизмы. Но его занимали и общечеловеческие, экзистенциальные проблемы, не признающие национальных перегородок и социальных различий. Высокий художественный уровень современной швейцарской литературы был бы немыслим без творческого опыта Глаузера.
Неповторим Глаузер подкупающей искренностью, чувством Доверия, которое он вызывает к себе у читателя. Не случайно он так часто, особенно в рассказах, пользуется приемом исповеди («Ночная исповедь»). Этот прием доведен им до высокой степени совершенства. Исповедующийся изливает душу, пытается убедить в своей правоте, вызвать к себе сочувствие, но тот, к кому обращено признание, не спешит с изъявлениями солидарности, слушает молча, никак не проявляя своего отношения к делу. Образуется вакуум, в который устремляется читатель. Он как бы идентифицирует себя со слушающим, берет на себя функцию расследования и вместе с писателем втягивается в этот нелегкий, но столь необходимый для сохранения человечности в человеке процесс поисков истины и справедливости. Правда, задуманное не всегда удается осуществить. Зато возникает чувство сотворчества, соучастия в вечно актуальном и всегда немного таинственном деле «вочеловечивания» человека.
Фридрих Глаузер знал, что воспитание сотворчества и соучастия — одна из важнейших задач гуманистического искусства.