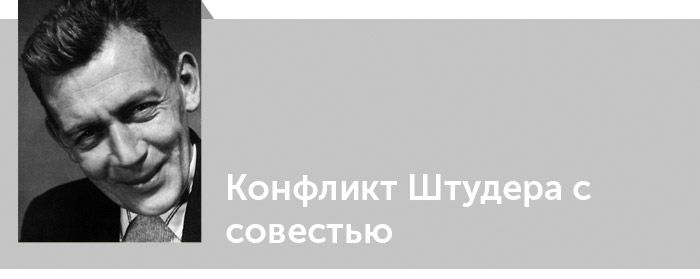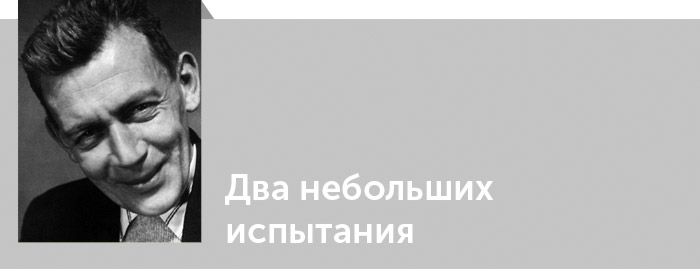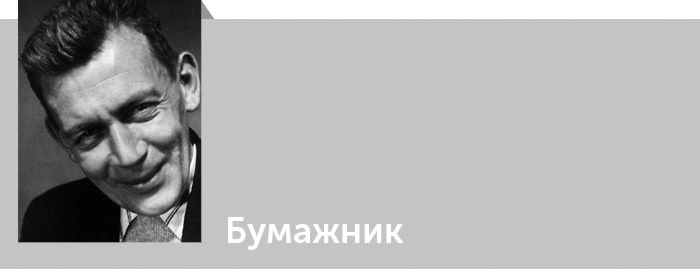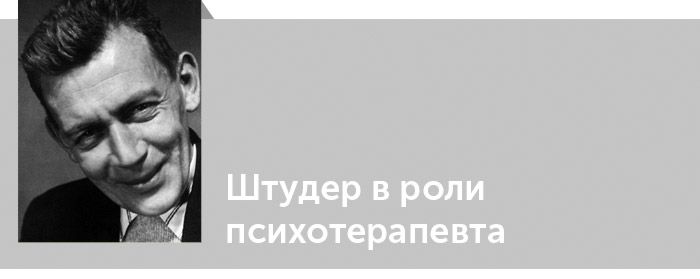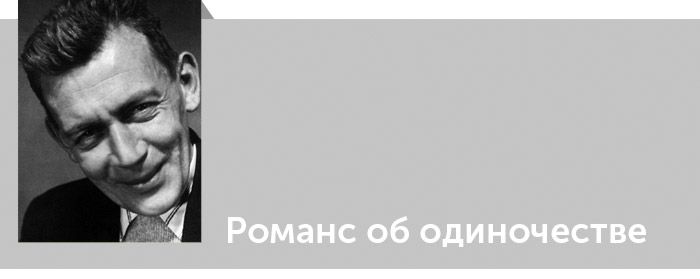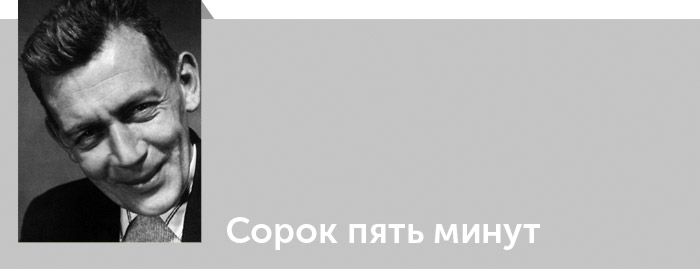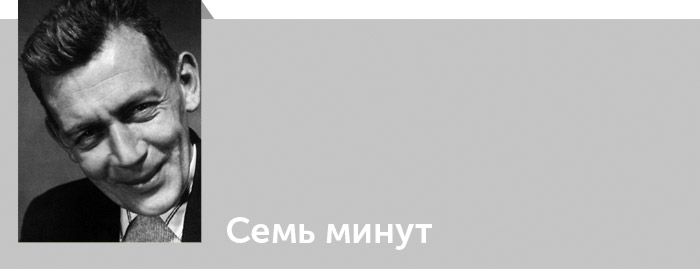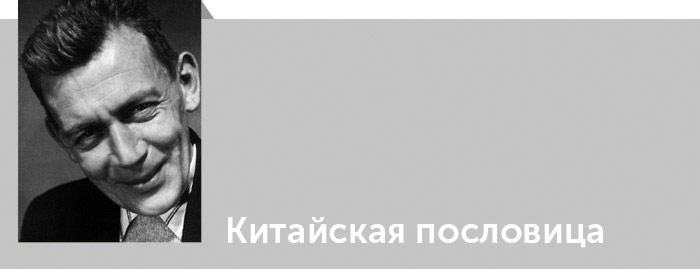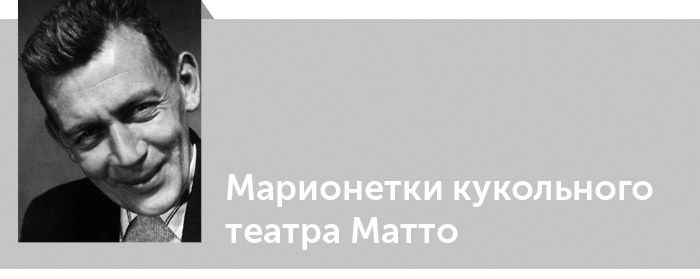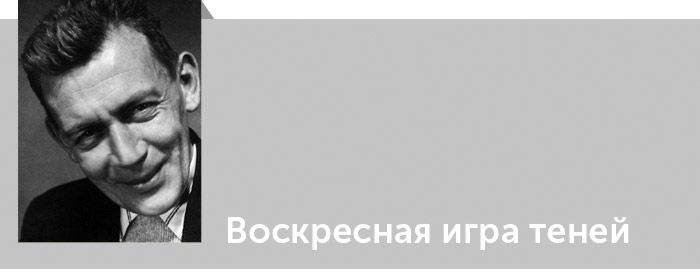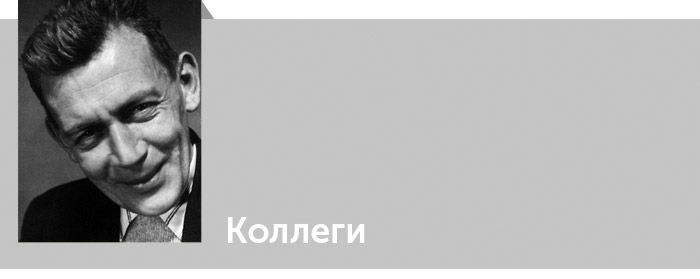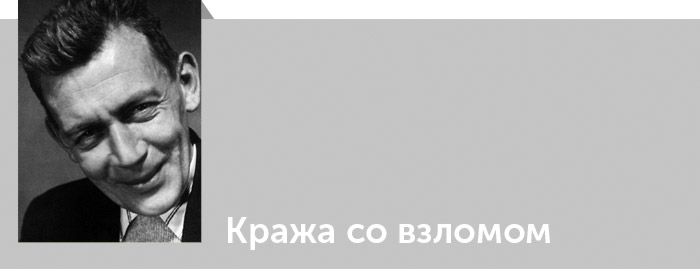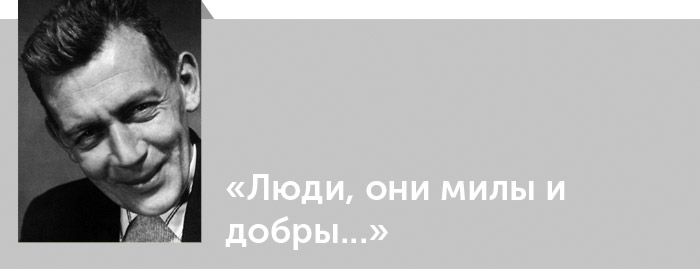Фридрих Глаузер. Власть безумия. Появление Матто

Больше всех Штудера восхищал доктор Ладунер. Он владел искусством быть центром всего и в то же время умел внушить каждому, кто участвовал в разговоре, что именно он, говорящий, и есть главное действующее лицо. Ловкость прирожденного дипломата…
Он дал возможность пастору Вероналу — господину с огромным ртом — поразглагольствовать о позиции швейцарской церкви по отношению к оксфордскому движению, с интересом вслушиваясь в его пространные рассуждения, но потом вежливо прервал его, сказав: «Вы позволите, господин пастор?» — и, обратившись к супруге национального советника, начал хвалебно отзываться о дирекции благотворительного общества, которая действительно очень разумно и внимательно вникает во все просьбы, исходящие от психиатрической больницы в Рандлингене. Супруга национального советника так и сияла, потому что помощником директора этого общества был один из ее братьев. Впрочем, Штудер знал этого человека и считал, что доктор Ладунер нисколько не преувеличивает… У глуховатого чиновника отдела социального обеспечения доктор Ладунер осведомился о судьбе некоего Шрайера, находившегося в Рандлингене на экспертизе и переправленного потом на год в тюрьму Вицвиль. Как у него дела? Как он себя ведет?.. Наверняка господину чиновнику удастся потом, когда Шрайера отпустят, обеспечить его работой; нет, нет, прогнозы не безнадежны… И даже бесконечное восклицание глухого чиновника: «Как вы считае-ете?» — не смогло вывести доктора Ладунера из равновесия — он по три раза повторял одни и те же фразы, если они преследовали свою цель, а тем временем госпожа Ладунер беседовала с супругой национального советника и разливала чай. Господин пастор Веронал пил его с большими дозами рома. И Штудер тоже.
Вахмистра представили, он уселся в уголочке у окна и молча наблюдал за всеми.
В девять часов комиссия поднялась, откланялась, а Штудер остался сидеть. Доктор Ладунер вызвался доставить членов комиссии на машине на станцию, и предложение с благодарностью было принято.
Штудер ждал в своем углу возвращения доктора. Госпожа Ладунер спросила, почему господин Штудер так молчалив, и услышала в ответ лишь ворчливое бормотание. Она умолкла, подошла к окну, где в противоположном от Штудера углу стоял на маленьком столике сверкающий полировкой приемник. Она повернула ручку… Марш. У Штудера отлегло. Все лучше, чем: «Где-то на земном шаре…»
Они оба молча ждали возвращения Ладунера. Как только доктор вошел в комнату, он тут же отправил жену спать, впрочем весьма ласково и заботливо, а потом спросил:
— Вы составите мне компанию, Штудер?
Вахмистр что-то пробурчал из своего угла, что, однако, можно было принять за согласие.
Ладунер помолчал. Потом сказал:
— Жаль Гильгена… — Казалось, он ждал ответа, но в углу по-прежнему было тихо, и он продолжил: — А вы не задумывались, Штудер, что никто не может без ущерба для себя долгое время иметь дело с сумасшедшими? Что общение с ними заразно для психики? Я иногда задаю себе вопрос: а может, как раз наоборот — только те идут в санитары или врачами в дома для умалишенных, у кого не все дома, выражаясь простонародным языком? С той только разницей, вахмистр, что люди, испытывающие тягу проникнуть в мир Матто, знают, что у них с психикой не все в порядке, возможно, бессознательно, но знают. И предпринимают своего рода бегство… Но на воле есть и другие, у кого порой не хватает гораздо больше, чем у первых, но им это невдомек, они даже бессознательно этого не ведают… Представьте себе, однажды в полдень я проходил мимо ратуши и видел, как чиновники толпой хлынули на обед. Я остановился и стал наблюдать за людьми. Весьма поучительное зрелище… Походка, осанка. Один засунул большой палец за жилетку и идет вразвалочку — лицо красное, выражение застывшее, на губах блуждает глуповатая улыбка… Смотри, пожалуйста, сказал я себе, вот перед тобой начинающаяся кататония! И попытался вычислить, когда примерно можно ожидать сдвига. У другого неподвижный взгляд, постоянно озирается, потом уставился перед собой в землю, постоял и пошел, осторожно балансируя, по краю тротуара… Невротик, возможно, даже шизофреник, подумал я. У третьего на лице сияла улыбка, которую принято называть солнечной, голова закинута, идет помахивает тросточкой, раскланивается налево-направо… Естественный вывод: маниакальное расстройство, как у моего Шмокера, совершившего покушение на федерального советника.
Радио в углу все еще по-прежнему тихо играло марши — приятный аккомпанемент к рассуждениям доктора Ладунера.
— Я слышал, вы разговаривали с Шюлем? И он посвятил вам свое стихотворение? Согласитесь со мной, что оно не так уж глупо, в нем полно символов… Иногда я даже завидую ему — у него есть свой Матто… который правит миром! Играет красными шарами и разбрасывает их, отчего вспыхивают революции!.. А если развеваются пестрые гирлянды бумажных цветов, значит, заполыхают войны… Сильное стихотворение. С глубоким смыслом… Мы никогда не сможем провести границу между душевнобольным и психически нормальным человеком. Мы можем только сказать — человек способен адаптироваться в обществе, и чем проще он сможет найти там свое место, чем больше будет стараться понять окружающих его людей, стремиться помочь им, тем нормальнее он по своей психике. Поэтому я все время внушаю санитарам: объединяйтесь, держитесь вместе, старайтесь ладить друг с другом! Организованность — первый шаг к плодотворной жизни в обществе. Сначала общность интересов по труду, потом духовная коллегиальность… Одно вытекает из другого, должно, во всяком случае, вытекать. Добровольно взятые на себя обязательства по отношению друг к другу… Если бы только не трепали так часто на сборищах лозунг: один за всех, и все за одного…
Еще один негромкий марш. Военная музыка звучала по радио…
— Это было бы прекрасно… А что, собственно, делаем мы, такие-сякие психиатры? Мы пытаемся немножко навести порядок, пытаемся доказать людям, что вовсе нелишне вести себя чуть разумнее и не идти на поводу у темных движений души, у бессознательного, хотя бы не всегда… Это рождает хаос. Люди еще не поняли одного, что страдания дают выигрыш в радости… Понимаете? Если какому-либо народу живется слишком хорошо, он становится высокомерным и душа его томится в ожидании страданий. Труднее всего, пожалуй, жить и довольствоваться малым.
Ладунер умолк. Казалось, он говорил больше для себя. У Штудера вдруг возникло ощущение, что всю речь про Питерлена он оценил неправильно.
На самом донышке у каждого человека гнездится одиночество.
Может, доктор Ладунер тоже одинок? У него, правда, есть жена… Но бывают вещи, которые не обсудишь и с женой. У него есть коллеги… Но о чем можно говорить с коллегами? Лишь на узкопрофессиональные темы! Или с врачами тут, вокруг него? Но для них он — учитель… А тут вдруг свалился прямо на квартиру, как снег на голову, простой вахмистр уголовного розыска. И доктор Ладунер воспользовался случаем и произносил перед ним, простым сыщиком, один монолог за другим. А почему бы и нет?
— «Он разбрасывает свои гирлянды, и вспыхивает война…» — повторил доктор Ладунер.
Он замолчал. Звуки военного марша стихли, и вдруг чужой визгливый голос заполнил комнату. Он проникал всюду, обладая гипнотической силой, но был отталкивающе неприятен.
Голос говорил:
«Двести тысяч мужчин и женщин собрались и радостно приветствуют меня возгласами ликования. Двести тысяч мужчин и женщин явились сюда как представители народа, который я ощущаю за своей спиной. Легко мне будет нести ответственность, если я буду знать, а я знаю это наверняка, что весь народ, сплоченно, как один, стоит за мной. Заграница осмеливается уличать меня в нарушении договора. Когда я взял власть в свои руки, страна лежала разоренной, опустошенной, больной… Я сделал ее великой, завоевал ей уважение. Двести тысяч мужчин и женщин внимают моим словам, и вместе с ними внимает им весь народ…»
Ладунер медленно встал, подошел к вещающему ящику. Щелчок… Голос умолк.
— Где кончается мир, в котором правит Матто, Штудер? — тихо спросил врач. — За забором психиатрической больницы в Рандлингене? Вы как-то говорили о пауке, раскинувшем свою паутину. Нити ее тянутся далеко. Они опутывают весь земной шар. Матто разбрасывает шары и гирлянды бумажных цветов… Вы, может, посчитаете меня врачом-лириком. В этом нет ничего дурного. Мы ведь хотим немногого. Принести в мир разумное… Не рациональное, как во времена французского Просвещения, а разумное другого рода и, главное, нашего времени. Разум, способный, как ослепительно яркий фонарь, засветиться в потемках души и внести туда ясность. И хоть немного пугнуть ложь. Оттеснить в сторону громкие слова — долг, истина, порядочность… Сделать их поскромнее… Мы все поголовно убийцы, и воры, и прелюбодеи. Матто затаился и подкарауливает нас во мраке… Черта уже давно нет, он мертв, а Матто живет, тут Шюль абсолютно прав, и, если бы он не надоедал властям, там, на воле, со своим убийством в Голубином ущелье, я бы давно его выпустил. Жаль, что Шюль не выполнил моей просьбы и не написал истории Матто… Его маленькое стихотворение в прозе не поместит ни одна газета.
Он помолчал. Штудер тихонько зевнул. Ладунер не заметил этого.
— «Двести тысяч мужчин и женщин — весь народ…» А коллега Бонхёффер, наш учитель, человек, так много знавший, потерпел неудачу, рухнул, как карточный домик… Вы помните тот знаменитый процесс? Человеку, который только что произнес речь, крупно повезло… Если бы он в начале своей политической карьеры подвергся психиатрической экспертизе, в мире сейчас, возможно, была бы другая ситуация… Я уже сказал вам, общение с душевнобольными заразно для психики. Есть люди, предрасположенные к психическим заболеваниям, вы понимаете меня, восприимчивы к ним… Даже целые народы могут страдать такой предрасположенностью… В одном докладе я даже произнес однажды фразу, из-за которой на меня кое-кто обиделся: некоторые так называемые революции, сказал я, являются по сути не чем иным, как реваншем психопатов. Несколько коллег демонстративно покинули после этих моих слов зал. Но это так… — Ладунер выглядел очень усталым. Он прикрыл рукой глаза. — Мы проиграли, но надо бороться дальше… Никто нам не поможет. Может, борьба наша будет и не совсем бесполезной, может, потом придут другие — через сто, двести лет? — и продолжат наше дело, начав с того момента, где мы остановились.
Вздох. В квартире мертвая тишина.
— Не выпить ли нам по рюмочке «бенедиктина»? — спросил вдруг Ладунер. Он вышел, почему-то странно долго отсутствовал, вернулся, неся поднос с двумя наполненными рюмками.
— Ваше здоровье! — сказал он и чокнулся со Штудером. — Пейте до дна!
Штудер выпил. У ликера был странный горьковатый привкус. Вахмистр взглянул на Ладунера, тот отвернулся.
— Спокойной ночи, Штудер. Желаю вам приятного сна, — сказал он со своей искусственной улыбкой на устах.
Лежишь в постели и не знаешь, спишь ты или бодрствуешь… Сон, как черное покрывало, навалился на тебя, и ты запутался в его складках и никак из него не выберешься… Тебе снится, что ты не спишь. А может, это действительно все наяву?
Комната залита светом. Непонятно только, почему он зеленый, когда на ночнике желтый абажур. И видно, как в этом зеленом тумане кто-то сидит за столом. Он сидит, откинувшись к спинке стула, держит на коленях аккордеон и играет, играет…
«Где-то на земном шаре начинается последний путь на небеса — где, как, когда…»
Удивительно только одно, что мужчина… (а впрочем, мужчина ли это?..) что сидящий за столом мужчина постоянно меняет свой облик… То он крошечно маленький, и только ногти его пальцев удивительно длинные и зеленые, как бутылочное стекло. А то он становится больше и делается толстым, очень толстым. Похожим на Шмокера, покушавшегося на федерального советника. Он произносит, играя на аккордеоне: «Двести тысяч мужчин и женщин…» И поет эти слова на мотив танго «В розовом саду Сан-Суси». А потом вдруг у маленького толстого человечка вырастает за спиной еще пара рук, длинных и тонких, они подбрасывают шары и раскачивают гирлянды бумажных цветов. Шары улетают в открытое окно, а бумажные цветы гирляндами повисают на стенах… Да ведь это казино, и ты сидишь за одним столом с почетными лицами, бокалы наполнены белым вадтским вином. Но в углу сцены сидит, болтая ногами, четырехрукий человечек, он играет на аккордеоне и жонглирует резиновыми мячами…
На свободном пространстве перед сценой кружатся пары. И тут четырехрукий спрыгивает вниз, смешивается с танцующими, ходит, лавируя между ними, как цыган со скрипкой, склоняясь к каждой парочке и извлекая из струн сладчайшие, завораживающие душу звуки…
«Разум», — громко произносит доктор Ладунер. И казино сразу исчезает. В пустынном месте стоят бараки. Громкие крики. Высоко в небе сияет звезда, вот она спустилась вниз и превратилась в светящуюся огнями фабрику с бесчисленным множеством строений. Вонь, глаза начинают слезиться. А четырехрукий играет: «Fridericus rex,
[23]
наш кайзер и повелитель…» И вот они стоят, как немые, застывшие полки: бомба к бомбе, продолговатые и элегантные… «Мое изобретение», — говорит четырехрукий. Одна из бомб разрывается, из нее вырывается желтый газ, в воздухе потемнело, музыка умолкла, и громко и отчетливо звучит голос доктора Ладунера: «Через двести лет мы продолжим наше дело…»
Желтый туман рассеялся, и на широкой равнине остались лишь разбросанные трупы — какие у них странные позы, с вывороченными членами, вроде как у старого директора или маленького Гильгена. Да, верно, один и них и есть маленький Гильген. Вот он встает и говорит «Где-то на земном шаре начинается последний путь на небеса…» — и громко смеется, и от этого смеха Штудер просыпается… с тяжелой, как чугун, головой. В комнате темно, в окно видно, что и двор еще темный.
Черт побери! Зачем это доктор Ладунер подсыпал ему в ликер снотворного?..
Шорох в коридоре. Штудер рывком сел. Щелкнул замок входной двери. Штудер одним махом вылетел из постели. Куда это тайком направился доктор Ладунер?..
Может, доклад про Матто и тот мир, в котором он правит, был не чем иным, как отвлекающим маневром, наподобие доклада о показательном больном Питерлене.
Кожаные тапочки. Взгляд на часы: два часа ночи. Взгляд во двор: чья-то осторожно крадущаяся фигура двигается по направлению к тому углу, где сходятся «П» и «Т».
Как он сказал, доктор Ладунер? Общение с душевнобольными заразно для психики?..
Звуки аккордеона больше не доносились с потолка. Где ж все-таки Питерлен? Собственно, давно пора обследовать чердачок с тем окном, где, по утверждению Шюля, то появится, то исчезнет голова Матто, выскочит — и назад… Может, Шюль действительно там что-то видел, может, он только облек свои наблюдения в поэтические картины? Ведь начальник кантональной полиции, которому он звонил сразу после разговора с госпожой Ладунер, сообщил, что следов Питерлена пока нигде не обнаружено…
Штудер тенью проскользнул по безмолвному двору, вошел в полуподвал отделения «Т». Дверь в котельную была открыта, горел свет.
У подножия лестницы, на том же месте, на каком вахмистр нашел директора, лежал доктор Ладунер, а дверца топки была широко распахнута.
Доктор Ладунер не был убит. Только оглушен. Штудер его пока не стал трогать. Карманным фонариком он посветил в топку. Кожаная папка… Рядом полуобгоревшие листы бумаги. Штудер осторожно извлек их оттуда.
На уцелевших от огня обрывках он сумел разобрать:
«Санитар Кнухель утверждает: он узнал от санитара Блазера, что у Гильгена в шкафу лежит пара кальсон, которая…»
Окончание фразы сгорело.
На другом листе стояло:
«Шефер Арнольд, ум. 25.VIII. Эмболия. „Б“-1.
Вуйемин Морис, ум. 26.VIII. Экзантематозный тиф. „Б“-1.
Мозиман Фриц, ум. 26.VIII. Общая слабость, сердечный коллапс. „Б“-1».
Список умерших, который велел составить директор. Вот еще листок, почти целехонький…
«Глубокоуважаемый господин полковник!
В ответ на Ваше послание от 26.VIII. с. г. сообщаю Вам, что в соответствии с Вашим пожеланием я провел необходимое обследование. Ваш сын в последнее время вновь предался употреблению спиртного, мне лично довелось дважды застать его в здешнем трактире в полупьяном состоянии. Мне кажется, проводимый доктором Ладунером курс лечения результатов не дал, и я позволю себе просить Вас предпринять необходимые шаги для того, чтобы прервать означенный курс…»
— Спасибо, — произнес голос рядом со Штудером. Вахмистр оглянулся. Доктор Ладунер стоял, улыбаясь подле него, потом взял у него из рук листки, сунул их назад в топку, чиркнул спичкой. Бумага вспыхнула. Доктор Ладунер поднес немного сухого валежника сначала положил тоненькие прутики на горящую бумагу потом веточки потолще и наконец сверху кожаную папку. — Сожжем прошлое, — сказал он.
На какое-то мгновение Штудер подумал, он все еще спит и видит сон. Но тут он вдруг заметил, как на загорелом лице доктора Ладунера пятнами проступила бледность и врач покачнулся. Штудер подхватил его. Тяжелый мужчина…
— Кто вас стукнул, доктор?
Ладунер закрыл глаза, он не хотел отвечать.
— И, — продолжал Штудер, — с вашей стороны было неверно подсыпать мне в ликер снотворного. Зачем вы это сделали? Я ведь здесь для того, чтобы защитить вас. А как я смогу это сделать, если вы будете усыплять меня?
Ладунер открыл глаза.
— Вы потом позже все поймете… Возможно, мне нужно было больше доверять вам… Но никак нельзя было…
На затылке у доктора Ладунера была шишка, она так и выступала из-под хохолка на макушке, торчавшего, как перышко цапли, а из-под него сочилась кровь.
— Мне бы немножко посидеть, — сказал доктор Ладунер усталым голосом. — И немножко воды, если вы будете столь любезны…
Он улыбнулся, спародировав манеру старшего санитара Вайрауха.
Штудер вышел из котельной и пошел в «Н», поскольку это было единственное отделение, где он ориентировался. Там он ворвался в кухню на первом этаже, нашел кувшин для молока, вмещавший два литра, наполнил его водой и отправился в обратный путь. По дороге, в полуподвале, он наткнулся на человека, крадущегося в темноте. Штудер увидел его только тогда, когда зажег свет. Тут мужчина остановился, он был коренастый, мускулистый… Может, кто из санитаров, возвращающийся с ночного рандеву?..
Приземистый человек спросил:
— Что-нибудь произошло?
— Не твое дело, — ответил Штудер ворчливо.
— Не случилось ли чего с доктором Ладунером?
— Нет, ему немного не по себе, и ничего больше.
Человек облегченно вздохнул. И прежде чем Штудер успел его схватить, чтобы порасспросить о том о сем, он исчез в темном боковом коридоре, на нем тоже были мягкие тапочки — шагов его слышно не было…
Штудер промыл доктору Ладунеру рану, перевязал ее своим чистым носовым платком. Потом осторожно повел его через двор, вверх по лестнице.
На сей раз было кстати, что ночной сторож уже совершил свой обход.
На башенке молоточек пробил четыре удара, а потом, чуть нежнее, еще три. Последний, прозвучав, оставил после себя дребезжащее эхо.
— Ах, Эрнст! — всплеснула укоризненно руками госпожа Ладунер. На ней был красный пеньюар. Штудер помог ей уложить доктора Ладунера в постель. Потом откланялся, пожелав им доброй ночи. Его обрадовало, что госпожа Ладунер посмотрела с благодарностью ему вслед. Придя в свою комнату, он невольно задумался над сценой в исправительной колонии господина Айххорна в Оберхоллабрунне.
Похоже, что все-таки это иногда сопряжено с опасностью, когда «выпускают пар» из назревшего протеста, подумал он. И как в тумане, он впервые вдруг увидел то, что называется кончиком веревочки — тем кончиком, за который стоит только потянуть, как клубок и распутается… Но он еще не ухватил его. Он только видел, какого он цвета, и больше ничего. Может, в том, что он дал сейчас маху, была виновата его сонная чумная голова…
- Беспризорники
- Хлеб-соль
- Место преступления и парадный зал
- Белый кардинал
- Санитарный пост в «Н»
- Матто и рыжий Гильген
- Обед
- Покойный директор Ульрих Борстли
- Короткая интермедия в трех частях
- Показательный больной Питерлен
- Ночные размышления
- Разговор с ночным санитаром Боненблустом
- Штудер в роли психотерапевта
- Бумажник
- Два небольших испытания
- Конфликт Штрудера с совестью
- «Люди, они милы и добры...»
- Кража со взломом
- Коллеги
- Воскресная игра теней
- Марионетки кукольного театра Матто
- Китайская пословица
- Семь минут
- Сорок пять минут
- Романс об одиночестве