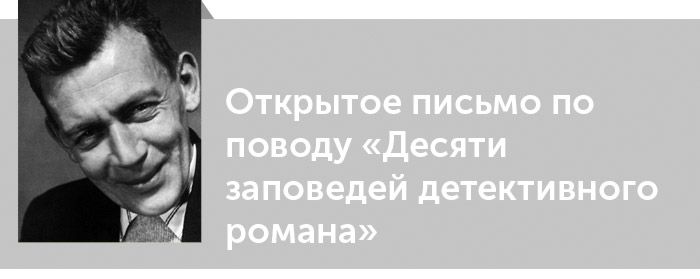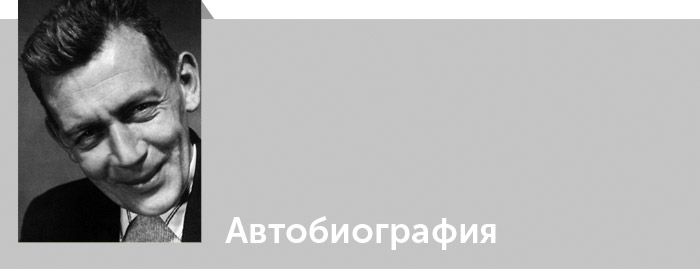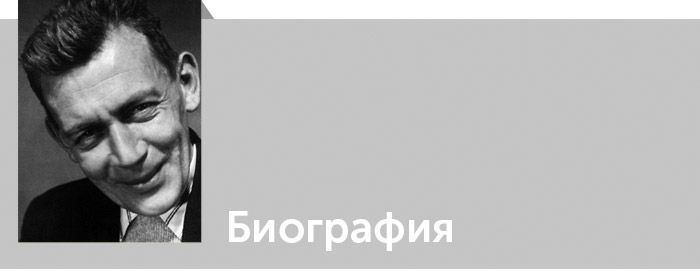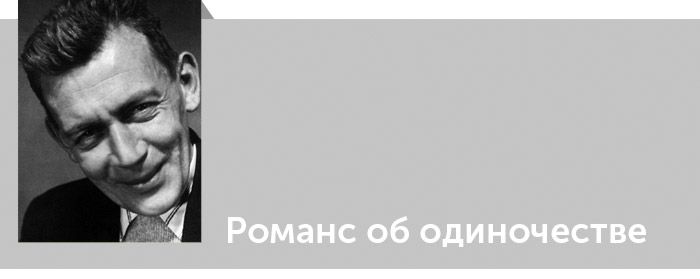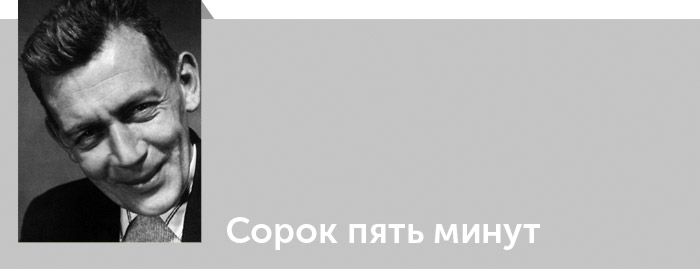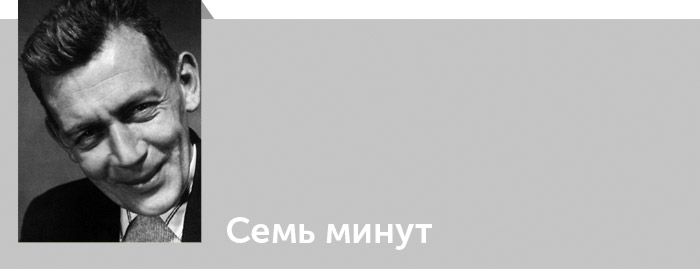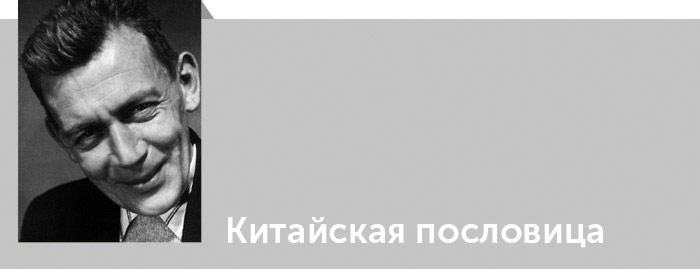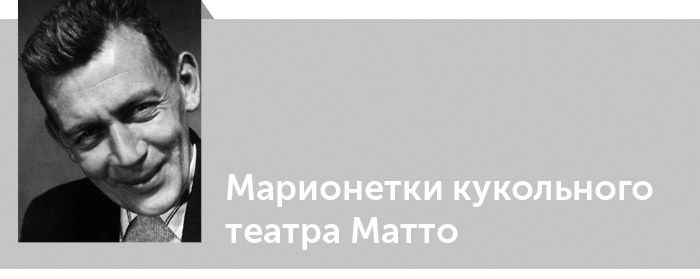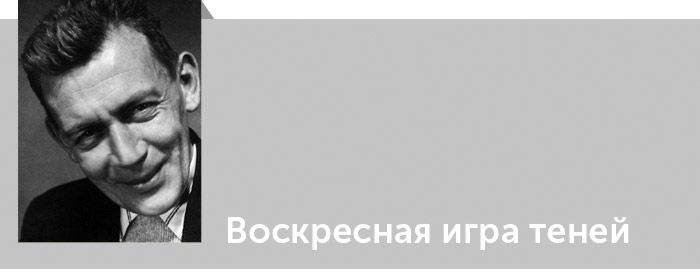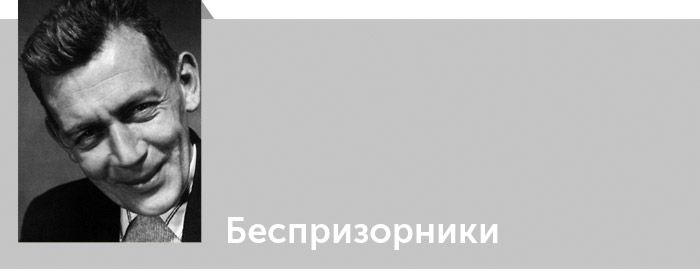Фридрих Глаузер. Власть безумия. Хлеб-соль
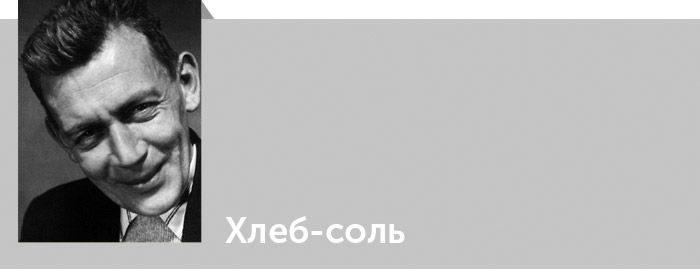
Доктор Ладунер показал на первое окно справа от входа и сказал:
— Кабинет директора.
Слева в нижней части окна дыра величиной с кулак… На карнизе осколки стекла, насыпались и на клумбу, разбитую между порталом и красной кирпичной стеной.
— Внутри вид довольно жуткий. На полу кровь, пишущая машинка у окна ощетинилась вздыбившимися рычагами, рабочее кресло перевернуто, валяется, как в обмороке… На всю эту картину мы полюбуемся попозже, не горит, вы и потом успеете насладиться своими криминологическими исследованиями…
Почему все его остроты звучат так вымученно? Искусственно, что ли… Штудер посмотрел на доктора Ладунера, но так, словно хотел запечатлеть в памяти кадр, способный измениться уже в следующее мгновение. Серый костюм, ярко-синий галстук и торчащий на макушке хохолок, как перья на голове длинноногой цапли. Улыбка — верхние зубы широкие, правильной формы, с легкой желтизной. Наверняка доктор Ладунер много курит…
— Идемте, Штудер, а то прирастем к этому месту. Я хочу вам только одно сказать, прежде чем мы войдем в эту дверь: вы в гостях у бессознательного, оно здесь у себя дома и властвует безраздельно, или — как более поэтически выражается мой друг Шюль — перед вами открывается темное царство, которым правит Матто.[4]
Матто!.. Этим именем Шюль окрестил духа безумия. Поэтично, ко-нечно… — Доктор Ладунер сделал ударение на первом слоге. — Если вы хотите до конца разобраться в случившемся, а я смутно подозреваю, что оно сложнее, чем мы сейчас думаем, если вы хотите во всем этом разобраться, вам придется влезть в шкуру других… — Слово «влезть» врач произнес, подчеркнуто выделяя его. — Мою, например, некоторых санитаров, многих пациентов… Я повторяю: пациентов, а не сумасшедших… Только тогда, может, вам постепенно откроется коннексия, то есть связь, между исчезновением нашего директора и бегством пациента Питерлена… Все это импондерабилии, или, другими словами, непредсказуемые психологические факторы…
«Импондерабилии»… «коннексия»… и «ко-нечно» с ударением на первом слоге — все это компоненты личности по имени доктор Ладунер, думал Штудер.
— Впрочем, дискрепанция, то есть разрыв между реальным миром и царящим тут у нас, — продолжал доктор Ладунер, медленно поднимаясь по ступеням, — лишит вас, пожалуй, поначалу обычной уверенности в себе. Вам будет здесь неуютно, как бы не по себе, так происходит с каждым, кто впервые попадает в сумасшедший дом. Но потом это неприятное ощущение уляжется, и вы уже не будете видеть слишком большой разницы между писарем вашей канцелярии, имеющим свои причуды, и страдающим кататонией пациентом, треплющим шерсть в отделении «Н».
На стене, справа от входа, висел барометр, ртутный столб которого розовато светился в лучах утреннего солнца. Часы на башне тоскливо отбили четыре четверти, возвестив о полном часе, а потом проиграли несколько мелодичнее шесть раз — шесть часов утра. Последний удар был каким-то дребезжащим. Штудер даже оглянулся. Небо обрело окраску вина, именуемого виноделами розовым; в ветвях елей, росших за чугунной оградой по обе стороны от въездных ворот, слышался гомон птиц. Черный шпиль кирхи в деревне Рандлинген маячил где-то вдалеке…
Войдя внутрь, они опять поднялись по ступеням. Справа нечто вроде церковной кружки с надписью: «Жертвуйте для бедных больных!» Над нею плита из зеленого мрамора. Золотыми буквами увековечены имена благодетелей и пожертвованные ими суммы; так, семья Хиз-Изелинов дала на основание психиатрической лечебницы 5000 франков, а семья Бэрчи 3000 франков. На плите было оставлено место для имен новых благотворителей.
Пахло лекарствами, пылью и мастикой для полов. Странное смешение запахов, которое будет преследовать Штудера в течение нескольких дней. Направо и налево расходятся коридоры. Оба упираются в глухие массивные двери. Лестница посредине ведет в верхние этажи главной части здания.
— Я пойду вперед, — бросил Ладунер через плечо. Он перешагивал сразу через две ступени, и Штудер едва поспевал за ним, отдуваясь. На втором этаже он перевел дух и посмотрел в окно, обозревая огромный двор, где газоны были равномерно разделены дорожками. Посреди двора примостилось низенькое зданьице, позади него высилась, словно вонзаясь в небо, труба. Стены из красного кирпича, покрытые шифером крыши украшены многочисленными башнями и башенками… Вот, наконец, и третий этаж, доктор Ладунер толкнул стеклянную дверь и крикнул: «Грети!»
Ответил низкий голос. Навстречу шла женщина в красном пеньюаре. Короткие светлые волосы, слегка вьющиеся, широкое лицо, почти плоское. Она прищурилась, как это делают иногда близорукие.
— Моя жена, Штудер… Грети, кофе готов? Я голодный… Вахмистра будешь потом разглядывать, за завтраком… А сейчас покажи ему его комнату, он будет жить у нас, мы уже договорились.
И доктор Ладунер вдруг куда-то исчез, как растворился. Его проглотила одна из дверей.
У женщины в красном пеньюаре была приятная на ощупь, теплая и мягкая рука. Она заговорила на бернском диалекте, приветствуя Штудера своим низким голосом и извиняясь, что не одета; ничего удивительного при всей суматохе, сказала она, в три часа ночи ее мужа подняли с постели трезвоном из-за того, что сбежал Питерлен, а потом обнаружили следы крови в директорском кабинете, а самого директора нигде не могли найти — исчез, как сквозь землю провалился… Вообще ночь была очень короткой, вчера ведь был «праздник серпа». («Праздник серпа»? — повторил про себя Штудер. Что еще за «праздник серпа»?) И все легли спать только в половине первого… Но господин Штудер, наверно, хочет немножко освежиться с дороги, не будет ли он так любезен пройти вот туда… Длинный коридор был выложен цветными керамическими плитками с шероховатой поверхностью. За одной из дверей плакал ребенок, и Штудер отважился робко спросить: может, госпожа доктор сначала успокоит ребенка? Успеется, а покричать детям полезно, легкие развивает… Вот и комната для гостей, а здесь вот рядом ванная. Господин Штудер может здесь располагаться, как дома… Вот мыло и свежее полотенце… Она позовет его потом, когда завтрак будет готов…
Штудер вымыл руки, вернулся в комнату, подошел к окну. Посмотрел во двор. Мужчины в белых фартуках несли большие бидоны, на руке у некоторых из них покачивался поднос, прямо как у официантов.
У края одного из зеленых квадратов газона росла рябина, увешанная ярко-красными кистями ягод, ее перистые листья отливали осенним золотом.
В глубине двора из стоящего в сторонке двухэтажного здания вышли двое мужчин. И на них были белые фартуки. Они шли друг за другом, шагая в ногу, а между ними покачивались черные носилки, к которым был привязан гроб. Штудер отвернулся. Где-то подспудно мелькнула мысль, сколько же человек умирает в таких вот психбольницах, после стольких проведенных здесь лет, и как они умирают… Но тут его позвал уже знакомый голос приятного низкого тембра.
— Господин Штудер, не хотите ли позавтракать? — услышал он на бернском диалекте.
— Да, госпожа доктор! Иду, иду.
Столовая была залита утренним солнцем. Холодные лучи света проникали сквозь огромное окно, доходившее почти до полу. На кофейнике восседала связанная из пестрой шерсти грелка-колпак. Мед, свежее масло, хлеб, под прозрачным колпаком — эдамский сыр в красной кожице… Стены в темно-зеленых тонах. С потолка свисал абажур из золотой парчи, напоминавший кринолин для маленькой девочки. На госпоже Ладунер было светлое льняное платье. Она открыла дверь в соседнюю комнату.
— Эрнст! — позвала она.
Ей ответил нетерпеливый голос, послышался скрип отодвигаемого стула.
— Так, — сказал доктор Ладунер. Он уже сидел за столом. Никак нельзя было уследить, когда он уходит и приходит, он двигался быстро и бесшумно. — Ну, Грети, как тебе нравится Штудер?
— Да ничего, — ответила жена. — У него мягкое сердце, он не может слышать детского плача, а так он очень даже тихий, его почти не слышно. Но надо все же получше разглядеть господина вахмистра.
Она достала из футляра, лежавшего около ее тарелки, пенсне, пристроила его на переносицу и стала изучать Штудера, чуть улыбаясь. Ее лоб слегка наморщился. Да, так оно и есть, как она думала, сказала она через некоторое время. Господин Штудер вовсе не похож на сыщика, и Эрнст был абсолютно прав, что привез его сюда…
— Пожалуйста, господин Штудер, кушайте, не стесняйтесь… Яички? Хлеб?..
— Ко-нечно, — сказал доктор Ладунер. — Я тоже так думаю, это было весьма разумно с моей стороны — затребовать именно Штудера. — И он постучал серебряной ложечкой по яйцу, разбивая его.
Штудеру положили на тарелку глазунью, полив ее маслом со сковородки. И тут разыгралась странная сцена.
Доктор Ладунер вдруг взглянул на него, схватил левой рукой корзиночку с хлебом, правой — граненую хрустальную солонку, стоявшую перед его тарелкой, протянул то и другое вахмистру и тихо произнес, как бы вопрошая:
— Хлеб-соль… Принимаете хлеб-соль, Штудер? — При этом он твердо посмотрел вахмистру в глаза, искусственная улыбка исчезла с его губ.
— Да… С удовольствием… Мерси… — Штудер несколько смутился. Он взял ломтик хлеба, посолил глазунью…
Доктор Ладунер тоже взял после него кусок хлеба, насыпал белые крупинки соли в свое разбитое яйцо и пробормотал невнятно:
— Хлеб-соль… Хлебосольный хозяин пока в целости и сохранности…
На его губах опять появилась улыбка-маска, и он сказал совсем другим голосом:
— Я ведь вам еще ничего не рассказал про нашего исчезнувшего директора. То, что его фамилия Борстли, это вы, пожалуй, знаете. Зовут Ульрих… Ули — прелестное имя, и дамы его так звали..
— Ах, Эрнст! — с упреком произнесла госпожа Ладунер.
— Чем ты недовольна, Грети? Я не имел в виду ничего предосудительного. Обычная деловая констатация факта… Каждый вечер, ровно в шесть, господин директор отправлялся в деревню Рандлинген к своему приятелю, мяснику и хозяину трактира «У медведя» Фельбауму — здешней опоре крестьянской партии. Там он выпивал три стаканчика сухого белого вина, иногда два, но чаще три. Два раза в месяц господин директор напивался пьяным, но этого никто не замечал… На нем всегда была длинная развевающаяся накидка из грубошерстного сукна и широкополая черная шляпа с висячими полями, как у художника… Впрочем, он обычно давал заключения по хроническому алкоголизму. Тут он наверняка был компетентен… Хотя это не совсем точно. Он начинал их, я имею в виду экспертизы, а потом ему все надоедало, и он спихивал их мне. Меня это не раздражало, мы ведь вполне ладили с господином директором. Извините, Штудер, если я рассказываю без должной серьезности. Господин директор питал, собственно, слабость к хорошеньким сиделкам, и деревенские простушки чувствовали себя очень польщенными, когда он выказывал им свое благоволение, ущипнув слегка за щечку или любовно похлопав рукой, что являлось адекватным выражением его восхищения их округлыми формами… Но, как принято говорить в старинных романах, последуем, наш любезный читатель, вслед за событиями далее… Вчера в десять часов вечера, во время «праздника серпа», господина директора позвали к телефону, и с того момента он исчез. Маленькое любовное приключение? Возможно. Сомнение и тревогу во всю эту историю вносит, собственно, только исчезновение пациента Питерлена, покинувшего свою комнату, расположенную рядом с санитарным постом, оставив на пороге избитого ночного санитара. Зовут его Боненблуст, на лбу у него огромная шишка размером с яйцо. Таков результат его столкновения с рвавшимся на свободу Питерленом. Вы потом сможете устроить ему перекрестный допрос… Повторяю только, не упускайте из виду одного: господин директор очень любил хорошеньких сиделок… Но соблюдайте секретность и такт, если мне позволено просить вас об атом. Директора психиатрических лечебниц — табу для больных, они словно папы римские в миниатюре и в качестве таковых обречены на непогрешимость…
— Ах, Эрнст! — опять произнесла госпожа Ладунер и тут же засмеялась. — Он так комично говорит! — извинилась она.
Тут что-то не так… Доктор Ладунер вовсе не говорил комично. Да и реплика его жены была всего-навсего обманным маневром, она не могла не заметить, что ироничный тон, в каком вел свой рассказ доктор Ладунер, звучал фальшиво. Она была неглупой женщиной, эта госпожа доктор, сразу по ней видно. И то, что она прибегла к обычно не употребляемому в диалекте слову «комично», лишь подтверждало впечатление, что тут что-то не так… Но что? Слишком рано сопоставлять сказанное и строить версии. Может, совет доктора Ладунера пожить здесь и ко всему попривыкнуть был все же честным и искренним; можно было бы задавать пока ничего не значащие вопросы, преследовавшие одну цель — прояснить обстановку, в которой приходится действовать.
— Вы тут упомянули «праздник серпа», господин доктор. Что это такое было? Я, конечно, знаю, что такое «праздник серпа», но как-то не могу себе его представить в психиатрической больнице…
— Ну, мы стараемся развлечь наших пациентов. Больница располагает большими земельными угодьями, и, когда зерно собрано… — (Как он книжно выражается! Не «хлеб сжат», а «зерно собрано».) —…мы празднуем. У нас есть небольшая капелла музыкантов, она играет обычно во время воскресных проповедей, а по праздничным дням накрываются столы, выносят «ноги», как здесь называют окорока, подают к ним картофельный салат, играет музыка, и наши бедолаги пациенты танцуют друг с другом и с санитарами и сиделками, а господин директор произносит речь, потом все пьют чай — снимают, одним словом, эротическое напряжение… Вот так… Вчера, первого сентября, мы праздновали, значит, сбор урожая, у нас был «праздник серпа». Мы, почетные лица, то есть директор, господин управляющий с супругой, доктор Ладунер с супругой, заведующий хозяйственной частью без супруги и все врачи, сидели на сцене — раз есть капелла, значит, и сцена есть — и смотрели на танцующих. Пациент Питерлен тоже был там, он играл, чтоб было подо что танцевать, он мастер извлекать из аккордеона звуки вальсов и танго. В десять часов Юцелер подошел…
— Кто такой Юцелер? — спросил Штудер, вытаскивая свой блокнотик. — Вы извините, доктор, но я плохо запоминаю фамилии, и мне приходится их записывать…
— Ко-нечно! Ко-нечно! — сказал доктор Ладунер, бросил нетерпеливый взгляд на часы и зевнул. Госпожа Ладунер начала убирать со стола.
— Итак, мы имеем, — произнес Штудер с чувством, с толком, с расстановкой, прекрасно осознавая, что ломает немножко комедию, но в данный момент ему это было весьма даже на руку, — итак, мы имеем следующих действующих лиц: Борстли Ульрих, директор — исчез. Питерлен… Как зовут Питерлена?
— Петер или Пьер, если вам так больше нравится, он родом из Биля, это на границе с Францией, — в тон ему ответил доктор Ладунер, не теряя выдержки и терпеливо разъясняя.
— Питерлен Петер, пациент, сбежал… — медленно диктовал себе Штудер, записывая.
— Ладунер Эрнст, доктор медицины, главный врач, заместитель директора.
— Этого мне нет необходимости записывать, я его знаю, — сухо отреагировал Штудер, делая вид, что не замечает скрытой колкости.
— Ну тогда у нас есть ночной санитар…
И Штудер записал:
— Боненблуст Вернер, ночной санитар в «Н».
— И, — сказал Ладунер, — запишите еще: Юцелер Макс, санитар отделения, мы говорим между собой просто «палатный» из «Н».
— Что означает буква «Н»?
— «Н» означает «надзорная палата». Туда попадают все, кто к нам поступает, но некоторых больных мы держим там по нескольку лет. Смотря по обстоятельствам. «Т» — отделение для «тихих», «П» — психосоматическое отделение, для больных с телесными недугами, ну и остаются еще два отделения для «буйных»: «Б»-один, «Б»-два. «Б»-два — изолятор с боксами для возбужденных больных. Это сразу видно… На дверях только инициалы. Впрочем, палатный Юцелер понравится вам, один из лучших моих людей… Кого только не бывает среди санитаров! Эту публику невозможно даже сплотить и организовать как надо!
Организовать? — подумал Штудер. А какого мнения был старый директор по поводу того, чтоб их «организовать»? Но он промолчал и только спросил, покачивая карандашом над своим блокнотом:
— А что там, собственно, с Питерленом?
— С Питерленом? — переспросил доктор Ладунер, и улыбка исчезла с его губ. — О Питерлене я собираюсь рассказать вам все сегодня вечером. Питерлен… Чтобы дать сведения о Питерлене, нужно много времени. Потому что Питерлен был не то что директор, или какой-нибудь санитар, или просто любой человек, каких много. Питерлен был показательный больной. Можно сказать, объект, достойный внимания…
Штудер обратил внимание на то, что доктор Ладунер говорит в прошедшем времени: «Питерлен был…» Так, как обычно говорят только о мертвых… Но он промолчал. Доктор сделал резкое движение, встал, потянулся и спросил, обращаясь к жене:
— Хашперли в школе?
— Да, он уже ушел. Он позавтракал на кухне.
— Хашперли — мой семилетний сын, если вам это тоже надо записать, Штудер, — сказал доктор Ладунер с застывшей улыбкой на лице. — Впрочем, мне пора на конференцию, а вы можете пойти вниз и осмотреть кабинет… Кабинет директора. Место преступления, если вам угодно. Хотя нам пока вообще еще неизвестно, было совершено преступление или нет.
При выходе из квартиры произошла еще одна заминка. На лестничной площадке перед дверью стоял молодой человек, он непременно хотел поговорить с доктором Ладунером.
— Потом, Каплаун, мне сейчас некогда. Подождите в гостиной. Я поговорю с вами после конференции, перед обходом.
И Ладунер запрыгал по лестнице вниз, перескакивая сразу через три ступени.
Но Штудер не последовал за ним. Он остался стоять на площадке, уставившись на человека, которого доктор Ладунер назвал Каплауном. Каплаун? Каплаун была фамилия его «лучшего друга» — полковника, замешанного в спекуляции, в той самой банковской афере, которая стоила тогдашнему комиссару бернской полиции Штудеру карьеры. В Швейцарии не так уж много Каплаунов, это редкая фамилия…
Однако то не был господин полковник: мужчина, вошедший в квартиру доктора Ладунера и проскользнувший в гостиную, где он, по-видимому, не раз бывал, был молод. Молодой тощий блондин с впалой грудью. Бледный, к тому же с вытаращенными глазами. Каплаун?..
Штудер догнал доктора Ладунера совсем внизу. Тот бегал нетерпеливо взад и вперед.
— Господин доктор, — сказал Штудер, — вы назвали молодого паренька, вошедшего к вам, Каплауном. Не родственник ли он?..
— Господину полковнику, подставившему вам тогда ножку? Да. Господин полковник его отец. А молодой Каплаун лечится у меня. Частным образом. Я провожу сеансы анализа. Типичный случай фобии, то есть навязчивого страха. Ничего удивительного, при таком-то отце! А впрочем, Герберт Каплаун пьет. Да, его зовут Герберт. Вы его тоже можете занести в свою книжицу…
Штудер опять постарался сделать вид, что не слышит, иронии. С самым добродушным выражением лица он невинно спросил:
— Навязчивый страх? Что это такое, господин доктор?
— О боже! Не могу же я здесь, на ходу прочитать курс лекций о неврозах. Я вам потом объясню… Вон там кабинет директора. А рядом ординаторская. Сейчас я буду занят в течение часа, если вам что понадобится, обратитесь к швейцару. Впрочем, не забудьте записать, его фамилия Драйер.
И Штудер услышал еще только, как хлопнула дверь в ординаторскую.
- Беспризорники
- Место преступления и парадный зал
- Белый кардинал
- Санитарный пост в «Н»
- Матто и рыжий Гильген
- Обед
- Покойный директор Ульрих Борстли
- Короткая интермедия в трех частях
- Показательный больной Питерлен
- Ночные размышления
- Разговор с ночным санитаром Боненблустом
- Штудер в роли психотерапевта
- Бумажник
- Два небольших испытания
- Конфликт Штрудера с совестью
- «Люди, они милы и добры...»
- Кража со взломом
- Коллеги
- Появление Матто
- Воскресная игра теней
- Марионетки кукольного театра Матто
- Китайская пословица
- Семь минут
- Сорок пять минут
- Романс об одиночестве