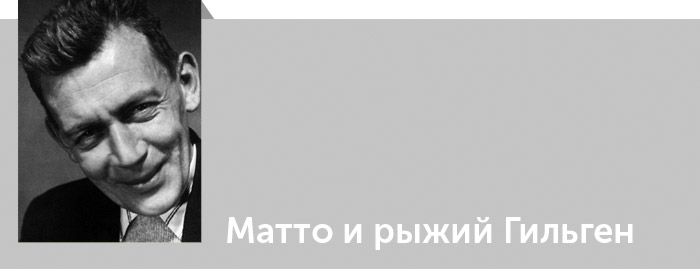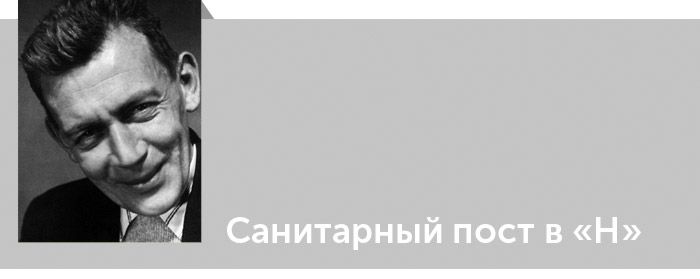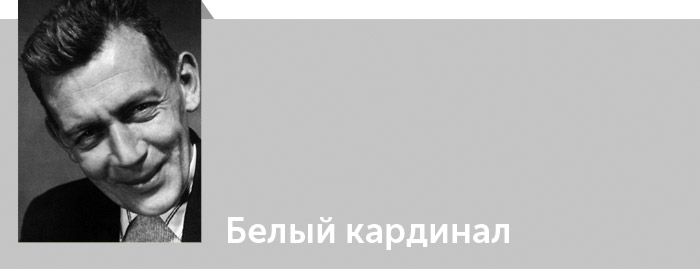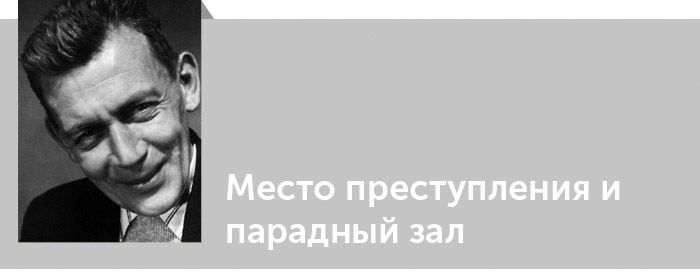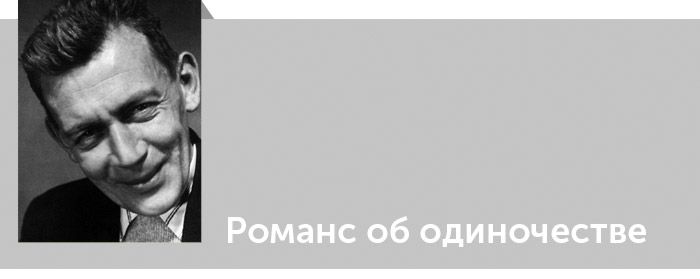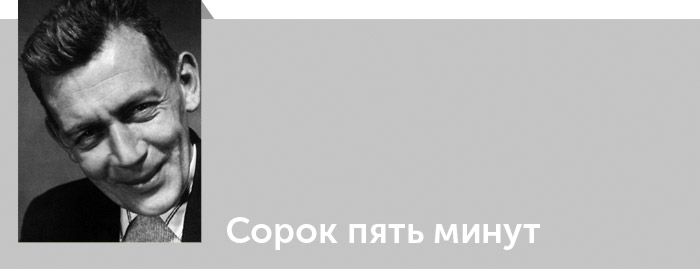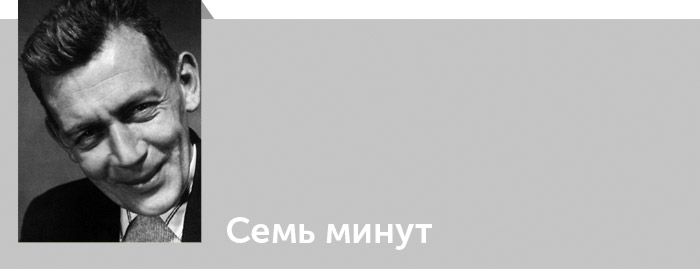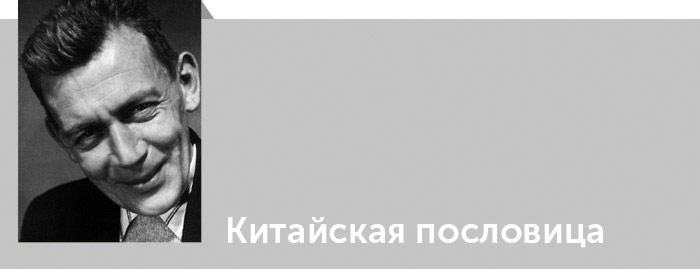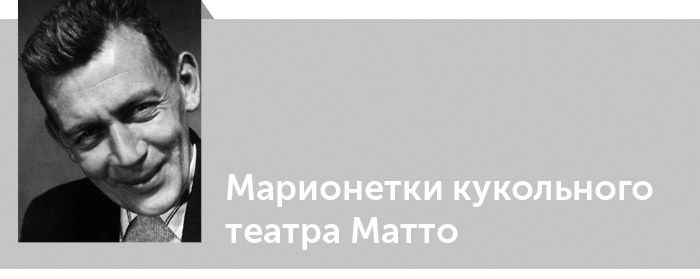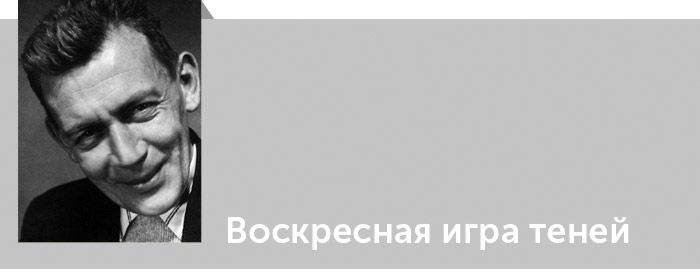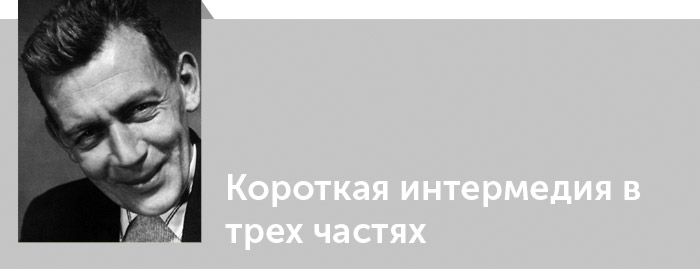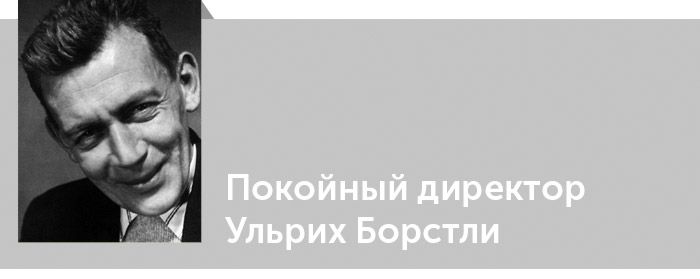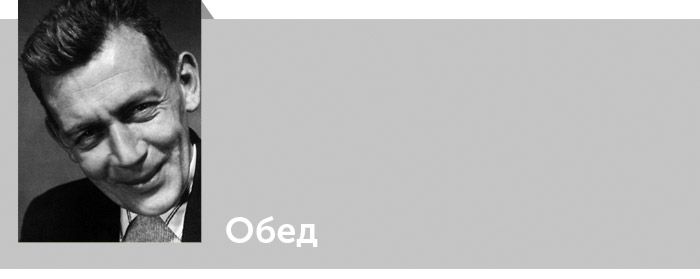Фридрих Глаузер. Власть безумия. Показательный больной Питерлен
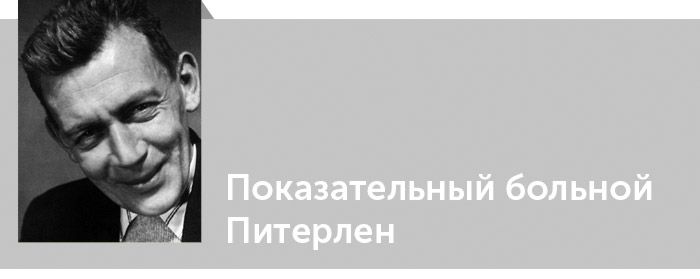
Прочтите вот это, — сказал доктор Ладунер и протянул Штудеру через маленький круглый столик лист бумаги. Потом откинулся в кресле, оперся локтями о подлокотники, положив подбородок на кисти рук.
Разрисованный пергаментный абажур на настольной лампе насквозь светился яркими цветами. Штудер подался вперед и начал читать:
«Лд… Не прерывает допрос полицейского ни единым взглядом; когда на него смотрят, на лице появляется странная, немотивированная улыбка. Его спрашивают, какой сегодня день, он думает и отвечает с каким-то удивительным безразличием: „Четверг“. Чтобы ответить, ему приходится задумываться. В заключении он с февраля, его часто лихорадит. На вопрос, с каких пор, он отвечает опять так, будто это не его касается: „Уже четыре года“, имея в виду, что вот уже четыре года каждую весну у него повышается температура. В полицию явился потому, что убил, — и опять на лице улыбка, совершенно безотносительная к словам и полная безразличия к себе. Он прощается, с полицейским тоже. Зрачки не изменены, язык обложен, тремор рук отсутствует, коленные рефлексы живые…»
— Дальше не надо, — сказал доктор Ладунер и взял у Штудера листок из рук.
— Стоп, посмотрите еще на дату…
«16. V.1923 г.»
Ладунер помолчал некоторое время, потом сказал:
— За это я получил от шефа свой первый нагоняй. Он нашел, что описание состояния пациента при поступлении носит лирический, а не научно-деловой характер. Вы обратили внимание на две буквы в начале абзаца? Лд.? За ними — Эрнст Ладунер, которому было тогда тридцать лет, он был молод, очень молод… И именно тогда молодой Ладунер познакомился с Пьером Питерленом. Это было его первое консультативное заключение.
Ладунер закурил сигарету, а потом зажал красную плоскую горящую спичку между большим и указательным пальцами и начал размахивать ею как цветной дирижерской палочкой.
— Питерлен Пьер, тогда двадцати шести лет от роду, обвинен в убийстве: задушил собственного ребенка при родах. И вопросы прокурора окружного суда (я могу их воспроизвести вам по памяти), составленные на их заумном языке, были следующими.
Первый:
Была ли психическая деятельность обвиняемого в момент совершения им преступления нарушена в такой степени, что он не мог осознавать характер своих действий, руководить ими и отдавать себе отчет в их наказуемости?
Второй:
В случае отрицательного ответа на вопрос, находился ли обвиняемый в момент совершения преступления в состоянии ограниченной вменяемости и в какой степени? Два прелестных вопросика… Можете мне поверить, я просидел над ними с десяти до часу ночи, чтобы только до конца понять, что, собственно, эти господа имеют в виду. Настолько я был глуп тогда… Настолько глуп, что после этого случая решил навсегда оставить психиатрию. Но от судьбы, видимо, не уйдешь. Питерлен опять встал на моем пути…
Невменяем и в какой степени?..
Как можно знать такое, Штудер? Разве мне известно, в каком состоянии ваш рассудок? Я могу видеть, как вы работаете, раскрывая преступление, вероятно, я могу составить себе представление, способны ли вы думать логически, устанавливая факты, связывая их один с другим… Но ваш рассудок? Представьте себе, для господ юристов наличие или отсутствие рассудка нужно выразить в процентах! Его рассудок составляет двадцать пять или пятьдесят процентов. Все равно как если бы сказать: акции «Стандард ойл» идут на двадцать или тридцать процентов выше или ниже номинальной стоимости… Мир сошел с ума, право.
Молчание. Из кухни донеслось позвякивание тарелок, а Хашперли громко спросил в коридоре за дверью, можно ли ему пожелать папочке «спокойной ночи». Голос госпожи Ладунер ответил: он должен еще немножко подождать. Врач взял из папки другой листок и протянул его через стол.
— Посмотрите сначала на дату…
Штудер последовал его совету.
«2. IX.1926 г.»
Второе сентября тысяча девятьсот двадцать шестого года.
И он стал читать дальше:
«ТВ. Статус при поступлении. Зарос бородой, в арестантской одежде, шапку держит в руке за спиной, поза неподвижная, следит, однако, за производимым им впечатлением, проявляет особый интерес к своим рисовальным карандашам, боясь потерять их. Деньги могут остаться у директора больницы в Р., произносит он с застывшей улыбкой. На вопрос, имеет ли он жалобы, отвечает: нет, не имеет, кроме того, он написал письмо своему опекуну, д-ру Л. Нет, на эту тему он не желает говорить подробнее. Зажатый, скованный, не подает руки прощающемуся с ним врачу из Р. Когда его спрашивают о причинах такого поведения, отвечает: по его убеждению, это не врач, видимо, возникли отрицательные эмоции».
Штудер положил листок на стол. Он ждал. Ладунер заговорил, не двигаясь, лицо его было в тени:
— Все крутится вокруг второго сентября. Странно. Второго сентября умирает ребенок Питерлена, на следующий год второго сентября Питерлена осуждают за убийство на десять лет тюрьмы. Хотя наше, то есть мое, заключение было для него благоприятным, все дело в том, что он, по мнению прокурора окружного суда, вел себя нагло… Ну пусть. Я пытался разъяснить господину прокурору, ведшему дело, те выводы, к которым я пришел сам, а именно что Питерлен страдает скрытой формой психического заболевания. У нас в Швейцарии есть грамотные прокуроры, но есть и такие, которых я, доведись мне давать заключение, совершенно непредвзято назвал бы нравственными дебилами. Люди, относительно которых ясно как дважды два четыре, что они только потому занимаются преступлениями, чтобы самим не оказаться преступниками. На нашем профессиональном языке мы называем это «освободиться действием от психологического комплекса»… Может, и вы встречали подобных людей. Так вот, прокурор в том промышленном городе принадлежал к этому сорту. Толстый, череп огурцом, курчавые волосы густо напомажены — я и сейчас еще чувствую запах бриллиантина, — коллекционирует гравюры и более активен в эротическом плане, чем в профессиональном. У каждого обвиняемого, будь то взломщик, магазинная воровка, карманный вор или аферистка, он первым делом интересовался его любовными похождениями. Толстые губы, всегда влажные. Если вы выразите удивление по поводу его нездорового интереса к альковным тайнам, он вам ответит, что делает это из чисто психологического интереса. О результатах исследований новейшей школы психиатрии просочилось достаточно много сведений в мир непрофессионалов. Судебные инспектора теперь тоже посещают лекции по психиатрии. Что из этого получается, легко себе представить. Например, такой вот прокурор окружного суда. Он плохо говорил о Питерлене, это я сразу заметил. Потому что Питерлен не ответил ни на один его вопрос, касающийся секса. Напротив, господин прокурор очень хорошо отзывался о его жене. Та, вероятно запуганная до предела, была более податлива и порассказала кое-что из того, что так интересовало господина прокурора, и тому это импонировало гораздо больше, чем резкость и холодность ее мужа. Прокурор заявил: «Что вы хотите, господин доктор, Питерлен — наглый тип, его нужно усмирить. Как он нас водил сначала за нос! Естественно, вы тоже попались на его удочку…» Что я должен был сказать? Я пытался объяснить ему, что Питерлен — больной человек и что я по совести и убеждению врача могу только сказать: наказание, пребывание в тюрьме, в данном случае очень нежелательно и неблагоприятно отразится на больном. Напрасная трата времени. Прокурор высмеял меня. Уж он этому Питерлену насолит, пообещал он и тут же на одном дыхании рассказал мне об одной прехорошенькой официанточке на вокзале в буфете второго класса и о собрании гравюр конца восемнадцатого века с сюжетами на непринужденные темы, которое он приобрел за бесценок. А потом заговорил об иллюстрированном издании мемуаров маркиза де Сада… Все это точно вписывалось в его образ. Я не хочу обобщать, встречаются и в высшей степени порядочные люди среди государственных представителей обвинения, но иногда попадаются и такие, как этот прокурор окружного суда. Что всегда говорил мой старик шеф? «Вы хотите сделать меня, Ладунер, ответственным за то, что все на свете неразумно. Поверьте мне, даже взаимопонимание между двумя противоположными точками зрения не может устранить самих противоположностей…» Он был неглуп, мой старик шеф. Я сказал вам, все вертится вокруг второго сентября. Через три года, день в день, второго сентября, Питерлена, потерявшего рассудок, переводят из места отбывания заключения в психиатрическую больницу того же кантона, где он был осужден. Он мне сказал, еще до заседания суда, что надеется отделаться тремя годами, и я надеялся на то же. Мое заключение свидетельствовало о совершении убийства в состоянии аффекта. И вот прошло три года… Освидетельствование при поступлении производил другой врач. Но я из игры не выбыл, я стал опекуном Пьера Питерлена, да, д-р Л. из Р., кому он писал, — это я…
— И сегодня опять второе сентября, — сказал Штудер. — Пять плюс три, итого восемь, да еще год под стражей во время следствия, все вместе составляет ровно девять лет. Девять лет он находился в неволе.
Штудер сидел, подавшись вперед, опираясь локтями на колени. Так ему удобнее было взглянуть Ладунеру снизу в лицо; Штудер был поражен: маска слетела. Напротив него в кресле сидел моложавый мужчина с мягким овалом подбородка, голос больше не отдавал приказов: «Батальон!.. Слушай мою команду!» Не напоминал деланную интонацию при обращении «дитя мое». Лицо обмякло, губы расслабились, голос потеплел.
Еще более разительная перемена наступила в тот момент, когда открылась дверь и вошел Хашперли пожелать спокойной ночи. Он и Штудеру протянул ручонку.
Затем в комнате опять повисла тишина, колечки дыма заползали под пергаментный абажур и выходили наружу, поднимаясь, как из трубы, синим чадом под потолок.
Ладунер сказал:
— Сначала Питерлен выполнял в тюрьме столярные работы, он сидел в камере и делал гробы. Не думайте, что я сочиняю, я могу вам показать документы из его дела. Просидев целый год совершенно один на один со своими гробами, он был допущен пришивать пуговицы к шинелям и обметывать петли. Еще два года. А потом… — Ладунер порылся в папках, нашел листок и прочитал тем же мягким голосом: — «Тюремный рапорт. Номер 76, заключенный Питерлен. Заметные изменения в поведении: рабочие операции, выполняемые раньше безупречно, производит теперь вдруг неожиданно очень небрежно и без пользы, например петли на шинелях вместо левой стороны делает на правой. Обработка деталей одежды выполнена не по лицевой, а по изнаночной стороне, хотя спутать их невозможно. На предъявленные к нему претензии ответил, что исправится, но продолжает работать в том же духе. Вечером устроил себе ложе под рабочим столом и проспал там всю ночь…»
Шелест бумаги. Ладунер прикурил новую сигарету от огарка только что выкуренной, встал, прошел к окну, посмотрел в ночь, душной, спертой тяжестью придавившую землю.
— Он ушел в себя, начал делать петли не с той стороны… Через три года — это уже второй раз второе сентября… Я не сентиментален, Штудер, поверьте мне, но Пьер Питерлен — это… это… вот именно, это не рядовой случай, а показательный больной. Объект, достойный изучения. — И доктор Ладунер попытался улыбнуться, но у него ничего не вышло.
Штудер слушал и слушал. Дело пациента Питерлена заинтересовало его, а если уж начистоту — не столько дело, сколько тон, каким оно излагалось.
— Как долго вы тянете эту лямку, Штудер? Двадцать лет? Да? Ну что ж, скоро вам светит пенсия… И за эти двадцать лет вам довелось прочесть немало дел. Ведь так? Написать несчетное количество рапортов. Так? Сейчас вы очень удивитесь, Штудер, хотя я знаю, вы и так все время удивляетесь, почему я столь откровенен с вами, почему именно вас пригласил к себе… Признайтесь, вам это показалось довольно странным. Но я проследил ваш путь, мне рассказали о том бое, который вы дали полковнику Каплауну, а потом я прочитал пять ваших рапортов, все они были по одному и тому же делу. Что это было за дело, в данном случае неважно. Но рапорты обратили на себя мое внимание — их тон был совсем иным, чем у ваших коллег. В общие места казенного языка вплеталось нечто необычное. Слова звучали так, будто вы все время пытаетесь понять, разобраться, а поняв, стараетесь донести то, что поняли, до читающего. Я ясно выражаюсь? Поэтому я и рассказываю вам про Пьера Питерлена, потому что он для меня — объект, заслуживающий пристального внимания, и я уверен, что вы не поднимете меня за это на смех. Раньше, боже мой, раньше меня можно было высмеять, было за что, и мой старик шеф проделывал это весьма основательно, особенно тогда, за первую экспертизу. Он был прав. Я, видите ли, вообразил, что господам охранителям правопорядка можно что-то объяснить, тогда как они принимают в расчет только следующее… — Ладунер вынул из папки лист и прочел: — «Тем самым согласно статье 130 УК обвиняемый признан виновным в убийстве, так как умышленно совершил неправомерное действие и с заранее обдуманным намерением второго сентября тысяча девятьсот двадцать третьего года в своей квартире в Вюльфлингене убил ребенка, рожденного живым его женой Кларой Питерлен: накрыл лицо ребенка сразу после его появления на свет полотенцем, прижал его ладонью и придушил ребенка руками, в результате чего тот задохнулся…»
Листок порхнул на пол, Штудер поднял его, положил на стол. Ладунер вышел из комнаты, поговорил за дверью тихонько со своей женой, вернулся, остановился на пороге открытой комнаты.
— Красного или белого?
— Белого! — бросил Штудер, не поднимая головы и чувствуя, что это прозвучало не очень вежливо, но по-другому он сейчас не мог.
— Вы хорошо спите, Штудер? — спросил Ладунер, наполняя бокалы. Он чокнулся с вахмистром, пребывая в рассеянности, и, не дожидаясь ответа, заходил взад и вперед — от письменного стола до другого угла комнаты, где стоял книжный шкаф. — Его жена была кельнершей, подавальщицей в зале, как здесь говорят. В Зитене. Питерлен работал тогда кондуктором на канатке. Они были знакомы уже четыре года. Потом решили пожениться. Но Питерлен потерял работу. Однажды он заболел гриппом. Почувствовав себя несколько лучше, он пошел со своей невестой на танцы, там его увидели с работы и заложили его, он был уволен. Его не очень любили на работе, упрекали в гордыне. Он уехал в один из промышленных городов в Восточной Швейцарии и работал там разнорабочим на машиностроительном заводе. За четыре недели до рождения ребенка они поженились… У меня двое детей, Штудер. Питерлен не хотел ребенка. Заявлял об этом прямо и открыто. Он сказал об этом прокурору, он говорил об этом и мне. «Умышленно и с заранее обдуманным намерением»… Недурно звучит, а? Не находите? Тысяча девятьсот двадцать третий год… Пять лет спустя после окончания войны… Сколько людей погибло на войне. Вы знаете сколько? Около десяти миллионов. Так? И вот Питерлен не хочет производить на свет ребенка… Не по идейным соображениям, хотя он всего начитался… Чтение делает человека гордым, Штудер, и Питерлен был таким. Так утверждали его коллеги по работе и его начальство. Его коллеги в лучшем случае листали иллюстрированные журнальчики, даже детективов в руки не брали, предпочитали игру в ясс, а Питерлен читал Шопенгауэра и Ницше, задумывался о судьбах мира и человечества. В свободные часы он рисовал. Он учил английский, по-французски он и так мог изъясняться… Ею отец — уроженец Биля, потом пас и доил коров в Альпах, своей матери он никогда не знал, она умерла родами… Питерлен не хотел ребенка, потому что был разнорабочим и мало зарабатывал. Он снял отдельную комнату с кухней в деревне Вюльфлинген, жилье там было дешевле, чем в городе. Разнорабочий Питерлен зарабатывал восемьдесят раппенов в час. Вы можете мне возразить: у нас в стране столько-то разнорабочих, зарабатывающих ничуть не больше и имеющих, однако, жену и детей… Вы можете мне сказать, что в соседних странах люди живут в еще более трудных условиях, поскольку у нас есть службы социального обеспечения, благотворительные общества, консультационные пункты по вопросам семьи и брака, лечебницы для алкоголиков, и церковные приюты, и психиатрические больницы, и интернаты для психохроников, и богадельни, и денежная помощь семьям алкоголиков, и сиротские дома… Мы очень гуманны. У нас есть даже залы для заседания суда присяжных, и неподкупные прокуроры, и Федеральный суд, и даже Лига Наций заседает у нас, дорогой Штудер… Мы очень прогрессивная страна. Так почему же тогда разнорабочий Питерлен так не хотел ребенка? Ответ очень прост: да потому, что он психически ненормальный. Но это только легко сказать. А в заключении я написал… — Ладунер опять взял листок бумаги и прочитал: — «Его поступок соответствует мотивации поведения, свойственного характерам аномального типа. Уже в течение нескольких месяцев он находился под влиянием сильного душевного возбуждения, приведшего в конце концов в определенный момент к психическому срыву, толкнувшему его на совершение преступления. Его ни в коей мере нельзя охарактеризовать как преступную натуру. В гораздо большей степени речь в данном случае может идти о ярко выраженной форме врожденных отклонений от норм в характере, например о шизоидной психопатии. Не будет ничего удивительного, если позднее у него разовьется и само душевное заболевание, а именно шизофрения…»
— Шизофрения… — пробормотал Штудер. — Что это такое?
Он говорил невнятно, потому что сидел, зарывшись подбородком в ладони, и пальцы закрывали ему рот.
— Собственно, это означает расщепление, — сказал Ладунер. — Как в геологии. Перед вами гора, она кажется вам спокойной, монолитной, она возвышается над равниной, дышит, над ней роятся облака, а в них набирает силу дождь, ее склоны покрываются травой, тянутся к солнцу деревья. И вдруг землетрясение. Прошла трещина, зияет пропасть, гору расщепило, и она распалась на две части и не кажется больше спокойной и монолитной, она производит ужасающее впечатление — видно ее нутро, да-да, ее внутренности вывернулись наружу… Теперь представьте себе подобную катастрофу в психике… И как геолог с определенностью может назвать причины, приведшие к расколу горы, так и мы с определенностью говорим о психических механизмах, приведших к расщеплению психики. Но мы осторожны, дорогой Штудер, и когда я говорю «мы», то имею в виду нескольких человек в нашей гильдии, не считающих, что загадку человеческой психики можно решить с помощью греко-латинских языковых мезальянсов. Гора! Штудер, представьте себе гору! И ее нутро, вдруг ставшее видимым… Я отведу вас завтра в «Б». Там вы кое-что поймете. Среди прочего и ту странную робость, которая охватывает многих людей, и здоровых тоже, как только они сталкиваются носом к носу с душевнобольными. Один из психиатров как-то сказал, это происходит оттого, что тут напрямую общаешься с бессознательным, находишься как бы у него в гостях. Бессознательное… Вы опять будете спрашивать меня, что такое бессознательное. Это совокупность всего того, чему мы не даем выйти на поверхность, что как можно быстрее задвигаем назад, как только оно сделает попытку высунуть лишь кончик носа… Покажите мне хотя бы одного-единственного человека, который никогда в своей жизни — будучи ребенком или во взрослом состоянии — не совершил, пусть даже только мысленно, убийства, кто никогда никого не убивал во сне… Вы не найдете ни одного. И если бы не это, вы думаете, так легко было бы погнать людей на войну? Приведите ко мне любого добряка отца или самую заботливую мать, и, если они честные люди, они оба сознаются, что не раз и не два, а даже частенько думали порой: «Насколько нам было бы легче без детей!» Но каким путем они могли бы избавиться от своего уже имеющегося ребенка? Получается, им пришлось бы убить его? Вы отец, Штудер… Честно, положа руку на сердце: разве не испытывали вы раньше ощущения, что ваш ребенок — обуза для вас, ограничивающая вашу свободу? Ну?
Штудер хмыкнул. Хмыкнул очень сердито. Он не любил, когда ему так назойливо лезли в душу. Конечно, у него бывали такие мысли, когда его дочка была еще совсем маленькой и он не мог иногда по ночам спать, потому что ребенок кричал. Возможно, он тогда даже вслух произносил нечто вроде: черт бы побрал это проклятое отродье… Но от подобного высказывания до убийства ребенка… Хотя…
— Всяк волен думать, что пожелает, — сказал Ладунер и печально улыбнулся. — И пока это лишь думы, лишь желания и мы не находимся в их власти, все хорошо и в порядке и общество довольно. Один автор провозгласил в своей книге: «Частная собственность — это воровство!» Ему за это ничего не будет и с ним ничего не случится, во всяком случае сегодня. Но попробуйте начать жить согласно этому утверждению, и вам придется арестовать самого себя. Ведь так? Напишите и провозгласите во всех газетах: «Производить сегодня на свет детей — безумие!» — и перейдите после этого к делу. Вам не придется убивать ребенка, достаточно всего-навсего сделать один запрещенный аборт. И потом вы сможете на досуге поразмышлять несколько лет в тюрьме Торберг о том, какую статью вы нарушили. А Питерлен как раз и не думал о статье. Он месяцами размышлял о том, что ребенок должен родиться на свет, что он его будет растить с грехом пополам на свои восемьдесят раппенов в час. Он предложил своей жене переехать в Женеву. Она не захотела. И вот он приходит однажды очень поздно домой — работал сверхурочно, — где-то после полуночи, и видит в своей квартире свет… Я ездил тогда в Вюльфлинген, крошечная деревушка, кругом холмистая местность, а дом в котором жил Питерлен, стоял несколько на отшибе, уже почти за деревней. Мне необходимо было увидеть комнату, увидеть его жену. Я мог вызвать ее к себе, но мне хотелось увидеть ее в той обстановке, в которой она жила в течение тех четырех недель вместе с Питерленом, я хотел увидеть лампу, ту лампу… — Ладунер поискал нужный листок, потом вытянул его за нижний край, похлопал по нему раза два рукой и начал читать: — «Жена не могла заглянуть в люльку, потому что он опустил лампу почти до полу и обернул ее бумагой, в комнате было очень мало света. После чего он взял лопату и закопал ребенка в лесу. Чтобы быть уверенным, что не зарыл его живым, он затянул на горле ребенка узлом веревку. Его жена ни о чем не знала…»
Молчание.
Штудер уставился на абажур. Руками он намертво вцепился в подлокотники своего кресла. У него было так же на душе, как однажды во время полета над Альпами — самолет неудержимо падал в яму, и тогда откуда-то из живота поползло ощущение, что вокруг него нет ничего прочного, все ходит ходуном… И он в отчаянии вцепился обеими руками в ручки кресла, осознавая, что это не поможет… На белой бумаге черные буквы от пишущей машинки… Слова, слова, фразы… Кто-то читает эти слова и фразы, и вдруг возникает ощущение комнаты, в кровати женщина, и висячая лампа на длинном шнуре, и Пьер Питерлен, совершивший убийство, «умышленно и с заранее обдуманным намерением»…
— «Он имел такую власть над женой, — читал Ладунер монотонно, однако интонация была такой необычной, что Штудер несколько насторожился, — мог так сильно на нее влиять, что она даже не пыталась противиться его воле. Она согласилась не вызывать ни повивальную бабку, ни акушера…»
У Ладунера запершило в горле, он откашлялся. Штудер мысленно отвлекся, несколько фраз отзвучало, не дойдя до его сознания, потом он услышал:
— «…чтобы задушить его. Ребенок издал только один короткий писк, и Питерлен не думал, что он мог быть услышан женой, потому что был к тому же приглушен полотенцем. Он показал ей ребенка, но так, что она даже не могла увидеть, мальчик это или девочка. В действительности это была полностью выношенная девочка, родившаяся живой…»
Ладунер убрал листок назад в папку, постучал нижним ее краем по крышке стола, выравнивая разрозненные листки, и потом еще долго возился с ней, пока она не легла вровень с краем стола. Он прикрыл глаза рукой и заговорил опять:
— Комната… Двуспальная кровать. На стенах грязная штукатурка, местами отвалилась. Три стула, стол, покрытый ярко-зеленой скатертью, отороченной бахромой… у женщины усталый вид, ее ведь тоже арестовали! Потом выпустили, потому что муж взял всю вину на себя. Она сидела у стола и перебирала зеленые кисти скатерти, я мало с ней разговаривал. Темный человек, к тому же в полной растерянности. Она даже глаз на меня не подняла. Среди всего прочего она сказала: ее муж, собственно, был счастлив только с ней и очень редко откровенничал с другими. Друзей у него не было… «Такой умница!» — сказала она. Когда я уходил, мне было ясно: его жена была согласна — согласна с совершенным преступлением. Она довольно определенно дала это понять. Мне дала понять. Но на суде она все отрицала. Она сказала: «Мой муж полностью подчинил меня себе…» Что бы вы сделали, Штудер? Повергнуть еще одного человека в беду? Назвать в медицинском заключении все своими именами? Я знаю, мой знаменитый коллега, например, — он похож на актера Бассермана, игравшего в фильме «Мандрагора» таинственного военно-медицинского советника, — так вот, мой знаменитый коллега готов в любое время дня и ночи поддержать правосудие, угодливо подпевая ему. Он и судья, и врач в одном лице. Прекрасно! Когда умеешь так калькулировать, чья сторона перетянет… А я этого не умею. Я скромный человек, Штудер, и если я говорю «скромный», то это первый признак того, что я им, по сути, не являюсь. Но все же я еще верю, что всяк сверчок должен знать свой шесток. В конце концов я врач, душевный врач, как нас иронически зовут в народе, потому что мы иногда смешно выглядим с нашим набором непонятных латинских слов. Но это уж дело второстепенное…
Ладунер встал, резко и неожиданно, он был без пиджака, и его руки, когда он уперся ими в бока, казались на фоне белой рубашки совсем черными.
— Небольшая преамбула: у нас в больнице есть три случая хронического алкоголизма. Один из них — мужчина, теперь уже сорока лет, потерял свое место из-за запоев. Он произвел на свет семерых детей, все они живы, детей и жену вынуждено содержать государство, государствоже вынуждено платить больнице и за него самого. Второй случай: разнорабочий, с известными нам восемью-десятью раппенами в час, женился, поскольку хотел иметь что-то от того, что мы на сегодня называем жизнью, а именно жилье, где он был бы у себя дома, женщину, принадлежащую ему. Имея восемьдесят раппенов в час, широко не размахнешься, мужчина был абсолютно в норме, поначалу, жена тоже. Трое детей. На жизнь не хватало. Муж начал пить, жена стирать белье. Еще двое детей. Самое дешевое — домашняя водка из яблочных отходов. Стакан такого зелья стоит двадцать раппенов. Можно ли требовать от него, чтобы он пил благородное вадтское вино по пять франков за бутылку? Нет, нельзя. Ведь так? У человека был дом. Но ноша стала непосильной, ему хотелось забыться… Можно ли принуждать людей все время иметь перед глазами собственную нищету? Я в этом не уверен. А вот господа из социального обеспечения убеждены, что можно, за то им и деньги платят… Но не будем заходить так далеко… Однако яблочный первач вреден для здоровья, он может однажды дать поразительный наркотический эффект, он его и дал. Результат? Муж здесь, у нас, жена получает небольшое пособие от муниципальных властей, дети на государственном обеспечении… А третий случай еще более трагичный… Не будем его пока трогать, он похож на два первых. Короче, в третьем случае мы имеем пятерых детей. Муниципальные власти, государство заботятся о них. Давайте посчитаем, Штудер: семь детей в первом случае, пять во втором и еще пять в третьем. Итого семнадцать детей да шесть человек взрослых, и все они на шее у государства. А Пьер Питерлен был осужден на десять лет тюрьмы, поскольку умышленно и с заранее обдуманным намерением убил своего рожденного живым ребенка, совершив неправомерное действие — накрыл ему лицо сразу после его появления на свет полотенцем, прижав его ладонью, и придушил ребенка руками, в результате чего тот задохнулся… — Ладунер провел пальцами по волосам, попридержал торчавший на макушке хохолок, но тот непослушно выпрямился, вновь вызывая ассоциацию с перышком на голове у цапли. — Знаю, знаю, Штудер, — сказал Ладунер через некоторое время, — все это праздные рассуждения, нам не изменить законов, не изменить нам и людей, но, может, мы в состоянии изменить условия. Особенно для шизоидных типов, а я причислил Питерлена именно к этой группе, хотя, должен признать, такое определение является своего рода уловкой, комфортом в логическом мышлении — именно у шизоидных типов не исключается возможность, что болезнь вообще никогда не проявится… Импондерабилии…
Штудер улыбнулся, подумав про себя: «Что означает просто-напросто непредсказуемые обстоятельства…»
— …играют в этом деле огромную роль. И под импондерабилиями я понимаю, собственно, то, что обычно называют судьбой. Сложись у человека жизнь благополучно, имей он нормальный доход, и могло бы случиться так, что всю свою жизнь он прожил бы никем не замеченный. Может, он стал бы педантом, а может, чудаком, потратившим всю свою жизнь на коллекционирование марок или чужих философских мировоззрений. Кто тут что может сказать определенно? Во всяком случае, с уверенностью можно утверждать: он бы женился или, будем предельно осторожны, искал бы свою женщину, чтобы избежать одиночества. Сказала же ведь его жена, что он только с ней позволял себе быть откровенным… Одиночество, Штудер! Одиночество!..
И не было ничего удивительного, что Штудер подумал в эту минуту о своем посещении пустой квартиры на втором этаже. Там одиночество можно было потрогать руками, — одиночество пожилого человека, покинутого его детьми.
— Одиночество, — произнес Ладунер в третий раз. — Оно бывает и у разнорабочих, получающих восемьдесят раппенов в час, и так же мучительно для них, как и для того, кто живет благополучнее. Питерлен оказался в конфликте с совестью: производить на свет ребенка, получая восемьдесят раппенов в час, или нет? Люди, занимающие более обеспеченное положение, возразят вам: а раньше он получал бы всего лишь тридцать раппенов, да еще был бы доволен, что имеет их. Ну хорошо, пусть так! Но мы живем не в старое время, не тогда, а сегодня. Это не наша вина, что потребности возросли. И Питерлен не годился на роль разнорабочего с восемьюдесятью раппенами в час и многодетной семьей на шее. Может, он вообще не годился на роль отца семейства. И если он потом решил, что имеет право лишить своего ребенка жизни, то этот его поступок, хоть его и трудно понять и он вызывает ужас в душе у каждого, был все же обусловлен реальными фактами, и этими фактами в данном случае были сам тип характера Питерлена, его почерпнутый из книг извращенный взгляд на вещи, его неумение приспособиться к нормам жизни в обществе и найти менее трагическое разрешение своего душевного конфликта. Вы должны понять, Штудер, что судьба этого человека меня глубоко затрагивала. Потому что, несмотря на шизоидный тип его характера, установленный мною на основании диагностических наблюдений, Питерлен был порядочный человек. И когда он попросил, чтобы я стал его опекуном, я согласился. Может, еще и потому, что тогда я просто никак не мог понять, почему этот поступок, объяснение которому лежит на ладони и которое если я не очень заблуждаюсь, я постарался изложить в силу своих скромных умственных способностей как можно яснее на бумаге, чтобы донести его до полного понимания со стороны господ блюстителей порядка, — почему такой поступок… Я напомню вам: жена в постели, лампа обернута бумагой и спущена почти до полу, полотенце… Так вот, почему такой поступок, совершенный в отрезок времени, охватывающий всего лишь несколько минут, должен искупаться заключением в тюремной камере размером два метра на три продолжительностью в десять лет… Свойственное мне чувство равновесия восстает против этого. Чаша весов с наказанием перетягивает вниз, а та, где лежит преступление, взлетает вверх… За что наказание? За то, что Питерлен загубил свое же собственное дитя, испытывая, скорее всего, страх перед ответственностью за него? За то, что он больше думал о себе и о своем благополучии, чем о своем потомстве? Но, Штудер, позвольте мне задать вам один вопрос: если какой-нибудь забулдыга избивает свое дитя и оно умирает от побоев, то это не называется убийством, совершенным умышленно и с заранее обдуманным намерением, а лишь нанесением телесных повреждений со смертельным исходом. Так? Тюрьма до двух лет или исправительно-трудовая колония… А ведь ребенок, до смерти избитый пьянчугой, уже умел чувствовать, испытывал боль, боялся, страдал… Вот если бы такому человеку дали десять лет или пожизненно засадили за решетку, я, видит бог, ничего бы не имел против, и меня не тронул бы даже тот аргумент, который вы, возможно, приведете: человек оказался жертвой своего характера и своей среды. Не будем сентиментальными. Впрочем, я уже смирился с делом Питерлена. Поверьте мне… Смирился, вплоть до сегодняшнего вечера, пока вдруг опять все не полезло наружу. Второе освидетельствование вы уже прочитали. Итак, Питерлен вернулся к нам через два месяца, потому что его спихивали в родной кантон как неизлечимого больного. Он прибыл, и я увидел его вечером на обходе. Я никогда не забуду той сцены. Он узнал меня, но не поздоровался со мной. На губах застыла улыбка, он сидел на скамейке в длинном коридоре в «Н» — приемного отделения тогда еще не построили, — сидел, уставившись перед собой. Я остановился перед ним, он поднялся, заложил руки за спину и отвесил мне церемонный поклон. Он плохо выглядел. На следующий день я осмотрел его. Легкие были слегка затронуты, но ничего страшного. За три дня он не сказал ни с кем ни слова. Он сидел в своем углу, листал иллюстрированные журналы, тупо смотрел в пол, а когда я приходил на обход, он вставал, чтобы, заложив руки за спину, отвесить мне поклон… На третий день он устроил скандал санитару и был невероятно груб. Насколько я помню, из-за пары носков, они были малы ему. На четвертый день, утром (в этот день все чувствуют себя особенно раздражительными), он разбил окно. Я перевел его в «Б», всю ночь напролет он был так возбужден, что пришлось посадить его в ванну. У нас нет смирительных рубашек, вам это известно. Но что же делать с возбудившимся больным? Теплая вода успокаивает. Двое санитаров дежурили при нем, и они знали, что я не милую за синяки. Это всегда самое первое, на что я утром обращаю внимание, когда прихожу делать обход, зная, что возбужденный больной провел ночь в ванне… Как мне ни прискорбно, я должен сделать еще одно отступление, Штудер. Не задумывались ли вы когда-нибудь над следующим: мы или, правильнее сказать, я… могу описать в своем заключении душевное состояние убийцы в момент совершения им преступления, могу вскрыть мотивы, побуждения, механизм поведения. Хорошо… Я знаю, и уже говорил вам, что все мы убийцы — в своих снах, в мыслях, но в нас есть сдерживающее начало. Оно не дает нам дойти до преступления. А как быть, если мы преступили черту и стали убийцей? Оказывает ли преступление на убийцу такое сильное воздействие, что все его мироощущение рушится? Я не говорю сейчас об убийстве по приказу…
Опять прослушивалась странная интонация, как раньше, когда Ладунер читал: «Он имел такую власть над женой…», но тут он вдруг заторопился, словно стараясь что-то затушевать:
— …как во время войны или революции. Там всю ответственность несут вожди. Я говорю о единожды совершенном убийстве, об убийстве в состоянии аффекта. Не допускаете ли вы мысли, что человек, совершив преступление, думает, чувствует, поступает, видит, слышит, ощущает иначе, чем до своего поступка? Не говоря уже о раскаянии, которое является значительно более редким движением души, чем обычно думают. Оно лежит совсем в иной плоскости, я бы сказал, в религиозной, а сегодня верующие, люди с богом в душе, такая же редкость, как и люди с чувством ответственности. То, что сейчас в ходу и провозглашается религией, в лучшем случае, как я вам когда-то говорил в Вене, похоже на рыбий жир. Бытует мнение, он укрепляет организм, но неприятен на вкус, особенно когда глотаешь, да и помогает не очень. Во всяком случае, все испытывают отвращение, и чувство отвращения довлеет над эффективностью полезного воздействия на организм… Крушение мироощущения!.. Мы говорим в таких случаях о шизофреническом ощущении конца мира. Гора, которая расщепилась, — это катастрофа для мироощущения горы… Убийство — катастрофа для всей целостности человеческой натуры… Во всяком случае, с точки зрения психиатрии, а похоже, все свидетельствует о том, что шизофрения — болезнь органического происхождения. Непорядок в функциональной деятельности желез, говоря обывательским языком… В самой начальной стадии ее нельзя распознать, в лучшем случае можно только определить предрасположенность к ней. В случае Питерлена, например, нельзя себе позволить большего, как лишь сказать: в дальнейшем у него, не исключено, разовьется психическое заболевание, и больше ничего. Но если мы можем быть такими дальновидными, значит, мы все же должны суметь объяснить господам судьям, что в случае с Питерленом они имеют дело не с преступником, а с психически больным человеком, что Питерлен умертвил своего ребенка по причинам, понять которые мы с психологической точки зрения еще в состоянии, но которые, однако же, свидетельствуют, что то внутреннее сдерживающее начало, о котором я говорил раньше, у него уже отсутствует… Ну да, я и попытался объяснить все это господину прокурору. И именно господин прокурор был отчасти виноват, что Питерлена доставили к нам в таком плачевном состоянии. Детоубийца Питерлен предпринял бегство в неведомый мир, куда мне нет доступа, ведь моя притча справедлива лишь отчасти. Шизофрению не всегда можно сопоставить с расщепленной горой. Иногда она похожа на стоячий пруд, питающийся своими же собственными водами и не имеющий ни единого свежего притока извне. А иногда на бегство в мир недоступного, и мы стучимся и стучимся в его врата (как поэтично! А, дорогой Штудер?), а бывает, она принимает формы фанатичной одержимости, и невольно вспоминаешь средневековые процессы сожжения ведьм на кострах или изгнания беса у францисканцев, и так хочется иметь под рукой стадо свиней, куда можно было бы загнать нечистых духов. Вот и у Питерлена картина была довольно пестрой. Застывшая мимика, заторможенность движений и аффективность взаимосвязи, если вы правильно меня поняли, означает, мосты между нами рухнули, и не только между ним и мной, а между всем реальным миром и им. Что заменило ему реальную действительность, я могу сегодня только догадываться. То были гробы, его ребенок, и прокурор окружного суда тоже там присутствовал. Питерлен утверждал, пахнет бриллиантином, в его мозгу всплывали также фразы из книг… Но все это существовало не в виде воспоминаний, по отношению к которым мы умеем держать дистанцию, нет, это прошлое в любую минуту могло стать осязаемым, принять телесные формы, оно разговаривало с ним, жило в нем: санитар вдруг стал для него ненавистным прокурором, и Питерлен разбушевался, один из пациентов превратился в его жену, и Питерлен гладил его нежно. Временами появлялся и черт, он был похож на гётевского Мефистофеля, то был книжный черт, и Питерлен отбивался от его нашептываний, а иногда завороженно вслушивался в них, и тогда у него был вид оцепеневшего в экстазе кающегося грешника… Я врач. Я не думал о том, что ждет Питерлена, если я его вылечу. Я думал только об одном, и в этом я должен с покорным смирением сознаться, — как врач, я думал только о том, как вытащить Питерлена из его таинственного мира, заставить замолчать те голоса, что мучали его. Показано было, казалось мне, лечение сном, хотя некоторые соображения говорили против, однако я все же попробовал. Я накормил пациента Питерлена снотворными средствами и погрузил его на десять дней в состояние длительного наркоза. Цель: остановить непрерывный бег видений и голосов. Все видения нужно было утопить во сне. Я объясняю вам все довольно упрощенно, если бы сейчас меня слышали мои коллеги, они бы от души посмеялись. Единственный, кто не стал бы злорадно усмехаться, был бы, пожалуй, мой старый шеф. Он был похож на старенького гнома с бородой, как у Рюбецаля,[9] а руки у него были такие длинные, что пальцы касались колен, когда он, сгорбившись, семенил быстрым шагом. За время длительного наркоза (Юцелер помогал мне, знаете, тот палатный из «Н», другие санитары не годились для такой работы, в нашей больнице тогда царил хаос, как при отделении тверди от хляби) мой Питерлен отощал. Этого следовало ожидать. Когда он проснулся после десятидневного сна, он плюнул Юцелеру в лицо, а меня укусил в руку. Не очень сильно. Он ослаб… Юцелеру приходилось возиться с ним целыми днями, быть все время подле него, играть с ним, водить его на прогулку, заставлять его рисовать… На рисование я возлагал большие надежды… Душа, возвращающаяся из неведомого мира, поднимающаяся из пучин стоячих вод, похожа на гадкого утенка. Хочется научить ее плавать… В результате — фиаско, чтоб не быть многословным. Я откармливал его. И вдруг мой дорогой Питерлен отказался от еды. Кормить через зонд — скучное занятие. Я думал, он кончится прямо у меня на глазах.
Вздох. Вспыхнула спичка, Ладунер сделал глубокую затяжку.
— Потом он вдруг начал есть за троих, как молотилка, стал толстым, перестал кашлять. За десять дней прибавил восемь кило. В остальное время он занимался только тем, что крушил оконные стекла. Может, в своей потерянности он думал, что ломает ту стеклянную стену, что стояла между ним и окружающими его вещами и людьми… А голоса по-прежнему изводили его. У него был целый репертуар изысканных неприличных ругательств, и все они предназначались прокурору, а я имел честь олицетворять его в его глазах. Через три недели я прибегнул к повторному лечению сном — Питерлен весь лоснился от жира, и счет за разбитые стекла рос, несмотря на все меры предосторожности. Столяр, который вставляет у нас стекла, работал тогда только на отделение «Н». Мне не хотелось запихивать Питерлена в ванну, я, собственно, был даже доволен, что он хотя бы стекла бьет. Все-таки чем-то занят, хотя и причиняет один вред. А как можно что-то восстанавливать, Штудер, не разрушив сначала? Оконные стекла или другие какие преграды? Второй курс принес успех. Питерлен проснулся, огляделся, как во время оно Тангейзер, когда вышел из грота Венеры, и это оказалось подлинным пробуждением, он так и остался в светлом разуме… С тех пор прошло уже четыре года… Я вижу, Штудер, мои рассуждения на психиатрические темы не очень-то усыпили вас. Поэтому разрешите задать вам еще один скромный вопрос. Убийца был отправлен несколькими порядочными людьми, честью поклявшимися вершить суд по справедливости, на десять лет в тюрьму. Ладно. Означенный убийца сходит там с ума. В наше гуманное время больной человек не подлежит дальнейшему отбыванию наказания. Его передают нам, мы его вылечим, если у нас хватит умения. И вот он опять здоров!.. Предположим, мы попробуем выправить его психику. Он будет полностью в нашей власти, во власти тех самых психиатров, про которых ходит столько зловещих слухов. Он действительно стал в тюрьме сумасшедшим, теперь это уже не было предрасположенностью стать им… Приговор отменен… Хорошо. Мы, такие-сякие психиатры, считаем его не опасным для общества, что означает, его можно выпустить на свободу; вероятность, что он вновь совершит подобное преступление — в нашем случае детоубийство, — равна, скажем, одному проценту, но мы не имеем юридического права отпустить человека на свободу. Мы можем только войти с ходатайством о его освобождении, и то тогда, когда срок, который он должен был отсидеть в тюрьме, истечет. До тех пор мы обязаны держать его у себя. Логично. Не так ли? Вы можете мне возразить, Штудер…
Штудер даже и в мыслях не имел возражать ему. Он все еще сидел, вцепившись в подлокотники кресла, и думал только об одном: когда же прекратится падение? Он храбро держался, сцепив зубы, хотя ему и было очень плохо.
— Вы можете мне возразить, на свете достаточно больных людей, более достойных, чем осужденные на тюремное заключение детоубийцы. Согласен. Мы не всегда оказываем помощь тем, кто ее заслуживает. В этом мы не виноваты. Мы делаем то, что можем. Но обстоятельства сильнее нас — внешние обстоятельства, или административные власти, следовало бы сказать… Вы не можете сделать меня ответственным за то, что мир устроен нелогично. Итак, я пытался облегчить судьбу Питерлену. Он получил возможность рисовать, я часто беседовал с ним, иногда приглашал его к себе в гости домой. Давал ему читать свои книги. Когда он изъявил желание работать — это случилось год назад, сразу после нашего новогоднего бала, — а ему захотелось пойти в группу маляров, я дал на то свое согласие, хотя знал, почему он хочет пойти именно в ту группу. Он влюбился… Тот самый Питерлен Пьер, показательный больной, достойный внимания. Да… Правда, я не одобрял его выбора, вы, кажется, уже познакомились с сиделкой Вазем и, надеюсь, поймете меня, как, что и почему, короче — я думал, это пойдет ему на пользу и он не предпримет больше попытки дезертировать от меня в тот мрачный мир и не инсценирует мне горного обвала с расщеплением психики. Все было очень трогательно. Меня, естественно, постоянно держали в курсе. Порядок есть порядок. Санитар группы маляров исправно докладывал, палатная сестра отделения «Н» делала вид, что ничего не замечает, и идиллия процветала. Скажите мне, пожалуйста, а почему бы нам однажды и не заиметь в наших мрачных стенах идиллии? Естественно, нашлись люди, которые начали жаловаться на меня: «Ладунер поддерживает разврат» — или еще что-то в этом роде. Рассуждавшие так были ограниченные люди, особенно некоторые из почасовиков… По воскресеньям Питерлену разрешалось ходить гулять с санитаром. Я обычно отправлял с ним Гильгена. Вы его знаете, веселый такой, рыжеволосый…
Голос Штудера был еще сдавленно-хриплым, когда он прервал поток речей Ладунера восклицанием: «Этого я знаю, точно!»
Ладунер посмотрел на часы.
— Поздно уже. Пошли спать? — Он зевнул.
Штудер спросил:
— Питерлен, вероятно, ревновал к директору?
— Очевидно… Жена Питерлена развелась с ним, пока он сидел в тюрьме. С момента его болезни Ирма Вазем его первое любовное увлечение…
Опять молчание. Потом Ладунер сказал как бы между прочим:
— Может, теперь вам понятно, почему я до сих пор избегал объявить розыск Питерлена. Но завтра я это определенно сделаю. Завтра? Вернее говоря — сегодня. Уже час ночи… Закрываем заседание, Штудер? Или у вас есть еще какие-нибудь желания?
Штудер прокашлялся. Ему все еще казалось, он продолжает падать вниз и в животе у него не все в порядке… Он попытался ответить как можно спокойнее, но у него это плохо получилось:
— Да, если можно, господин доктор… Рюмку вишневой водки…
- Беспризорники
- Хлеб-соль
- Место преступления и парадный зал
- Белый кардинал
- Санитарный пост в «Н»
- Матто и рыжий Гильген
- Обед
- Покойный директор Ульрих Борстли
- Короткая интермедия в трех частях
- Ночные размышления
- Разговор с ночным санитаром Боненблустом
- Штудер в роли психотерапевта
- Бумажник
- Два небольших испытания
- Конфликт Штрудера с совестью
- «Люди, они милы и добры...»
- Кража со взломом
- Коллеги
- Появление Матто
- Воскресная игра теней
- Марионетки кукольного театра Матто
- Китайская пословица
- Семь минут
- Сорок пять минут
- Романс об одиночестве