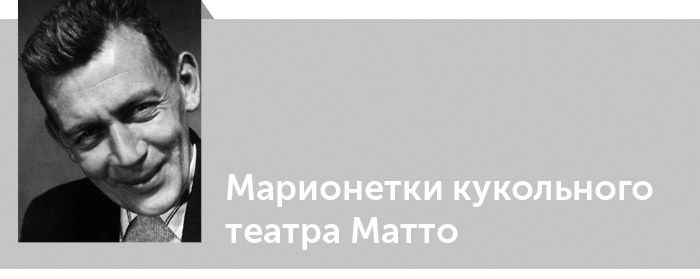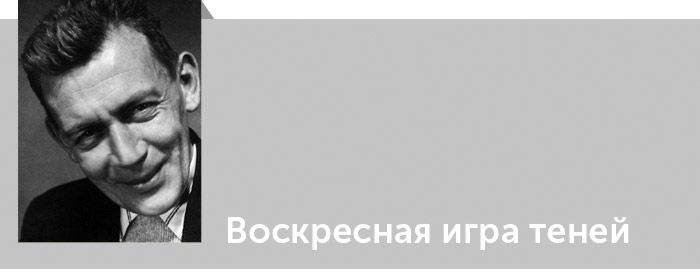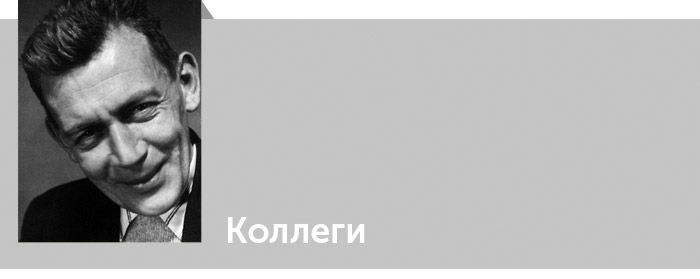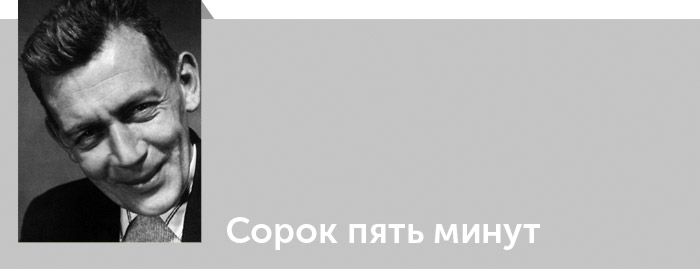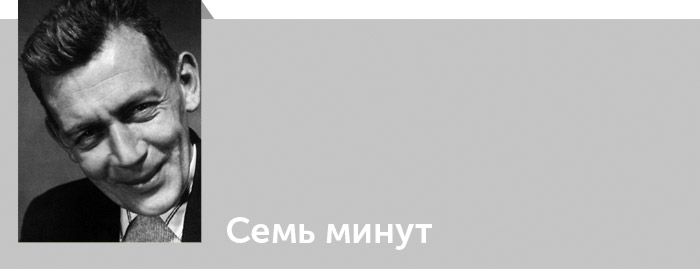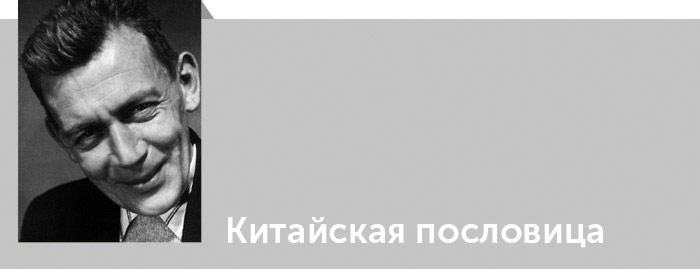Фридрих Глаузер. Власть безумия. Романс об одиночестве

— Оставь, Грети! — сказал доктор Ладунер спокойно, встал и начал ходить по комнате. Наконец он остановился перед Штудером, скрестил опять руки на груди: — Вы еще не спросили меня про смертные случаи в «Б»-один, вахмистр… Что вы думаете обо мне? Я врач, который проводит на вверенных ему больных опасные эксперименты? Или… Каково ваше мнение?
Штудер весь внутренне подобрался. Он попытался твердо взглянуть врачу в глаза, но не справился с этим. Глядя в пол, он произнес:
— Это, пожалуй, дело вашей врачебной ответственности и не касается меня, профана…
— Отлично парировано, Штудер! — Ладунер кивнул, оценив ответ по достоинству. — Однако все же я в долгу перед вами и считаю нужным объясниться. В нашей больнице тиф эндемичен, что означает, его никак не удается искоренить окончательно. Несмотря на все меры предосторожности, время от времени вновь и вновь появляются отдельные случаи заболевания; потом болезнь затухает, чтобы вновь вспыхнуть через месяцы, а то и недели… И вот я заметил, что в отдельных безнадежных случаях — слабоумия, кататонии — после перенесения тифозной инфекции вдруг наступало улучшение. Двоих психохроников, пробывших в больнице больше десяти лет — неизлечимые случаи, как казалось, — стало даже возможным выпустить отсюда, после того как они переболели тифом. Так у меня родилась идея вызывать заражение искусственно. Я пробовал это только на тех пациентах, которые находятся в отделении не меньше десяти лет и состояние которых остается неизменным, нет даже искорки надежды, что оно когда-нибудь улучшится… Я делал это открыто, мои коллеги обо всем знали, мы обсуждали идею эксперимента год назад на конференции. Эксперимент сам по себе не опаснее, например, лечения сном. При лечении сном мы допускаем смертность до пяти процентов… При опытах с тифом она тоже не была выше. Я сказал вам, что мы обсудили эксперимент на конференции — умерший директор дал тогда свое согласие… А чтобы пояснить вам поведение директора в последние месяцы, мне придется прочитать вам небольшой курс лекций об обызвествлении, или склерозе, сосудов и о психическом заболевании, которое мы называем деменцией, или, другими словами, старческим маразмом. В ее начальной стадии болезнь трудно распознать. Она подкрадывается исподтишка… Я был лишен возможности завести историю болезни Борстли Ульриха, доктора медицины, директора психиатрической больницы в Рандлингене… Мы не могли поместить старого директора в отделение для психохроников, мы пытались уговорить его выйти на пенсию. Он не хотел… При старческом маразме всегда наблюдается упрямство, слабоумие, одновременно может развиваться мания преследования. Старому директору стало казаться, что я его преследую… Раньше мы прекрасно ладили друг с другом. Он был рад, что я снял с него бремя работы, не возражал против вводимых мною новшеств. В последнее время он стал думать, что я хочу осрамить его, выжить с директорского места, поместить к хроническим больным. Отсюда его ненависть ко мне. Что мне было делать? Как раз в то время, когда признаки психического заболевания становились у нашего директора все более заметными, я познакомился с Гербертом Каплауном. Юцелер, помогавший вам вчера, доводился ему через жену дальним родственником. Он и попросил меня заняться Гербертом. Я решил подумать, но сказал Юцелеру, пусть как-нибудь покажет мне молодого человека. Он был музыкантом, этот Герберт. Сочинял романсы. В тот раз он принес с собой один романс, на стихи немецкого поэта, он положил их на музыку… Романс понравился нам. Да, Грети?
Госпожа Ладунер кивнула устало.
— Он был как Лайбундгут, которого я вам показывал, Штудер. Герберт пил, и я оставил его на три месяца в «Н». Вы раскопали это… Вы раскрыли даже его дружбу с Питерленом, с Гильгеном. Он был милый, приятный человек, Герберт Каплаун… Потом я сделал его своим частным пациентом. Я не мог воспрепятствовать тому, чтобы он не узнал о напряженных отношениях, сложившихся между мной и директором. Каплаун пытался, так считаете вы, выразить мне свою благодарность, убив директора, тем более что все свидетельствует против него: мешок с песком, приготовленный для него Питерленом, разговор по телефону в тот вечер, во время «праздника серпа»… Но, Штудер, разве вам не бросилась в глаза одна деталь? Вы действительно верите в то, что старый директор, подозрительный, каким он был, а болезнь еще больше усилила его подозрительность, — вы верите в то, что старый директор вот так ни с того ни с сего взял да и пошел куда-то ночью на свидание? Такой подозрительный, как он? Вы действительно можете в это поверить?
Молчание. Глаза госпожи Ладунер были широко раскрыты, она в страхе смотрела на своего мужа.
— Тут кто-то помог… Кто? В расчет можно брать троих мужчин, — троих, кто мог разговаривать с директором между телефонным звонком и его приходом в котельную… Троих мужчин — и одну женщину. Но женщина отпадает. Остаются: первый — я. (Пожалуйста, не отмахивайтесь, у меня был свой интерес.) Второй — Юцелер, и третий — швейцар Драйер… Моя жена может подтвердить вам, что в ночь с первого на второе сентября я ушел из квартиры без четверти час и вернулся назад только около половины третьего. Как раз вовремя, чтобы меня успели вызвать в «Н» — пациент Питерлен исчез. Что я делал в этот промежуток? Ночной сторож видел меня у двери в котельную, как я бежал за кем-то. Очевидно, за Каплауном… Собственно, ваше подозрение должно было пасть на меня, после того, что сообщил вам ночной сторож. Но вы не стали придавать этому значения. Пусть будет так. Второй, о ком может идти речь, — Юцелер. У него был спор с директором, из-за санитара Гильгена. Юцелер мог бы быть главным в деле, он вполне мог заманить директора в котельную. Но он тоже выпадает из игры, потому что…
Доктор Ладунер нарочно держал паузу, медленно раскуривая сигарету.
— …потому что после безрезультатной беготни за своим подопечным частным пациентом Каплауном я увидел в коридоре полуподвала мужчину, запиравшего дверь котельной… Знаете, кого?
Штудер кивнул. Вдруг все встало на свои места. Он сгорал от стыда. Он действительно ни черта не понял…
— Швейцара Драйера, — тихо произнес Ладунер. — Я уверен, Драйер уговорил директора встретиться с Гербертом. Что за аргументы у него были, мы можем теперь только гадать. Короче, я не знал, что произошло в котельной, поэтому я позволил ему уйти. И тихо шел за ним следом. Он не видел меня. Когда же разнеслась весть — директор исчез, а кабинет выглядит так, будто там произошла драка, я задумался, как поступить лучше всего. Я знал, Каплаун каким-то образом замешан в деле. И тут я вспомнил про одного человека, которого знал с времен своей юности и про которого мне было известно, что он проявляет интерес к психологическим загадкам, и я сказал себе: я хочу, чтобы этот человек был здесь, и тогда я смогу спокойно продолжить лечение своего пациента; он стоящий человек, этот Герберт Каплаун, еще никогда ситуация не складывалась для него столь благоприятно, можно было попробовать выпустить пар из его протеста. И если вдруг появятся осложнения, у меня будет под рукой некий вахмистр из уголовного розыска он мне поможет… Но теперь уже для Герберта никогда ничего больше не сложится… Каплаун врал вам от начала до конца, вахмистр. Его признание ложно, и его утверждение, будто он ничего не сказал во время анализа, чистое вранье. Вы не представляете, каким чудовищным средством нажима может быть молчание — мое молчание например, когда я сижу в головах у пациента и он не видит меня. Второго сентября, когда вы ворвались в кабинет и видели Каплауна плачущим, он уже во всем признался, что столкнул директора с лестницы, что сделал это, чтобы помочь мне… Я молчал… Потому что знал про него больше, чем он сам. Я знал, что Каплаун не способен совершить подобный поступок, знал, что препоны, сдерживающие его, были очень сильны. Я допускал, что он встретился с директором в котельной, но он не мог ни ударить его (я тогда еще ничего не знал про мешок с песком), ни столкнуть с лестницы. Я видел, как из котельной выходил Драйер. И я знал, кто это сделал… Вы все время думали только о толчке, Штудер. А я понял, когда увидел труп и изучил позу, в которой он лежал, что директора сдернули с лестницы… Очки, что лежали рядом с ним! Вспомните про очки!.. Если бы он рухнул спиной вниз, они бы никогда не упали. Вы не заметили ссадин у него на носу? Он стукнулся лицом о край лестничной площадки, очки с него сорвали, и только тогда директор упал задом с лестницы и сломал себе при этом шею… Нога его щупает пустоту, человек, спрятавшийся под площадкой лестницы, хватает его за ногу, небольшой рывок — и… Но все это относится уже к области криминологии. А я врач, Штудер, я уже говорил вам об этом. Я врачую души… Можете ли вы себе представить, какая власть дана мне в руки? Вам не понять, что я имею в виду… Человек, сломленный и изувеченный духовно, приходит ко мне, и моя задача распрямить его искривленную душу, исцелить ее; этот человек думает, он убийца, он признается мне в том, потому что знает, я не смею предать его, я его духовник… Одним своим словом я могу вернуть ему покой, могу доказать ему, что он не убивал… Почему же я этого не делаю? Потому что идея, что он убийца, может ускорить процесс его выздоровления, благодаря этой идее у меня есть рычаг — душа его, как дверь висит на гнутых петлях, и я могу их выпрямить… И я думал, вы это понимаете… Я думал, вы не забыли еще про Айххорна. Про сцену с ножом… Драйер никуда бы не делся, он мог ждать, пока вы найдете его. А вы даже поверили Каплауну, что это он спрятал бумажник в моей комнате… Я сам его туда спрятал… Я нашел его утром, прежде чем поехал за вами в Берн, в ящике письменного стола в кабинете директора. Драйер тоже его искал, бумажник, но не нашел. Я хотел, чтобы бумажник был у меня под рукой, чтобы, когда нужно будет, показать его Каплауну. При анализе очень важно, чтоб время от времени рвались мины… К сожалению, вы ничего не поняли, Штудер. Поэтому я и был так рассержен… Ну что же, смерть Каплауна, пожалуй, его судьба… Грети, ты должна на прощанье спеть для вахмистра романс, тот романс… — Доктор Ладунер улыбнулся устало, потом тихо добавил: — Этому романсу Герберт обязан, что я взял его на лечение… Пойдемте, Штудер!
Еще никогда вахмистру не приходилось слышать такого странного концерта. В гостиной было холодно, окно выходило во двор, где в самой глубине торчала высокая труба — красная, как огромный большой палец мясника, указующий на небо. Через окно в комнату лился серый свет. На круглом крутящемся табурете сидел за роялем доктор Ладунер. Перед ним лежал листок с написанными от руки нотами. Рядом с ним, выпрямившись, стояла его жена. Ее красный пеньюар спадал вниз жесткими складками. Врач тихо аккомпанировал, а госпожа Ладунер пела:
Порой нахлынет грусть-тоска…
И Штудер тут же увидел квартиру этажом ниже — окурки сигар в пепельнице, бутылка коньяка и открытая книга… На ветках березы перед окном повисли сморщенные листочки…
Не сладко одному с собой на пару время коротать.
И шнапс — не выход, коль есть заветная бутылочка в запасе…
Кухонное окно в «Н». А у окна стоит Питерлен, он смотрит не отрываясь на женское отделение, где в окне Ирма Вазем, она тоже смотрит на него.
Что проку жгучий стыд в душе за это испытать…
Маленький Гильген сидит на краю кровати, маленький рыжий Гильген достает из тумбочки карточку своей жены, и вдруг его больше нет в комнате.
Ах, как бы детство раннее вернуть…
Каплаун, Герберт Каплаун, скрывался в домике Гильгена. Скрывался от своего отца, от своего психиатра… и вот, и вот — Штудер закрыл глаза руками — всплеск воды в неярком отблеске звезд…
Закрыл глаза — мир стал далек,
И вот ты снова одинок…
Женщина умолкла. Еще несколько тихих аккордов. И в комнате воцарилась тишина.
- Беспризорники
- Хлеб-соль
- Место преступления и парадный зал
- Белый кардинал
- Санитарный пост в «Н»
- Матто и рыжий Гильген
- Обед
- Покойный директор Ульрих Борстли
- Короткая интермедия в трех частях
- Показательный больной Питерлен
- Ночные размышления
- Разговор с ночным санитаром Боненблустом
- Штудер в роли психотерапевта
- Бумажник
- Два небольших испытания
- Конфликт Штрудера с совестью
- «Люди, они милы и добры...»
- Кража со взломом
- Коллеги
- Появление Матто
- Воскресная игра теней
- Марионетки кукольного театра Матто
- Китайская пословица
- Семь минут
- Сорок пять минут