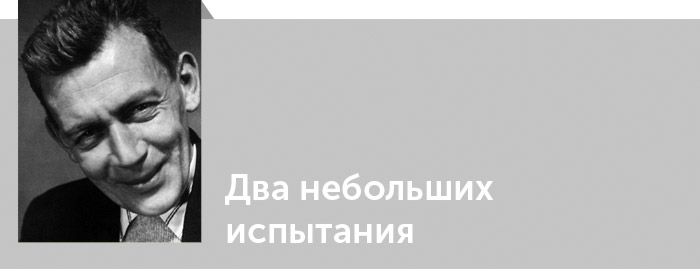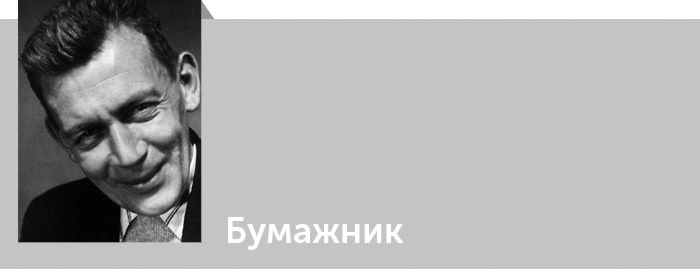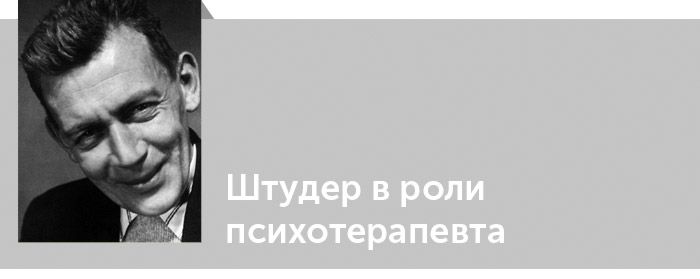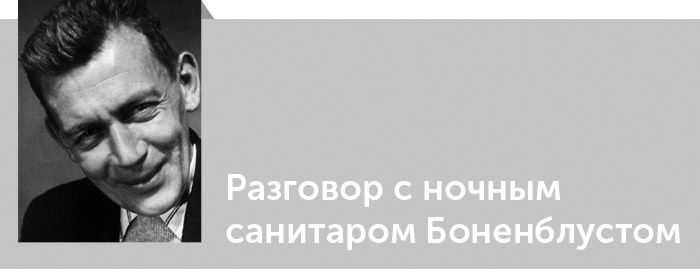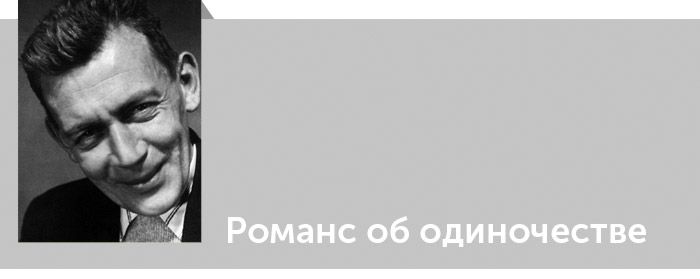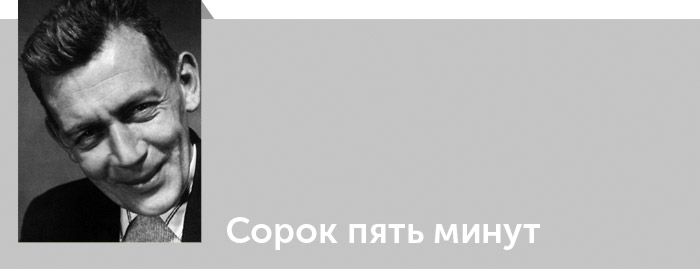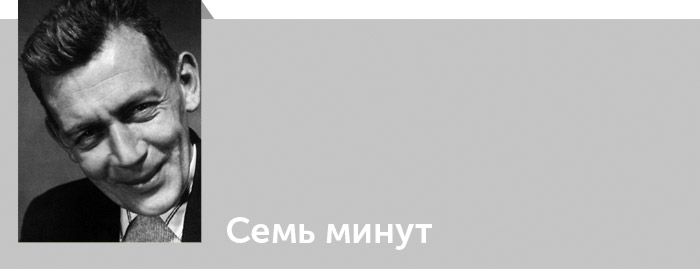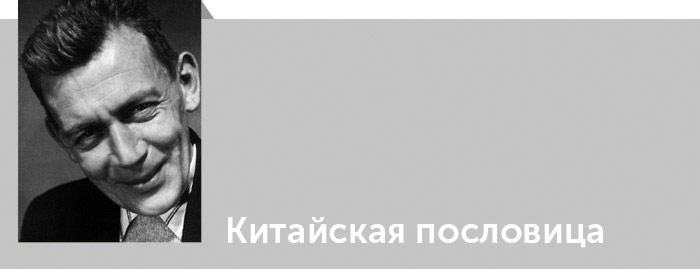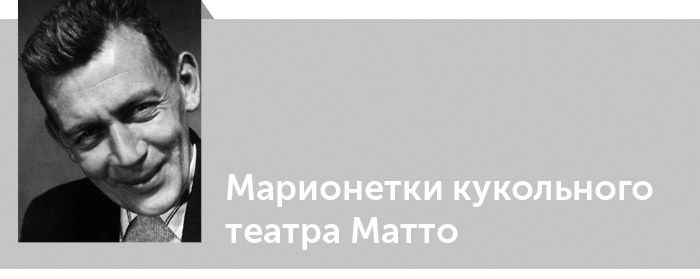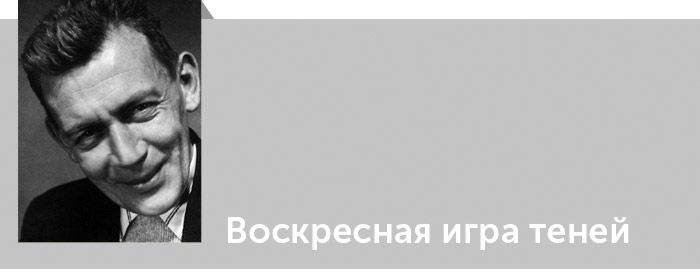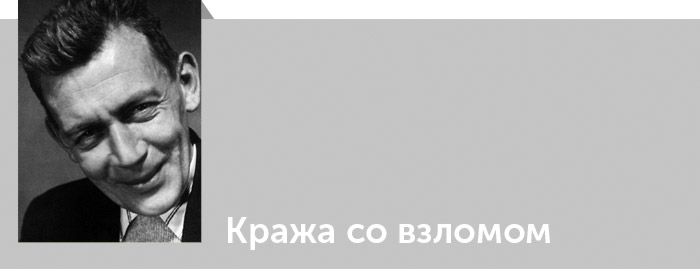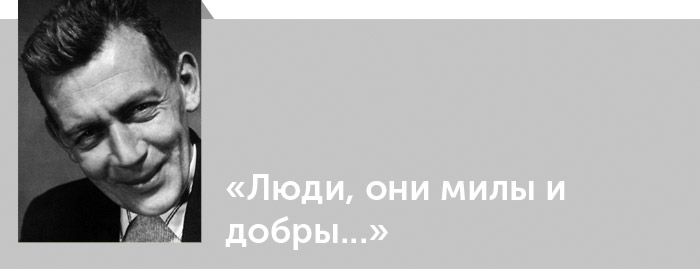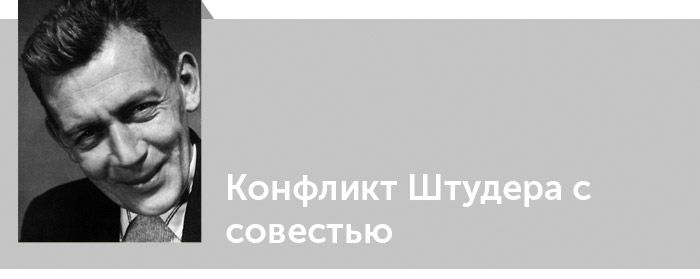Фридрих Глаузер. Власть безумия. Коллеги
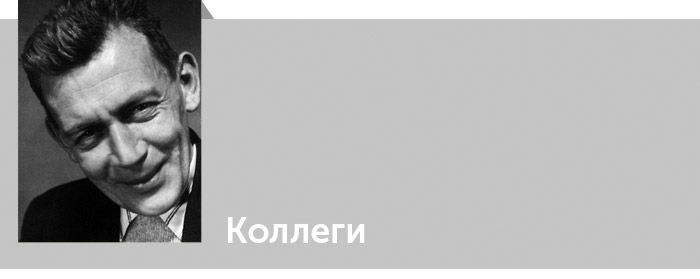
По лицу палатного Юцелера с бархатными глазами серны было видно, что приход вахмистра ему не по нутру. Он стоял внизу в саду, еще красный от борьбы, но уже в своей белой куртке с красным орденом санитара на лацкане.
— Не могли бы вы уделить мне несколько минут? — спросил Штудер и посмотрел на Юцелера так серьезно и проникновенно, что тот согласно кивнул.
— Случилось что-нибудь? — спросил палатный.
— Гильген выбросился из окна. Лежит там наверху, — сухо доложил Штудер и спросил, как сделать так, чтобы не привлекать всеобщего внимания.
— Гильген! — Юцелер поник. — Мертв!.. — И он сокрушенно покачал головой.
Вдвоем они вошли в маленькую комнатку. Юцелер молча постоял около мертвого. Потом притянул стул, сделал приглашающий жест рукой, Штудер сел. Изящный Юцелер присел на край кровати рядом с покойником. Может, оно и лучше, что так вышло, сказал он…
Еще один факт не вызывал сомнений — склонность к фатализму пронизывала настроения в психбольнице в Рандлингене.
— Почему? — спросил Штудер.
— Ах, — вздохнул Юцелер, — вы, вахмистр, еще совсем не знаете, каково работать в таком месте, как наша больница…
Казалось, он задумался, рассказывать дальше или не стоит, но Штудер прервал его мысли — он давно хотел спросить, из-за чего, собственно, у него вышла с директором ссора в среду вечером.
Юцелер спросил, кто рассказал об этом вахмистру.
Неважно, ответил вахмистр, впрочем, ему даже известно, что причиной ссоры был покойный Гильген.
Юцелер откинулся к спинке кровати и сцепил руки.
Он долго испытующе смотрел на Штудера, вахмистр не опускал глаз. Он знал, каков будет результат проверки.
Как часто он уже проходил через это!.. Люди видели в нем сначала только легавого — полицейского, которого следует остерегаться, в конце концов недоверие это было ему более чем понятно. У кого сегодня совесть абсолютно чиста? Но если Штудеру удавалось потом побыть с человеком наедине, недоверие обычно исчезало, тот, другой, чувствовал, что перед ним нормальный человек, зрелый уже мужчина, от которого исходит удивительный мир и покой… И временами, когда Штудер не очень был недоволен собой, на него нападала даже мания величия, ему вдруг начинало казаться, он — сильная личность; и не исключено, что он не заблуждался…
Наконец палатный Юцелер принял решение — он начал рассказывать. То был долгий рассказ, который он вел, сидя на постели рядом с телом маленького Гильгена. Порой слышно было, что его зовут, имя его разносилось по коридорам отделения «Н», но стройный Юцелер даже не шелохнулся, он продолжал рассказывать дальше, несколько монотонно, обхватив руками колено. И хотя рассказ его лишь вскользь касался событий последних дней, однако многое прояснял.
Юцелер начал рассказывать с момента создания у них капеллы духовой музыки. Санитары, умеющие играть на духовых инструментах, решили объединиться. Стали искать дирижера, нашли санитара в «П» по фамилии Кнухель. Широкий такой подбородок, пухлые губы, большой любитель Библии, член секты деревенской общины. Музыканты устроили собрание. Кнухель выдвинул следующие требования: играть только хоралы и серьезные народные песни, никаких маршей и танцев. Перед каждой репетицией читать вслух одну главу из Библии, потом помолиться, по окончании репетиции опять в том же порядке. Маленький Гильген играл на тромбоне. И он-то и возглавил оппозицию…
Ее составляли те, кто был настроен на светский лад. Они против, как они говорили, участвовать в этой комедии. Маленький Гильген считал, музыка может послужить началом для создания здесь у нас организации. Он был сторонник четкой и ясной позиции. Никакого религиозного балагана, а дружеские человеческие отношения. При голосовании он оказался в меньшинстве. «Светски настроенная» группа тут же, на первом заседании, откололась и образовала свой собственный отряд музыкантов. Они хотели играть марши, вальсы, а по случаю и танцы. Но у них не было дирижера. Гильген, хотя и был обременен заботами выше головы, репетировал с ними. И вот они выступили на Новый год… Это было жалкое зрелище. Фальшивили, не соблюдали ритма… Даже пациенты смеялись, раздавался свист, директор разгневался, потому что присутствовали посторонние и он чувствовал себя посрамленным. «Светскую музыку» распустили, некоторые музыканты, которым очень хотелось играть, стерпели унижение и перебрались в духовую капеллу почасовиков. Кнухель оказался хорошим дирижером. Через две недели они сыграли в воскресенье утром в честь директора, тот поздравил их, они получили денежную субсидию из фондов их лечебного заведения на организацию свободного времяпрепровождения пациентов. Кнухель выдвинул свои условия. Он готов играть со своими музыкантами на праздниках и другую музыку, но во время ее исполнения никто не должен танцевать. О танцах и так не могло быть и речи, потому что капелла играла только траурные марши, хоралы да еще мелодию «Березины».[21]
Вахмистру может показаться, что все это праздные разговоры. Напротив… История с капеллой мгновенно проясняет напряженность в отношениях между санитарами. Если Штудер позволит, Юцелер расскажет немного о себе…
Юцелер говорил очень спокойно, интонация была такой, словно он делал на заседании опекунской комиссии доклад на очень скучную тему. Правда, в его словах звучала некая скрытая взволнованность.
Он вырос приемышем. Вахмистр знает, что это такое… В горах под Берном. Вечно голодный, побои, ни одного ласкового слова… Тема эта уже оскомину набила, не стоит даже и слов на нее тратить. Ему повезло, он приглянулся пастору в маленькой деревушке — однажды в горах он искусно наложил шину одному туристу, сломавшему ногу… Даже врач удивился. Так вот и случилось, что он в восемнадцать лет смог поступить в школу сестер и братьев милосердия. Там были строгие монастырские порядки, но… вахмистр позволит ему опустить описание того, что происходило под набожной вывеской. Во всяком случае, ничего радостного. Он, Юцелер, сдав экзамен, работал потом санитаром в различных больницах. Однажды во время отпуска он приехал сюда, в Рандлинген, посмотреть больницу. Его заинтересовала работа здесь, да и платят по уходу за сумасшедшими больше, чем за обычными больными. Он собирался жениться… Директор тогда был как раз в отпуске, его замещал доктор Ладунер, он и принял его на работу. Больница выглядела тогда…
— Я знаю, — сказал Штудер. Ему говорила госпожа Ладунер.
Хорошо. Юцелер стал рассказывать уже знакомые вещи — о лечении сном, о долгой, мучительной борьбе за душу показательного больного Питерлена (примечательно было, пожалуй, только, что палатный тоже употреблял выражение доктора Ладунера: «показательный больной»), о попытке добиться единодушия среди санитаров, о том, что он обсуждал этот вопрос с доктором Ладунером…
— Здесь все как в той монастырской школе сестер и братьев милосердия. Навредить друг другу — пожалуйста… Никакой коллегиальности. Все бесконечно жалуются на очень длинные рабочие смены — с шести утра до восьми вечера… Но никаких совместных попыток изменить положение. В других больницах санитары объединились, а мы, как всегда, в хвосте. Другие угрожают забастовкой, если не улучшат их положение. А в Рандлингене никто пикнуть не смеет… Директор зачислил брата своей второй жены механиком, тот саботировал, где только мог. Но и я не сидел сложа руки. Я много читал про тактику, про борьбу… Я и другие книги читал, особенно одну, довольно странная книга. В ней автор утверждает: твой злейший враг — пролетарий, твой же собрат по классу… Я это проверил на себе, здесь, в больнице. Если бы меня постоянно не прикрывал доктор Ладунер, я бы уже давно вылетел отсюда. И вот мне пришлось взять на себя отделение. Я несу полную ответственность за все, что происходит в «Н», потому что старший санитар Вайраух…
— Занят журнальчиками по нудизму…
— Именно так, вахмистр. — И Юцелер улыбнулся краем рта. — Мне все же удалось сплотить вокруг себя нескольких человек, мы попытались примкнуть к союзу санитаров других больниц. Но почасовики и механик… Понимаете, вахмистр, в такой больнице, как наша, весь персонал делится не только на эти две большие группы — почасовиков и желающих объединиться в союз. Между ними постоянно колеблется то туда, то сюда большая группа людей… Вы знакомы с историей Великой французской революции?
— Плохо…
— Между двумя противоположными партиями, разъяснял Юцелер, полностью переходя на книжный язык и сохраняя только напевную интонацию, которая сразу же выдавала в нем уроженца гор. — Между правыми и крайне левыми, «горой», находился центр — «болото», как его тогда называли — «le marais». То были люди, которые хотели просто жить, зарабатывать деньги, иметь достаток. Вот они и решили исход борьбы. У нас тоже есть своя партия «болота». Это те люди, которые ничего не имеют против, чтобы другие добились для них повышения заработной платы, у них есть счет в банке, они дрожат за свое место…
— Как Боненблуст… — тихо сказал вахмистр.
— И он в том числе… Вот они и решили дело. Мы вступили в Федеральный союз работников государственных учреждений и предприятий. А почасовики — в Евангелическую партию труда. Ну, директор был, конечно, доволен. Доктор Ладунер, к которому я пришел после собрания, только пожал плечами. Выходит, ничего не поделаешь… Кризисное время… На меня открыто никто никогда не нападал, но травля Гильгена была, собственно, направлена против меня.
Юцелер посмотрел на покойника. Казалось, маленький Гильген улыбается.
— Доктор Ладунер очень любил Гильгена. Другие это тоже знали. Здесь в отделении в общем неплохие ребята, в основном молодые санитары, но мне приходится постоянно все проверять за ними. Гильген был самый старший из них. Я сделал его своим заместителем. И это было самой большой ошибкой… Гильген был очень старательный, но ничего не смыслил в дисциплине. А в отделении был необходим порядок. Особенно с момента, как доктор Ладунер ввел трудотерапию, ведь все стало по-другому, не как раньше… Мы должны все наше время отдавать пациентам, занимать их чем-то, даже в их свободное время, чтобы они читали, играли, только чтоб не погружались в себя, нам ведь нужно думать о том, чтобы выпустить их отсюда…
Штудер удивлялся про себя. Простой человек этот Юцелер, вырос приемышем, а говорит спокойно, обдуманно… знает, чего хочет…
— Мне приходилось ругать Гильгена. Раз в две недели мне полагается свободный день и еще полдня в промежутке. За год набирается две недели отпуска. Когда я вернулся, в отделении царил хаос. Гильген не умел приказывать… Как все робкие люди, он был или груб, или слишком мягок. И его начали ненавидеть.
В больницах много сплетен. Я никогда не принимаю в них участия, но вы легко можете себе представить, как это бывает, вахмистр, вы ведь тоже работаете, где много людей… И никто не может точно сказать, где кончается власть Матто, как выражается Шюль… И вот молодые санитары побежали к Кнухелю в «П», к дирижеру духовой капеллы, и пожаловались на Гильгена… Возможно, он тут… — Юцелер постучал по красному покрывалу, на котором лежал покойник, — действительно в чем-то был недостаточно корректен в своих действиях. Кнухель дал им совет последить за Гильгеном. Все знали в общих чертах — ведь здесь живешь как под стеклянным колпаком, — что Гильгену приходится туго. Его подловили на том, что он был на полевых работах в чьих-то надеванных башмаках, помеченных внутри инициалами пациента. Один из молодых санитаров сообщил об этом Кнухелю, Кнухель пошел к палатному из «П», своему единомышленнику, не то анабаптисту, не то члену секты субботников или евангелистов… Я не очень-то разбираюсь во всех этих сектах… И палатный из «П» побежал к директору. Я ничего не знал об этом деле. Господин директор составил протокол в присутствии палатного из «П», Кнухеля и молодого санитара из моего отделения. Все за моей спиной и за спиной самого Гильгена. Потом пригласили других санитаров отделения и произвели обыск в шкафу у Гильгена. Нашли там еще пару кальсон, тоже помеченных инициалами пациентов. Гильгена пригласили в кабинет директора. Устроили пренеприятный допрос. Вы знали Гильгена. Он мне рассказывал вчера вечером, что разговаривал с вами позавчера после обеда. Он был весь в смятении… Я убежден, он не брал ни ботинки, ни кальсоны. Кальсоны могли перепутать в прачечной при стирке, а ботинки… У меня подозрение, ему их подсунули, ведь утром, когда нужно бежать на полевые работы, времени так мало, тут не до того, чтоб рассматривать метки в ботинках. Но Гильген не умел защищаться. Он только молчал.
— Да, — сказал Штудер, вздыхая, — молчать он умел…
— И потом, нужно принять во внимание: больная жена, долги, заботы, дети у чужих людей… На свете столько подлости… Маленький Гильген никому не сделал ничего дурного. Нельзя же ему ставить в вину его несогласие по поводу духовой музыки… А ему поставили… И предали его… Протокол был составлен директором за три дня до «праздника серпа». Он собирался послать его в опекунскую комиссию и внести предложение об увольнении Гильгена.
Однако, если у той стороны были шпионы, есть они и у меня… Вечером мне все стало известно. Около шести часов. Мне разрешается ночевать у себя дома. Но на эту ночь я остался в больнице; с половины седьмого до одиннадцати я обегал всю больницу, одно отделение за другим. Я убеждал, агитировал… Нам нужно держаться вместе, говорил я, с каждым из нас может произойти такое, подумайте хорошенько, речь идет о нашей свободе от произвола… Люди оставались глухи. У всех находились отговорки. На следующий день я продолжил свою работу. Я стал выдвигать более решительные требования: если Гильгена уволят, говорил я, мы объявим забастовку. Это было глупо, я признаю… Из-за «болота», потому что «болото» не хотело принимать в этом участия. Лягушки в болоте отвратительны, они уползают в тину, если кто идет по берегу, а как только все стихнет, они опять начинают квакать… Вот сейчас, когда директор умер, лягушки квакают очень громко. Потому что они знают, при докторе Ладунере повеет другим ветром…
Так наступил день накануне «праздника серпа». Я узнал, что директору стало известно о моем плане забастовки. Это могло и мне стоить головы, но я не боялся. Я всегда найду работу, меня в той больнице очень неохотно отпустили. У Гильгена же все было иначе. В тот вечер я подходил к телефону и подзывал директора…
Штудер сидел, опустив голову и уперев локти в колени. Но тут он встрепенулся:
— Один вопрос, Юцелер. Вы не узнали голос звонившего?
Пауза, долгая пауза. Юцелер наморщил лоб. Потом стал рассказывать дальше, словно вахмистр и не задавал ему никакого вопроса…
— Когда директор возвращался от телефона, я остановил его. «Мне нужно еще сегодня вечером с вами поговорить», — сказал я. Он посмотрел на меня насмешливо: «Так невтерпеж?» Я сдержался и только сказал «да». «Тогда, — ответил он, — ждите меня в половине первого у моего кабинета». И пошел дальше. Я ждал его в назначенное время, недолго. Он появился. И мы прошли в кабинет. Я потребовал, чтобы он показал мне протоколы, он поднял меня на смех. Тогда я перестал церемониться и стал угрожать ему. Я сообщу о нем в газету, сказал я. Это свинство, как он обращается с медицинским персоналом! Я упрекнул его и в его любовных заигрываниях с сиделками… Тогда он тоже начал кричать, что найдет на меня управу, занесет меня в черный список, и объявил мне, что увольняет меня и позаботится о том, чтобы мне нигде не дали работы. А я все твердил про протоколы… В конце концов, история с Гильгеном приключилась в отделении «Н», где я числюсь палатным санитаром, у меня есть право потребовать предоставить мне возможность увидеть показания других. Все это направлено против меня, но мне известно, что доктор Ладунер поддерживает меня… Вот этого мне не следовало говорить, он тут же ухватился за это. С доктором Ладунером, сказал он, у него свои счеты. Известно ли мне, сколько пациентов умерло в последние дни в «Б»-один? Он уже попросил составить список и тоже направит его в опекунскую комиссию, чтоб там видели, как этот врач тут хозяйничает. За время его директорства смертность в больнице всегда была очень низкой, и только как началось это манипулирование новейшими методами, стало так много смертей. Он проверил все протоколы вскрытий, произведенных доктором Блуменштайном, там не все в порядке. Ему даже лично пришлось перепроверить два случая и направить анализы крови на экспертизу судебной медицины. Вот он дождется результатов оттуда и займется тогда доктором Ладунером, этот господин давно уже действует ему на нервы, переманил на свою сторону всех врачей, всех ассистентов. А пока еще он, Ульрих Борстли, директор психиатрической больницы в Рандлингене, и тут уж знаменитый доктор Ладунер ничего поделать не может, несмотря на всю свою премудрость, влияние и дипломатию. Вот здесь протоколы вскрытия — и он похлопал по крышке письменного стола, — и здесь же показания свидетелей относительно Гильгена. А я могу проваливать ко всем чертям, и поживее…
Мы вышли вместе, я остался стоять в темном углу коридора, а директор пошел к себе наверх, в квартиру, потом спустился, уже в своей накидке. Прежде чем выйти во двор, он погасил свет в коридоре. И тут я совершил одну глупость, вахмистр. Я хотел увидеть протоколы, касающиеся Гильгена, но еще больше — протоколы вскрытия. Я считал, мой долг принести их доктору Ладунеру, чтобы он мог защитить себя. И потому я вернулся назад в кабинет. Зажег свет и стал искать во всех ящиках стола, но ничего не нашел. И вдруг я услышал за дверью шаги. Я быстро повернул выключатель, потому что не хотел, чтобы меня застали, как вора, в кабинете директора. Дверь открылась, чья-то рука шарила в поисках выключателя, я схватил руку. И в кабинете началась немая борьба. Пишущая машинка полетела на пол, зазвенело стекло. Наконец я уложил человека на пол… А сам убежал… Я пошел к Гильгену, он еще не спал, он дежурил той ночью, но на «празднике серпа» его не было. Он сидел здесь, на краю кровати. Я сказал Гильгену, он не должен падать духом, мы ведь теперь знаем, в чем дело. На следующее утро я собирался пойти к доктору Ладунеру поговорить с ним. Но за ту ночь произошли такие события…
— Когда вы возвращались назад в «Н», Юцелер, вы никого не встретили?
Юцелер уклонился от ответа. Он сказал:
— Пробило два часа, когда я шел через двор.
— А крика вы не слышали?
— Нет…
— Хорошо, — сказал Штудер. — И больше вам, следовательно, нечего мне сказать?
Юцелер подумал немножко, почесал в затылке, покачал головой, улыбнулся и промолвил:
— Если вы еще хотите что-нибудь узнать про нас — про нас, больничных служителей, как говорили раньше, или санитаров, как называют нас теперь, — то я мог бы еще многое порассказать… О бесконечно длинных днях, когда время тянется и тянется, потому что не знаешь, чем себя занять; стоишь, подпираешь стенку, засунув руки за передок фартука, наблюдаешь за больными, подаешь им еду, опять наблюдаешь или «пасешь» их в саду, потом поднимаешься с ними наверх… И ешь… Еда играет большую роль, и не только в жизни пациентов, но и в нашей, санитаров. Меню мы знаем на месяц вперед: отварная кукуруза по понедельникам, рис по средам, макароны по пятницам и жареные сардельки по субботам. Нам также известно, по каким дням с утра рёшти,[22] а по каким масло… Мы идем через двор особою, выработавшейся у нас походкой — медленно, еще медленнее, чтобы убить время… Мы женимся, чтобы хоть ночью почувствовать себя где-то дома. Мы знаем, когда изменится погода, потому что наши подопечные становятся очень раздражительными, а значит, и мы тоже. Мы получаем деньги, не очень большие… Некоторые из нас строят себе домики и всю жизнь выплачивают долги. Получается так, вроде они сами ищут себе лишние хлопоты, лишь бы заполнить ими пустоту дня… Мы стоим и ждем, когда же кончится день. Нам устраивают курсы, но мы не имеем права ничего сделать под свою ответственность. Мы должны спрашивать врача, даже чтоб дать пациенту аспирин или посадить его в ванну. Зачем же тогда нам курсы, если нам не позволено делать то, чему нас научили?.. Курсы! Мои коллеги, получившие дипломы два года назад, что они еще знают сегодня? Ничего. Мне немножко легче, я читаю, и доктор Ладунер объясняет мне, если я чего не понял. Но все равно все безнадежно. Что толку, что я могу поставить диагноз лучше, чем только что принятый ассистент?.. Я должен молча смотреть, какие глупости вытворяет такой ассистент, Нёвиль например, как он острит и подшучивает над возбужденным пациентом, а мне потом расхлебывать его шуточки, когда пациент разносит вдребезги оконные рамы. Конечно, если бы все они были как доктор Ладунер!
Молчание. Покойный на кровати словно блаженно улыбался. За окном догорал закат…
— Мне нужно идти, — сказал Штудер. — Мерси за все, Юцелер. А что вы сделаете с… с… с Гильгеном?
— Когда стемнеет, мы снесем его со Швертфегером в «М». Нас было трое, мы держались вместе, Швертфегер из «Б»-один… — Штудер увидел перед собой санитара с мощными бицепсами, похожего на дояра. — …Гильген и я. Мы держались вместе. Теперь нас осталось двое. Но сейчас — сейчас слово за доктором Ладунером…
Штудер прошел мимо швейцарской, вошел в нее, вежливо осведомился, нет ли и его любимых сигар — «Бриссаго».
Драйер ответил утвердительно. Штудер позволил себя обслужить, а потом, указывая на завязанную руку, спокойно так спросил:
— Почему вы ничего не рассказали мне о том, что разбили окно в кабинете директора? И поранились при этом?
Драйер придурковато заулыбался. Потом опомнился и решительно заговорил. Да, он услышал шаги в кабинете и пошел посмотреть, и там на него напали… И он поранил руку…
Почему ничего не сказал об этом?..
Очень просто, потому что директор пропал в ту же ночь, и он боялся осложнений для себя… А откуда вахмистру известно, что он был в кабинете?
— Вычислил комбинацию, — сказал Штудер и испытал триумф, прочитав восхищенное удивление в глазах Драйера.
Это могло быть правдой, а могло и не быть… у Драйера могла быть и личная причина пошарить в кабинете. Только не так-то просто узнать, какая… Нужно опять выждать случай… Но ужинать к доктору Ладунеру он не пойдет. Нет, лучше нет… Надо побыть одному. Впрочем, часы на башне скучно, как всегда, пробили шесть раз. Штудер спустился по ступеням главного входа и пошел по яблоневой аллее, направляясь к деревне Рандлинген.
И тут он увидел перед собой пару.
Доктор Ладунер держал под руку свою жену, они шли в ногу, медленно, сквозь пылавший малиновым цветом прохладный вечер. На снежных вершинах гор лежали оранжевые облака.
Те двое шли перед ним молча. И Штудеру показалось, что они вовсе не похожи на любящую пару. Но четко просматривалось одно: они были единое целое, крепко держались друг за друга. И у Штудера появилось приятное ощущение уверенности, что, что бы ни случилось, в одиночестве Ладунер по крайней мере не останется. Ведь, по правде говоря, ситуация была далеко не столь розовой, как краски уходящего вечера…
У мясника и трактирщика Фельбаума вахмистр заказал жареную свиную ногу и пол-литра сухого вадтского вина. Он проглотил немного мяса, выпил глоток вина, встал и спросил, где телефон.
Ответила госпожа Ладунер. Он просит извинить его, сказал Штудер, он не может прийти к ужину, у него важное и неотложное дело. Хорошо, сказала госпожа Ладунер своим мягким грудным голосом, приятным даже по телефону, но он должен вернуться не позже половины девятого, чтобы не пропустить опекунскую комиссию. Ему необходимо с ней познакомиться.
Штудер пообещал быть точным.
- Беспризорники
- Хлеб-соль
- Место преступления и парадный зал
- Белый кардинал
- Санитарный пост в «Н»
- Матто и рыжий Гильген
- Обед
- Покойный директор Ульрих Борстли
- Короткая интермедия в трех частях
- Показательный больной Питерлен
- Ночные размышления
- Разговор с ночным санитаром Боненблустом
- Штудер в роли психотерапевта
- Бумажник
- Два небольших испытания
- Конфликт Штрудера с совестью
- «Люди, они милы и добры...»
- Кража со взломом
- Появление Матто
- Воскресная игра теней
- Марионетки кукольного театра Матто
- Китайская пословица
- Семь минут
- Сорок пять минут
- Романс об одиночестве