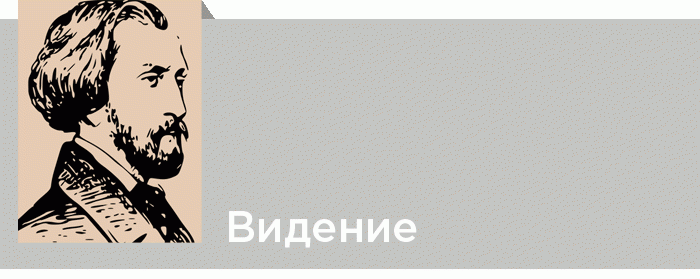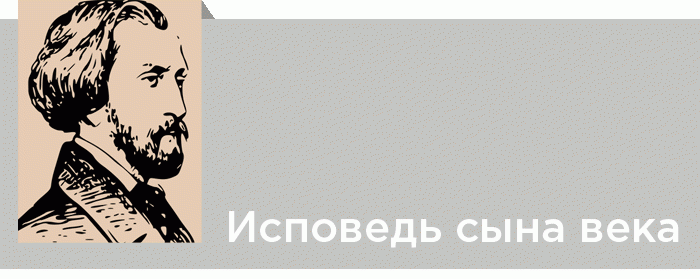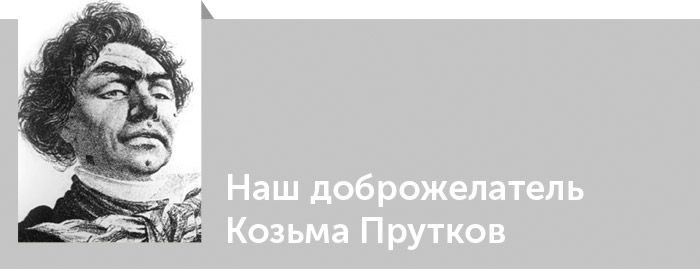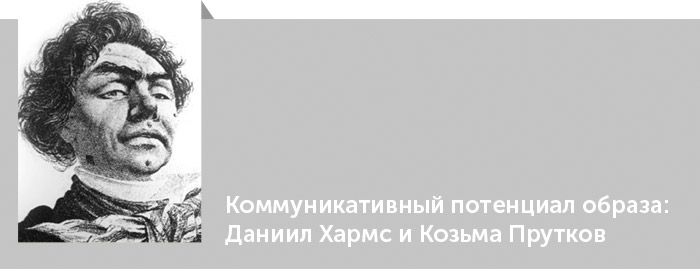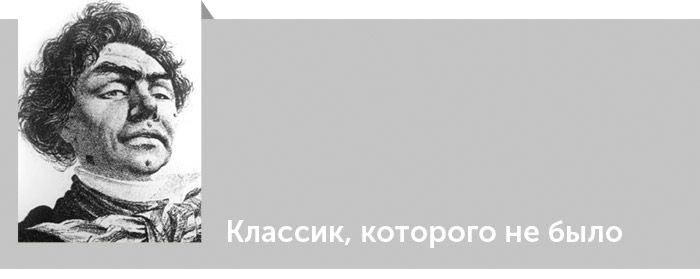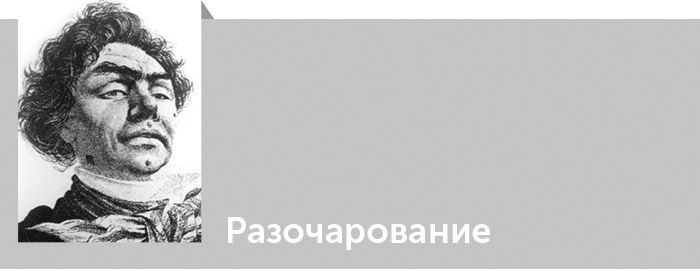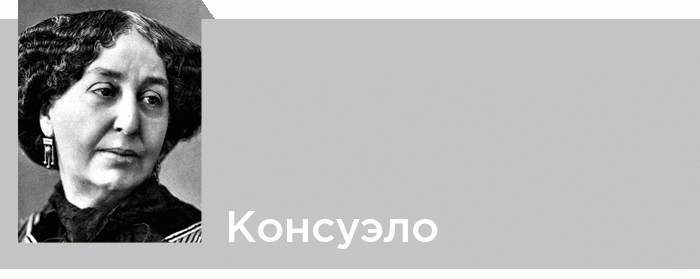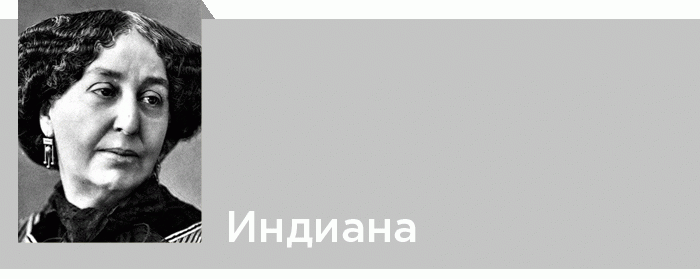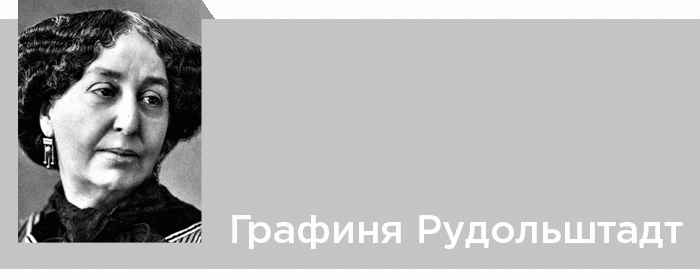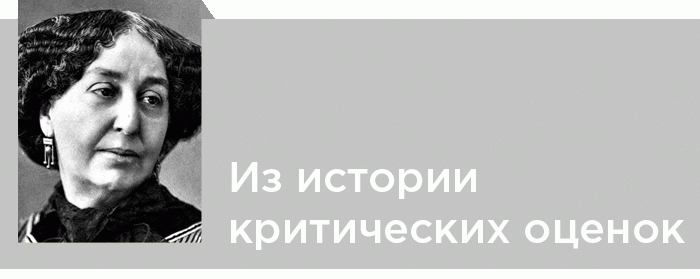Альфред де Мюссе и Июльская революция (1830-1831 гг.)
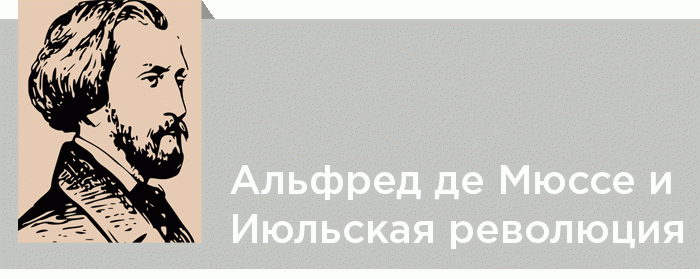
Т. В. Соколова
Первые стихи Альфреда де Мюссе «Испанские и итальянские повести» вышли в свет в декабре 1829 г. Взгляды совсем еще юного поэта формируются на рубеже 20-30-х годов, в атмосфере общественного и литературного движения накануне Июльской революции, а затем под влиянием того нового, что эта революция принесла с собой.
Изменения в общественной организации Франции, происшедшие во время Июльской революции и закрепленные в монархии «короля-гражданина», вначале были восприняты современниками как свидетельство принципиального обновления общества: традиции легитимизма отвергнуты во имя современных представлений о справедливости и свободе. Реставрация, предоставившая последнее убежище старым порядкам, теперь кажется эпохой почти столь же далекой, как и времена абсолютной монархии, о которой мечтали Бурбоны в 20-е годы.
Подготовленная длительным процессом политической и социальной борьбы революция совершилась в течение трех дней. Ее результаты, при всей их закономерности, показались неожиданными для многих ее современников и требовали последующего осмысления. Решив проблему политического господства буржуазии, Июльский режим поставил много новых вопросов: политических, философских, религиозных, нравственных, эстетических.
Влияние Июльской революции и последовавших за нею событий тотчас же обнаруживается в общественных нравах, морали, философском осмыслении истории, в искусстве и литературе. Запечатлевшись в творчестве многих писателей, 1830 год открыл новый этап в истории французской литературы XIX в. На взгляды Мюссе, только что вступившего на путь литературного творчества, июльские события повлияли решающим образом. Однако в обширной литературе о Мюссе проблема влияния революции 1830 г. не стала еще предметом специального исследования. Целью данной статьи является изучение роли Июльской революции в формировании взглядов А. де Мюссе в условиях «кризиса 1830 года».
Начало 1830 г. было ознаменовано новой вспышкой литературных споров во Франции. Когда в партере Французской комедии и на страницах периодической прессы развернулось сражение по поводу «Эрнани», то эта последняя битва романтиков против классицизма обнаружила серьезные расхождения в самом восторжествовавшем лагере. Драма В. Гюго подвергается критике не только со стороны приверженцев классицизма, она вызывает разочарование и неудовлетворенность тех, кто борется за новые эстетические идеалы.
«Между предисловием к „Кромвелю” и драмой „Эрнани” — огромное расстояние», — говорит Бальзак. Ф. Шаль на вопрос о том, раздвинула ли рамки драматического искусства новая драма, отвечает «нет». «Нет ничего более верного классическому методу и старой системе, чем новая трагедия В. Гюго». Эти высказывания содержат характерную для данного момента оценку романтизма, зарождающуюся внутри него самого. Стилистические новшества не могут вызвать сколько-нибудь серьезного интереса к драме, если в ней нет современного содержания.
Борьба романтиков против классицизма, некогда исполненная благородства и глубокого смысла, теперь, по мнению Мюссе, выродилась в пустые схоластические споры, в центре внимания которых стали вопросы стихосложения, стиля, рифмы и т. п. «...Идейный спор сменился словесной перебранкой. Принялись обсуждать книги, затем страницы, затем периоды, потом эпитеты, потом запятую перед цезурой... после серьезного сражения это была лишь видимость перестрелки», — напишет он позднее в незаконченном романе «Le poète déchu».
Вышедшие в декабре 1829 г. «Испанские и итальянские повести» Мюссе были восприняты как вызов по отношению к Сенаклю В. Гюго, в котором Мюссе был самым молодым членом. «Опубликованием своих „Испанских и итальянских повестей” Мюссе, кажется, хочет подготовить легкий триумф многочисленным врагам романтической школы», — писал «Revue Française». Уж не пародия ли весь этот сборник, спрашивает «Фигаро». И еще четыре года спустя «Revue des Deux Mondes» вспоминало о скандальном успехе книги Мюссе.
О своих намерениях в момент появления «Испанских и итальянских повестей» Мюссе говорит в одном из писем 1830 г.: для него было важно «выделиться из этой школы рифмотворцев, которые в своем стремлении что-то создать обратились лишь к форме и считают, что подправляя старое, они строят новое».
Et quoiqu'il fît rimer idée avec fâchée,
On le lisait, —
говорит он по поводу литературных занятий своего героя в поэме «Мардош».
Одно только обновление стиля и выразительных приемов поэзии не может быть предметом плодотворной дискуссии, так как реальные причины, с необходимостью вызвавшие спор между классицизмом и романтизмом о принципах стихосложения, уже исчерпали себя. По-настоящему обновить искусство можно, лишь наполнив его современным содержанием. Этим будут разбиты рамки схоластического, а потому ставшего бессмысленным спора. Тех, кто упорно продолжает его, Мюссе называет «поборником несколько устаревших принципов» («Тайные мысли Рафаэля, французского дворянина», 1830).
По существу, пространными рассуждениями и красноречием, расточаемым современными писателями в предисловиях к своим произведениям, они борются против воображаемого противника. Классицизм больше не существует, битва между ним и романтизмом закончена, и, следовательно, новая литература должна переменить направление своих поисков, оставив прежние цели и методы.
Racine, rencontrant Shakespeare sur ma table,
S’endort près de Boileau qui leur a pardonné, —
говорит Мюссе, выражая свою независимость по отношению к традициям какой бы но ни было школы и вместе с тем возможность синтеза некоторых принципов разных школ в новом искусстве.
Таким образом, спор между принципами Буало и Шекспира закончился рождением новой литературы — литературы XIX века. Но чтобы эта новая литература стала по-настоящему современной, ей нужно перейти, наконец, от стадии деклараций и манифестов к воплощению провозглашенных идеалов. «Мы много спорим... Продвинулись ли мы вперед благодаря этому? Поможет ли это улучшить хоть одну строку в поэме или штрих на картине? Никакие рассуждения в мире не могут заставить дрозда петь скворцом», — говорит Мюссе в письме своему брату. Иронические намеки на обилие предисловий довольно часты в начале 30-х годов.
Ожидание шедевров новой литературы было, очевидно, одной из причин чрезвычайного интереса к драме В. Гюго «Эрнани» и горячих споров вокруг ее постановки. Тем более глубоким было разочарование тех, кто, вопреки своим ожиданиям, нашел, что драма слишком мало или вовсе не продвинула вперед новое искусство и не осуществила того, что обещано во многих теоретических декларациях ее автора.
Исторический сюжет драмы «Эрнани», как и вообще увлечение исторической тематикой в литературе последних лет, некоторым представлялся возвращением к традициям классицизма, против которых с таким ожесточением боролись романтики. Изображение давно прошедших эпох в сегодняшнем осмыслении постепенно превращается в картину современных событий, представленную с помощью исторических декораций, костюмов, персонажей, — иначе говоря, мысль облекается в искусственную оболочку, современность присутствует в произведении лишь преломленной в призме многовекового процесса истории. Историческая тематика, обращение к ней с намерением извлечь для себя урок из событий прошлого удаляет от сегодняшних проблем не меньше, чем ориентация классицизма на «вечный» эстетический идеал античности.
После Июльской революции экономическая и политическая перестройка общества стала фактом, исключающим возвращение к прежнему состоянию и, следовательно, не нуждающимся в доказательстве и оправдании с помощью исторических аргументов. Выработанный в эпоху, когда становление новых общественных отношений было осложнено периодом временного отступления, этот метод оказывается теперь слишком отвлеченным и просто неспособным объяснить явления иного масштаба.
С помощью уроков, почерпнутых в истории, невозможно решить все разнообразие новых вопросов, и обращение к мудрости веков представляется теперь попыткой игнорировать современные проблемы. Рассуждения романтиков мало кого волнуют, говорит Мюссе. «Печатать что-нибудь в такое время? Когда обезумевшая Европа занимается политикой?. .. Теперь читают только газеты!.. видите, какое оживление царит в этих кварталах!» — говорит романтик в 1831 г. своему издателю, который требует от него выполнения обязательств 1829 г. Оба они в отчаянии; поднявшись на башню Собора Парижской Богоматери, они вглядываются в клокочущий Париж в ожидании малейшего затишья, чтобы выпустить, наконец, уже напечатанное произведение. Но судьба этой книжицы в желтой обложке — лежать, не покидая витрины книжного магазина, до конца века, говорит Мюссе. Смысл его намека не оставляет сомнений: буквально за пять дней до появления этой статьи, 16 марта 1831 г., поступил в продажу исторический роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери».
Отстаивая важность непосредственного отображения современной жизни, Мюссе не допускает в то же время, чтобы она вошла в его произведения как выражение позиции определенной социальной группы, какого бы то ни было коллективного мнения.
Взаимоотношение между творчеством художника и политикой было одной из первых проблем, вставших на следующий же день после Июльской революции. С установлением нового режима политическая борьба приобрела невиданную до тех пор активность и массовый характер, немыслимый раньше, когда политика была привилегией чрезвычайно узкого круга избранных. Относительное расширение демократических свобод после революции 1830 г. вызвало в стране большую политическую активность, подогреваемую вначале иллюзиями, связанными с новой монархией, а затем — ожесточением оппозиции по мере того, как иллюзии эти разбивались. Вниманием и помыслами людей овладевает политическая и социальная борьба внутри утвердившегося общества. «Всюду политика: на рынке, на бирже, в театре, от первого этажа до крыши, и особенно в каморке привратника; о ней горланят на улицах, ведут пустяковые разговоры в Бурбонском дворце, рассуждают в Академии, читают сквозь дремоту в библиотеке-читальне; она толпится вокруг торговки молоком, рассаживается в кружок перед камином в доме банкира, кричит во все горло и говорит тихим голосом, принимает любой вид, сидит в засаде у каждого выхода», — пишет один из авторов «Книги ста одного».
Искусство процветает в тишине, вдали от столкновений политических и любых материальных интересов, считает Мюссе. В обществе, потрясаемом революциями, звуки лиры заглушаются шумом борьбы, и у того, кто участвует в битве, не остается досуга и спокойствия для размышления.
Сама специфика нового общества, казалось, способствовала вырождению искусства. Первое место среди буржуазных добродетелей принадлежит богатству, поэтому все физические и интеллектуальные усилия людей сосредоточиваются на достижении единственной цели: обогащения. Дух коммерции проникает и в искусство. Проявление его современники видят и в том, что работа писателя, журналиста оплачивается по количеству строк, и в том, что издатели стараются печатать крупным шрифтом и издают в двух томах книги, которые можно было бы выпустить и в одном; и в таких «изобретениях» денежного века, как «ouvreuses de loges» и клакеры в театре.
Демократизация литературы вслед за другими сторонами общественной жизни способствовала появлению большого числа писателей, живущих исключительно за счет доходов от своих произведений. Это сближает писательский труд с занятием ремесленника или торговца, так как ставит его в зависимость от вкусов массового потребителя. Театральная карьера также превратилась в обычный, не лучше и не хуже других, источник доходов, жалуется автор статьи о современных актерах в «Книге ста одного». Раньше стать профессиональным актером отваживался лишь тот, для кого в искусстве заключался весь смысл жизни, чей талант и призвание были сильнее любых предрассудков, издавна существовавших против профессии актера. Теперь же вместе с унылой буржуазной добродетелью в артистическую среду входят грубые утилитарные интересы, опрокидывающие последний барьер, который преграждал посредственности дорогу на сцену.
Вовлеченное в сферу узко практических интересов, став средством достижения прозаических и низменных целей, искусство перестает быть самим собой. Настоящий художник кажется живым анахронизмом в современную эпоху, когда все без исключения хотят участвовать в политической борьбе, конечная цель которой — все то же материальное благополучие. Мюссе глубоко разделяет эту точку зрения, которую выражают многие современные авторы.
Вначале он готов даже оставить искусство, уступив необходимости своего времени, когда судьба человека немыслима вне политических битв.
Ombre des temps passés, tu n’es pas de cet âge.
Entend-on le nocher chanter pendant l’orage? -
говорит он поэту.
Et toi, misérable, poète,
Qui que tu sois, enfant, homme, si ton coeur bat.
Agis! .’ette ta lyre. Au combat! Au combat!
Но отказаться от искусства во имя материальных потребностей века, оставаясь в то же время далеким от низменных интересов толпы, — не значит ли это лишить себя возможности всякого духовного контакта с людьми? В вихре политических бурь Мюссе боится потерять ту единственную нить, которая связывает его как личность с другими индивидуальными судьбами. Лишь выражая себя в искусстве и заставляя других сочувствовать страданиям своей души, поэт учит людей состраданию и помогает им преодолеть их эгоистическую разобщенность:
...qui souffre, nous aide,
L'homme peut haïr l’homme et fuir, mais malgré lui
Sa douleur tend la main à la douleur d’autrui.
В массе грубых посредственных натур чувство сострадания может быть вызвано лишь зрелищем физических мук. Если же поэт вздумает обнаружить перед ней страдания своей души, он останется непонятым, и равнодушие еще больше ранит его. Поэтому единственным выходом для поэта оказывается, пренебрегая мнением вульгарной толпы, обратить свое искусство к душам, утонченным страданием.
Содержанием искусства должно быть выражение внутренней жизни человека, его индивидуальных переживаний и чувств, изгоняемых отовсюду соображениями политики и материальной выгоды. Но поэт не может писать о том, чего он не испытал сам, а значит в поэзии не должно быть другого героя, кроме него самого, каким бы именем он ни назывался и какой бы костюм ни носил. Исторический и местный колорит или его отсутствие в таком случае не имеют значения.
…Il n’existe qu’un être Que je puisse tout entier et constamment connaître,
Sur qui mon jugement puisse au moins faire foi,
Un seul. Je le méprise. — Et cet être, c'est moi.
Эта черта, выделившая Мюссе на фоне современной литературы, была тотчас же отмечена современниками. В статье о премиях Тулузской Академии des Jeux Floraux ему присуждается символический нарцисс. После революции 1830 г. эта тенденция, выразившаяся в самом начале творчества Мюссе, все настойчивее противостоит объективному, «материалистическому» методу. Через два года после местного колорита «Испанских и итальянских повестей» он создает «Спектакль в кресле» (1832), заслуживший похвалу как произведение о человеческой душе, а не о вещах. В лирической поэзии его «Ночей» (1835-1837) вещественному миру нет места; наконец, своей «Исповедью сына века» он отдает дань «интимному роману».
Борьба интимной, психологической, «идеальной» линии со слишком «материалистическими» тенденциями исторического романа приводит к довольно быстрому утверждению ее в литературе. Восторжествовавший режим очень далек от того, чтобы удовлетворить высокие мечты о будущем нации. Победившие в Июльской революции силы изменили социальную картину так, что все четыре десятилетия бурь и сражений могли показаться неоправданными и бессмысленными. В тени этих сомнений меркнет сама идея справедливости исторического процесса, питавшая эстетику исторического романа 20-х годов. Историческому жанру в 30-е годы противостоит и официальная идеология новой монархии. Обсуждение вопросов прогресса, социальной справедливости и необходимости революционных преобразований в условиях борьбы партий «движения» и «сопротивления» приобрело бы смысл слишком конкретный, «материальный» и, следовательно, опасный для политического режима, окончательно взявшего курс на «сопротивление».
В эстетической позиции Мюссе, ограничивающей содержание художественного произведения внутренней жизнью героя, неприятие метода исторического романа и в высшей степени отрицательное отношение к новому социальному режиму сочетаются и дополняют друг друга. На этих путях развивается во французской литературе индивидуализм.
Развитие литературной мысли, все более требовавшей выражения внутреннего мира, «поэзии души», обусловило новое восприятие некоторых уже ранее знакомых идей, которые только теперь становятся понятными. Это байронизм, для которого 1830 год открыл новую эпоху во Франции.
В первые годы Реставрации сатанинской гордости байронического героя противопоставлялась необходимость покоряться высшей воле.
Ton titre devant Dieu, c’est d’être fson ouvrage,
De sentir, d’adorer ton divin esclavage, —
говорит Ламартин в посвященной Байрону поэме «L’Homme» (1819). Эта поэма была как бы попыткой обратить мятежника в свою веру. Смерть Байрона украсила его мрачную и таинственную фигуру ореолом добровольного мученика во имя свободы. Осуждаемый раньше как холодный мизантроп и скептик он вызывает теперь восхищение. Ламартин пишет в 1825 г. «Последнюю песнь путешествия Чайльд-Гарольда», в которой борьба и смерть Байрона в Греции становятся продолжением судьбы его героя. Виньи в поэме «На смерть Байрона» (1824) говорит о своем восхищении судьбой поэта-воина. Гюго находит даже возможным поставить рядом имена Шатобриана и Байрона (в статье «О лорде Байроне», 1824 г.).
Однако лишь после 1830 г. появляются такие общественные настроения, в условиях которых сочувствие к Байрону основывается на новом восприятии его идей. По-прежнему видя в Байроне бунтаря, индивидуалиста и мизантропа, современники Июльской монархии теперь иначе оценивают эту его позицию: они больше не осуждают ее, а объясняют общественными условиями. Его поэзия кажется теперь удивительно созвучной литературе о современном человеке, потерявшем веру в прежние идеалы и сомневающемся во всем: в смысле истории и в возможности прогресса, в религии и диктуемой ею морали.
Публикация мемуаров Т. Мура о Байроне, приоткрыв картину интимной жизни поэта, оживила симпатии к нему, подкрепляемые теперь попытками объяснить его эгоистическую мизантропию причинами, выходящими за пределы индивидуального характера самого Байрона. В современной поэзии и романе почти на каждой странице и в привлекательном виде изображаются преступления против общественного порядка, пишет Кератри в «Книге ста одного». Он объясняет это явление тем, что современное положение дел в стране слишком благоприятствует влиянию Байрона с его презрением к общественным традициям.
Возмущение общественного спокойствия становится для некоторых людей главным занятием, замечает он, приводя любопытный случай в суде, когда обвиняемый на вопрос о профессии ответил: «émeutier» (бунтовщик). Те, чьи взгляды лишь формируются в русле движения вокруг событий 1830 г., находят у Байрона настроения и идеи, которые отвечают их собственным сомнениям.
В то время, как поколение В. Гюго и Ламартина, усвоившее столь характерные для периода Реставрации идеи исторического прогресса, оказалось подготовленным для оправдания Июльской революции как продолжения единой цепи социального развития, для их младших современников, вступивших в сознательную жизнь лишь с 1830 т., революция стала источником противоположной, трагической концепции своего времени. Они мыслят его как промежуточный момент между двумя эпохами — прошедшей и будущей. То, что было раньше, ушло безвозвратно, а то, что должно быть, еще не наступило и слишком безрадостным представляется в свете сегодняшнего дня.
Стремление разбогатеть стало единственной целью, унылый здравый смысл притупил все желания и страсти; вкусы диктуются запросами самодовольного обывателя. Героические времена сменились бесцветностью и однообразием общественной жизни — таков был приговор, который вынесло своему времени целое поколение, рожденное и воспитанное под звуки ружейной стрельбы и барабанного боя и ставшее свидетелем возвеличения и гибели не одного кумира. И если идеалы прошлого уже не вызывают в них сочувствия, то новые кажутся еще меньше достойными поклонения.
Души этих «разочарованных детей пылкого отца» были открыты прежде всего для скептицизма и иронической насмешки над своим презренным веком. Души, опустошенные низменностью современного общества и жаждущие высоких идеалов, находят в Байроне волнующее их родство взглядов и называют его братом Альфреда де Мюссе, который для них — воплощение современного поэта. У самого Мюссе восприятие байронизма обусловлено интересом к личности и ограничено тесным кругом самоанализа.
Мюссе довольствуется тем, что говорит как человек, подверженный всем разочарованиям и тревогам 1830 г., и эта поэзия кажется его поколению не только более человечной, но и более современной и понятной, чем энтузиазм Ламартина или пророческий пафос Гюго, которые «говорили, как боги». Фигура поэта-пророка, законодателя и светоча общественной жизни, в обстановке 30-х годов кажется малопонятной и старомодной, так как сама идея провиденциального человека исчезает под ударами сомнений в справедливости провидения.
Восхищаясь судьбой и личностью Байрона, современники Июльской монархии еще острее чувствуют контраст между эпохой недавней, но уже прошедшей, и новым обществом, которое, по их мнению, неспособно ни породить, ни оценить яркую индивидуальность. Сегодня процветают лишь заурядные характеры, не поднимающиеся даже до осознания своей посредственности; все оригинальное погибает в тисках условностей и мещанских понятий о приличиях; личность неспособна возвыситься над унылым однообразием толпы, нация лишается своего колорита и силы, и ей неоткуда больше ждать ни своего Байрона, ни нового Наполеона.
Причину зла, постигшего Францию, многочисленные авторы газетных заметок, очерков и критических статей этих лет видят в чрезмерном демократизме и свободе, которая дает возможность предприимчивой посредственности оттеснить или растворить в себе все то, что нарушает плоское однообразие и ограниченность современных интересов.
К такому выводу приходит и Мюссе. Демократизация всех сторон социальной жизни дала возможность проявиться личности, вырвавшейся из плена безликой массы. Обратной стороной этого явления оказывается опасность понимания равной для всех свободы как предпосылки обезличивания индивидуальности. Уничтожение ярких различий и богатств красок, оживлявших общество еще вчера, — эта гибельная тенденция подкрепляется сегодня заимствованной у северных соседей склонностью к размышлениям в духе Канта, которые Мюссе кажутся слишком абстрактными и туманными. Все это убивает в человеке интерес к другой личности, лишает его способности к непринужденному веселью и радости от общения с себе подобными, порождает желание обособиться и вкус к одиночеству (plaisirs solitaires).
Этими причинами Мюссе объясняет появление нового социального типа, в котором воплощается характерное в сегодняшней Франции настроение и воспринятое благодаря ему английское влияние дендизма. Мюссе, сам прослывший блестящим денди, находит дендизм чрезвычайно прискорбным социальным явлением. Самовлюбленное противопоставление себя миру — это, по его мнению, лишь внешность, скрывающая от постороннего взгляда всю глубину отчаяния личности, которая, стремясь избежать нивелирующей тенденции общества, оказывается трагически обособленной в своем индивидуализме.
Однако Мюссе не находит ничего, что можно было бы противопоставить ненавистному обществу, кроме позы пресыщенного денди. Скептицизм и отчаяние прикрываются насмешкой, которая кажется ему единственной возможностью современного искусства. Мюссе сохраняет эту позицию по отношению к Июльскому режиму, не находя другого способа утверждения человеческой личности в век утилитаризма. Скептицизм и отчаяние поэтому очень скоро становятся преобладающими нотами в его творчестве. Полемический задор «Испанских и итальянских повестей», фрондерство, продиктовавшее ему недавно желание обнародовать «тайные мысли» о новом пути искусства, сменяются уже в следующей поэме «Бесплодные желания» растерянностью и отчаянием безрезультатных попыток обрести понимание и согласие с веком.
Je suis jeune. J’arrive. A moitié de ma route
Déjà las de marcher, je me suis retourné.
La science de l’homme est le mépris sans doute.
Ему нет еще и 20 лет, когда он делает это признание.
Поэму «Бесплодные желания» и более раннюю «Тайные мысли Рафаэля, французского дворянина» разделяют всего три месяца, но это были первые послереволюционные месяцы, когда Мюссе, пережив вихрь надежд и поисков, останавливается в иронической позе разочаровавшегося и ко всему безразличного человека. Так, в первые же годы Июльской монархии, в громадном развороте общественной борьбы Мюссе приходит к пессимистическому индивидуализму.
Творчество Мюссе с самого начала — это вариант судьбы романтизма, оказавшегося после 1830 г. в атмосфере совершенно новых проблем. Расхождение эстетических позиций, начавшееся в этих условиях, обособило отдельные течения и открыло полемику внутри романтизма. Победив, романтизм перестал существовать как некое единство — эта мысль, вначале казавшаяся парадоксом, скоро становится привычной и даже «тривиальной истиной». 1830 год стал «роковым» в истории романтизма моментом, так как в условиях Июльского режима был подвергнут сомнению оптимистический взгляд на историю, и как никогда конкретно встала альтернатива отношения искусства и литературы к современной политической и социальной жизни. В психологии размышления и самоанализа, запечатлевшейся в творчестве Мюссе, выразилось неверие в большие философские обобщения, служившие источником оптимистического мировосприятия в 20-е годы.
Решающее влияние на взгляды и эстетическую позицию Мюссе оказало рождение нового социального конфликта: между художником и буржуа. Энергия и страсть «Испанских и итальянских повестей» остаются для него настроением пройденным, неповторимым и невозможным в условиях нового общества, которое стало результатом не очень удавшейся революции. Мюссе обращается к анализу сознания, углубляется в проблемы личности и ищет освобождения индивидуума от пут этого общества, которое кажется ему не только полностью антихудожественным, но и антигуманным.
Л-ра: Вестник ЛГУ. Серия 2. – 1966. – № 20. – Вып. 4. – С. 110-119.
Произведения
Критика