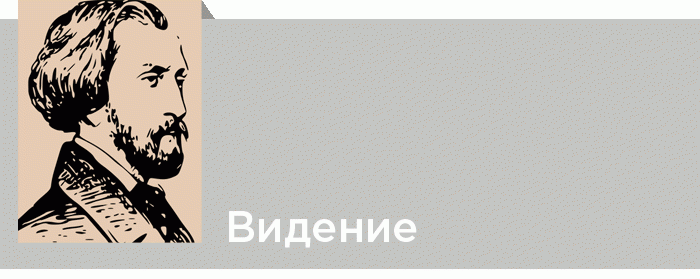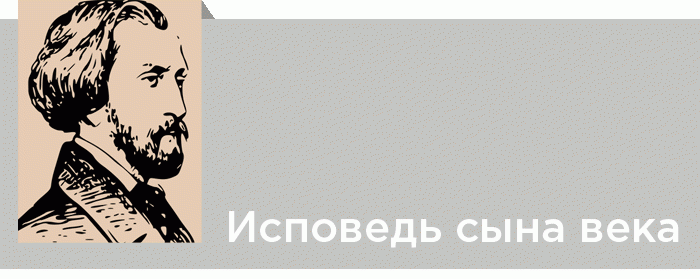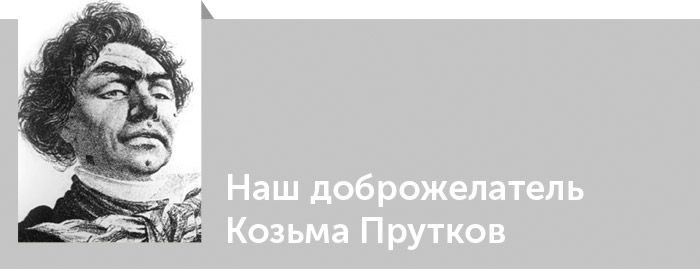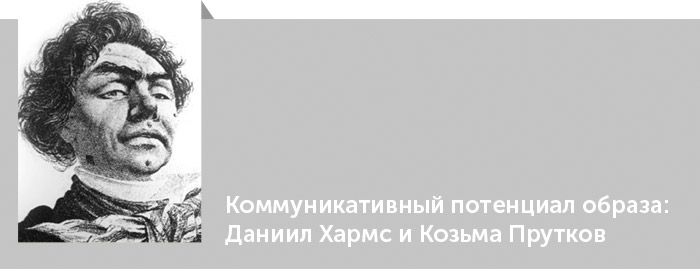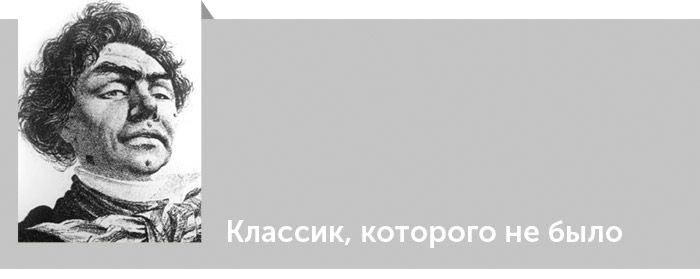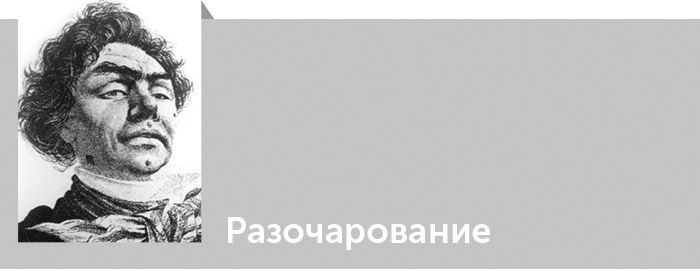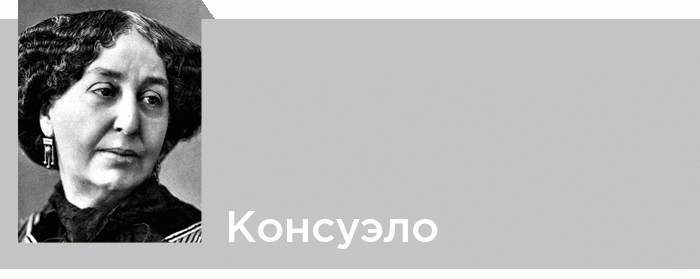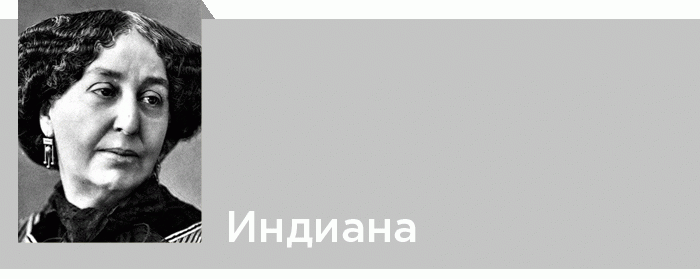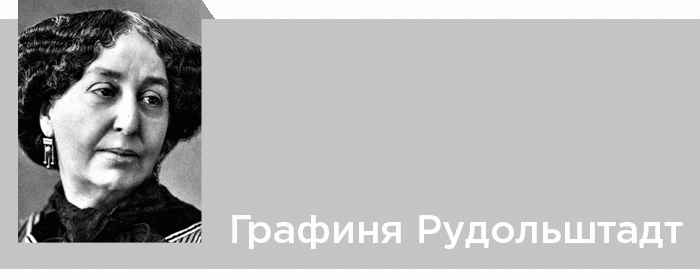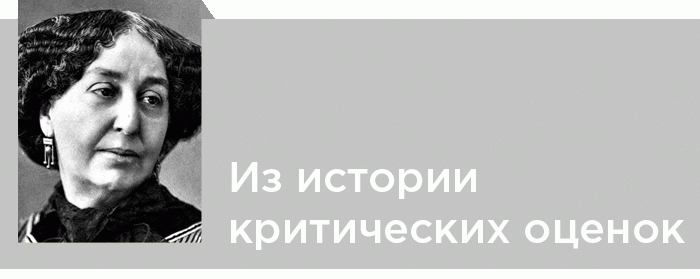Категория безобразного в эстетике Мюссе и французских романтиков

Н. В. Семенова
Вопрос о «безобразном» в искусстве как парной категории «прекрасного» был впервые поставлен и разработан романтиками. Категории эти, как никакие другие, связаны с тем, что в жизни и в искусстве представляется эстетически значимым.
Идея диалектики в немецкой классической философии имела своим следствием расширение сферы изображении в искусстве. Прекрасное в жизни связано с безобразным, добро - со злом, высокое - с низменным и, значит, они должны сосуществовать в искусстве. Эта идея об антитетической природе поэтического творчества, перенесенная на французскую почву, оживает в «Предисловии к «Кромвелю» Виктора Гюго. Отсутствие универсальной философской и эстетической теории во Франции, подобной той, что была создана в Германии, привело к тому, что теория романтизма создавалась самими художниками и писателями. Такое положение теории обнаруживает свои сильные и слабые стороны в «Предисловии». Гюго шел в теоретических построениях от своего художественного опыта, оперируя в качестве доводов другими именами из области искусства. «Предисловие» написано языком более метафорическим, чем строго научным - Мюссе спародировал стиль «знаменитейшего «Предисловия» позже в «Письмах Дюпюи и Котоне». Усвоение положений немецкой классической эстетики (Шеллинга, Канта) ощущается в исходных посыпках «Предисловия».
Гюго, обосновывая принцип романтического контраста, выстраивает пары эстетических категорий-антиподов: уродливое - прекрасное, безобразное - красивое, гротеск - возвышенное. Здесь первые две пары правильнее было бы свести в одну - прекрасное - безобразное, так как красивое и уродливое не являются эстетическими категориями, так как они дают внешнюю характеристику объекта. Гюго выводит идею сосуществования двух противоположных начал в искусстве из идеи христианского дуализма, извечного борение в человеке высокого и низменного. Художник должен «действовать как природа, сочетая в своих творениях, но не смешивая между собой мрак со светом, гротескное с возвышенным, другими словами - тело с душой, животное с духом».
Отталкиваясь в своих построениях от немецкой классической эстетики, Гюго не ощущает себя преемником Канта, более того, в исходном моменте своей эстетической доктрины он делает выпад в сторону последнего: «Итак, легкомысленные педанты (одно не исключает другого) будут утверждать, что безобразное, уродливое, гротескное не должны быть предметом изображения в искусстве...». То, что речь идет в данном случае о Канте, не вызывает сомнений: педантизм Канта, по которому жители Кенигсберга проверяли часы, а также упрек в «легкомысленности» (Кант создал свою эстетику, не опираясь на историю искусств, она явилась надстроечным явлением над его философией) дают основание это утверждать». Мнение, что Кант считал недопустимым изображение уродливого и безобразного в искусстве, - следствие того, что Гюго сам не различал этих двух понятий, которые у Канта контекстуально различаются. Искусство может делать предметом, своего изображения безобразное (война, болезни), но не уродливое; исключение возможно лишь для гения, так как гений сам себе закон и имеет право на абсолютно свободное изъявление, не сообразуясь с требованиями правил и вкуса. Можно предположить, что Кант различает эти понятия как антиподы прекрасного (безобразное) и красивого (уродливое). Безобразными в его рассмотрении оказываются явления, в оценке которых участвует социальная практика (война, болезни), а уродливым - внешне безобразное. И в войне, и в болезнях тоже есть стороны внешне безобразные, но не об этом идет речь - явления рассматриваются как социальные феномены. Показательно, что те же примеры Кант приводит в разделе о возвышенном, утверждая, что война возвышает дух нации, в то время как длительный мир снижает. Утверждение Гюго «Хорошо выполненное и плохо выполненное - вот что такое прекрасное и уродливое в искусстве» - представляет собой извлечение из Канта, неверно интерпретированное. Постулат Канта о том, что в искусстве и прекрасное, и безобразное имеют право на существование, лишь будучи «хорошо выполненными», кантовское «Изящное искусство обнаруживает свое превосходство именно в том, что оно прекрасно описывает вещи, которые в природе безобразны или отвратительны. Фурии, болезни, опустошения, вызванные войной, и т.п. могут быть прекрасно описаны как нечто вредное и даже прекрасно изображены на картине», - содержит лишь указание на то, что любое явление в искусстве должно быть отражено по законам искусства. В раннем французском романтизме вопросом этим задавался Балланш, что было связано скорее с уяснением специфики искусства, чем предмета искусства. «Как случается, - писал он в работе «О чувствительности», - что люди благородные и чувствительные не могут отвести глаз от изображения порока и восхищаются подражанием предметам, которые в жизни не вызвали бы у них ничего, кроме ужаса? Ответ на этот вопрос вполне традиционен и восходит к Горацию и Буало: «Порой художник изображает предметы безобразные или порочные, но если они нарисованы мастерски, то мы восхищаемся совершенством подражания, забыв об уродстве предмета. Таким образом, формула Гюго «Хорошо выполненное и плохо выполненное - вот что такое прекрасное и уродливое в искусстве» - это дань традиции и не содержит ничего принципиально нового; требованием совершенства формы подменяется вопрос о предмете искусства. Основной заслугой своего «Предисловия» полагая легализование безобразного, Гюго нигде не определяет границ безобразного и уродливого, не устанавливает принципа разграничения этих категорий. Заслуга Гюго заключалась, конечно, не в этой вольной интерпретации положений немецкой классической эстетики, но в том, что у него наложение кантовских антиномий на действительность с ее обострившимися социальными противоречиями отвечало исторической правде и обусловило величие и пафос его социальных романов. Вместе с тем при отсутствии ясных исторических перспектив возникала возможность истолкования безобразного как вечного в искусстве, эстетизации его. Лозунг Гюго «Что в природе - в искусство» открывал двери натурализму «неистового романа». Сам Гюго, однако, в своих прокламациях оказывался более радикальным, чем в творчестве: безобразное и уродливое у него оказывается неизменно облагороженным. Идею, заимствованную из немецкой классической философии, о гармонии и борьбе противоположностей Гюго упрощает, понимая как сбалансированность, мерность прекрасного и безобразного, возвышенного и гротеска. Хотя речь идет об извечной борьбе этих начал, более важно для Гюго механическое соблюдение тех же пропорций прекрасного и безобразного в искусстве, как и в жизни.
Это отметил в XIX в. Брандес, который писал, что природа в изображении французских романтиков (более всех это приложимо к Гюго) - это «сумма идеальности и скотства».
Другим вдохновляющим источником «Предисловия» явилось творчество Шекспира и интерпретация его, данная А.-В. Шлегелем в работе «Чтения о драматической литературе». Проницательна оценка произведений «неистовой словесности» и ее теоретика в Лине Гюго, которая могла бы служить иллюстрацией кантовского положения о «подражании» и «подделывании» в искусстве. Основной постулат кантовской теории художественного творчества: гений творит свободно, как природа, а отсюда - «произведение гения ...это пример не для подражания... а для преемства со стороны другого гения, в котором оно пробуждает чувство собственной оригинальности и стремление быть в искусстве свободным от принудительности правил. Но так как гений - баловень природы и его следует рассматривать как редкое явление, то его пример создает для других способных людей школу, т.е. методическое обучение по правилам, насколько их можно извлечь...» Романтические драмы представляются Шатобриану подобным извлечением из Шекспира, он даже вменяет в вину великому английскому драматургу порчу вкуса у романтических французских авторов («Шекспир испортил вкус»). То, что представляло собой хаос, вселенную в его драмах, смешение «благородного с подлым, серьезного с шутовским», став извлеченным из творчества гения рецептом создания гениальных произведений, ведет к тому самому «подделыванию», от которого предостерегал Кант. «Вели для того, чтобы достичь вершин искусства трагедии, - писал Шатобриан в работе «Опыт об английской литературе», - достаточно без всякой связи и последовательности нагромоздить разрозненные сцены, связать в одну кучу шутовское и трогательное, поставить водоноса рядом с монархом, торговку зеленью рядом с королевой, то кто не может льстить себя надежной, что он - достойный соперник великих авторов?». Не вызывает сомнений отнесенность этого обвинения автору «Предисловия».
Ввести в «Предисловие» категории прекрасного и возвышенного, не оговаривая их границ, стало возможным после того, как они были разработаны в эстетике Канта. Гюго трактует Канта поверхностно. Во-первых, в один ряд он ставит эстетическую категорию и прием (возвышенное и гротеск), в то время как принцип парности требовал представить эту пару как возвышенное низменное. Низменное же не всегда требует для своего выражения условных форм. Далее, Кант, не делая предметом своих рассуждений и не употребляя самого слова «гротеск», не отрицает его права на существование в искусстве. Для искусства, по Канту, безразлично, имеется ли для отображаемого в нем аналог в действительности или образы его - плод чистой фантазии. И само соединение возвышенного и гротеска, отвечавшее творческому методу Гюго - мышлению ассоциациями по контрасту, будучи возведено в принцип нового искусства, воспринималось многими современниками как проявление новой романтической нормативности. Гюго рассматривает гротеск как гипертрофированно уродливое и безобразное; это явствует из упреков, обращаемых к античным авторам: их гротеск «робок», так как образы сатиров, тритонов, сирен «только чуть-чуть уродливы». О гротеске как приеме комического Гюго упоминает («гротеск - это комедия»), но специально не рассматривает. Гротеск в понимании Гюго нечто иное, хотя и предполагает деформацию внешней формы, приближаясь в этом последнем к определению гротеска как средства комического у современных исследователей. Вместе с тем у Гюго гротеск вбирает безобразное, уродливое и низменное, рассматривается как парная категория к возвышенному. То, что гротеск оказался в центре эстетической системы Гюго, не случайно. Классицисты понимали жизнеподобие как сходство, как условие создания иллюзии жизни, отсюда их исключительное предпочтение жизнеподобным формам. Романтики возвели деформацию, нарушение жизнеподобия в эстетический закон по принципу отталкивания от классицизма, хотя сами условные формы существовали в искусстве и до романтизма.
Заявляя себя революционером в искусстве, Гюго, с одной стороны, оставляет за исходное классицистское учение о «прекрасном идеале», к которому безобразное в искусстве является лишь дополнением по контрасту. С другой стороны, именно эта установка на вспомогательную, не первостепенную функцию безобразного в искусстве привела к тому, что Гюго не ставит своей задачей определения безобразного, отграничения его от уродливого и ужасного.
Шатобриан, не приемля натуралистического изображения порока, утверждает, что «не природа... а извращенность ума» повинна в том, что новейшими авторами овладело «пристрастие к безобразному, отвращение к идеалу, любовь к кособоким, безногим, кривым». Находить в уродливом прекрасное - это и есть, по Шатобриану, эстетизация безобразного, что явилось оборотной стороной деклараций французских романтических авторов. «Животно-материалистическая школа», как определяет ее Шатобриан, и насаждаемые ею идеалы привели к тому, что «не осталось людей чувствующих, понимающих, что такое порядок, истина, красота». Таким образом, круг замкнулся. Безобразное, введенное в романтическое искусство, заставляет вновь вернуться к осмыслению того, что такое прекрасное.
Позиция Мюссе в этом вопросе есть то самое «уравнивание крайностей романтизма», которое существовало не только в языке, но и в эстетической мысли эпохи романтизма. И закономерно, что больше места в его статьях занимает не утверждение безобразного, а защита прекрасного в искусстве: «Красота нужна и литературе, и живописи, и всем другим искусствам... Отрицая, что искусство «должно украшать природу» в том понимании, какое вкладывали в это классицисты (художник «не должен выходить из определенного круга»), Мюссе далек от того понимания прекрасной природы, которое было сформулировано классицистами. Это видно уже из того, что Мюссе говорит о необходимости «обновить искусство и возвратить его к правде, показать в природе все то, что скрыто в ней прекрасного, благородного, бессмертного». Мюссе не упрощает и не отождествляет прекрасное с красивым. Художники и музыканты вправе использовать «все ноты, все краски» - подобная творческая свобода должна быть предоставлена и писателю. Прекрасно в искусстве и литературе то, в чем ощущается соотнесенность с эстетическим идеалом: «Кто более тривиален, циничен, чем Гофман и Жан-Поль? Но кто носит более, чем они, в глубине сердца изысканное чувство красоты, благородства, идеала?»
Не давая специального определения прекрасного, Мюссе постоянно называет одно его качество, которое некогда было отмечено Кантом: «Чистота же любого простого вида ощущений означает, что однородность его не нарушается и не прерывается никаким посторонним ощущением и относится только к форме... Поэтому все простые цвета, если только они чисты, считаются красивыми». Мысль эта повторяется Мюссе неоднократно. Образец для искусства - природа, которая «проста и понятна». В искусстве «форма должна быть доступна каждому». «Простота никогда не бывает надуманной», - это определяет отрицательное отношение Мюссе к карикатуре. «Я не большой любитель карикатуры в живописи», — в этом сдержанном отношении к деформации формы Мюссе также близок Канту, который определяет карикатуру следующим образом: «Характерное в этом виде, доведенное до преувеличения, т.е. то, что уже наносит ущерб идее нормы (целесообразности, рода) называется карикатурой».
Назначение искусства Мюссе и Гюго понимают противоположно. Задача искусства у Гюго — напоминать о безобразном, у Мюссе — забыть о нем. Описывая «Венеру» скульптора Прадье, Мюссе упоминает о тех произведениях, возле которых можно простоять целый день, забыв о том, что где-то существует безобразное. Красота нужна в искусстве, так как гармония в искусстве дает человеку ощущение приобщения к гармонии мира. Дисгармония современной эпохи в том, что она антиэстетична и эклектична, и искусство не может это игнорировать. Когда Мюссе говорит о том, что «только портреты имеют право быть безобразными», речь идет не о жанре портрета, а об изображении современной жизни, списывании с натуры. Если, изображая современную жизнь, художник не может обойти безобразное, то, обращаясь к прошлому, он вправе обойтись без него. Сам Мюссе в своем творчестве ищет способы преодолеть эклектику и вернуться к исходной чистоте стиля — отсюда большинство его новелл обращено в прошлое или связано с ним.
В своем понимании безобразного и уродливого в искусстве Мюссе близок Канту, хотя и ограничивает художника в изображении безобразного современностью. Введение безобразного в искусство сделало актуальным вопрос о границах допустимого в изображении, о разных возможностях разных видов искусства, «мере такта» художника в изображении теневых сторон жизни. Об опасности, которая подстерегает художника, обратившегося к изображению уродливых явлений, писал уже Кант. Отображенные в искусстве, особенно в пластических искусствах, для которых это вообще запретная область, они могут вызвать «отвращение» - не эстетическую, а физиологическую реакцию, когда «представление о предмете уже не отличается от самой природы этого предмета»; в ваянии «непосредственное изображение безобразных предметов» непозволительно, так как в скульптуре «искусство почти смешивается с природой». Уродливое Мюссе рассматривает как внешне безобразное и введения его в искусство не приемлет - «уродливая натура», к которой прибегают живописцы, способна внушить лишь «отвращение». Мюссе упрекает романтических авторов за их пристрастие к изображению «безобразных страшилищ или мертворожденных уродцев», так, как художник в этом случае играет на низких инстинктах публики, пытаясь «возбудить ее притупившуюся чувственность».
Гюго в «Предисловии» ставит в один ряд ужасное, безобразное, уродливое; Мюссе - их различает. Когда Мюссе говорит о пейзаже в романтической живописи: «Это природа живая, ужасная, величественная, прекрасная», - ужасное понимается здесь как высокотрагическое, а «ужас» как эстетическая реакция, близкая античному катарсису, отграничивается от «отвращения» как внеэстетической реакции. В картине «Отступление из России» Шарле, где художник изобразил разбитую армию Наполеона, есть безобразное - трупы, мародеры, но картина, представляющая «само горе человеческое», вызывает «ужас», эстетическую реакцию, которую могут вызвать подлинные произведения искусства. Не случайно это впечатление сравнивается с потрясением от картины Жерико «Плот «Медузы». В последние годы жизни Мюссе вновь возвращается к вопросу о безобразном в искусстве, очевидно пытаясь уяснить его для себя. Теперь он смотрит на предмет с позиций гетевского пантеизма - высшей истиной представляется ему суждение «Всякая вещь заключает в себе немного от тайны господней». Мюссе иначе оценивает и допущение уродливого в искусство: все, что есть в природе, достойно быть изображенным в искусстве, ибо во всех явлениях природы, «даже наиболее уродливых», открывается художнику некая высшая истина.
Л-ра: Романтизм. Открытия и традиции. – Калинин, 1988. – С. 58-66.
Произведения
Критика