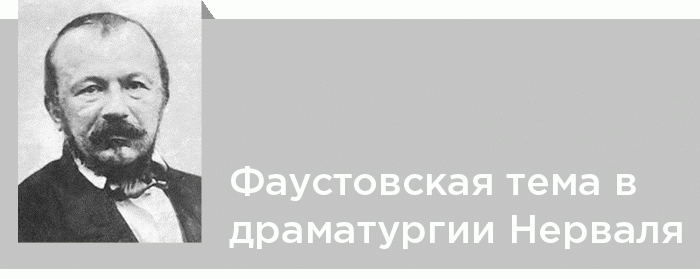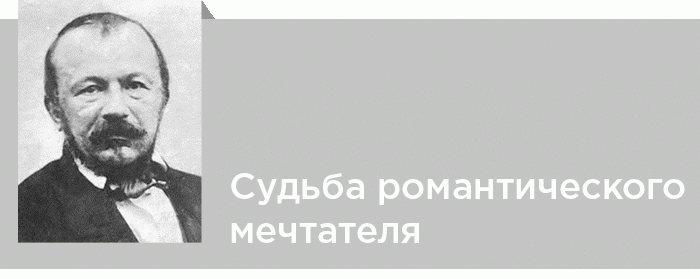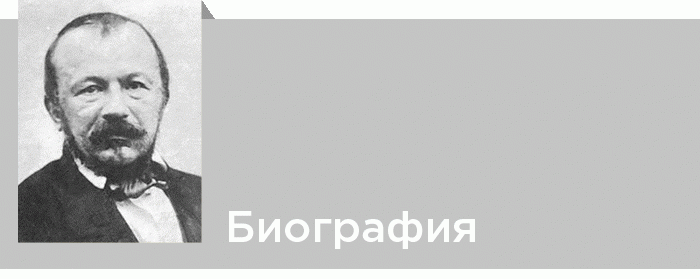Два пейзажа с руинами в новелле «Сильвия» Жерара де Нерваля
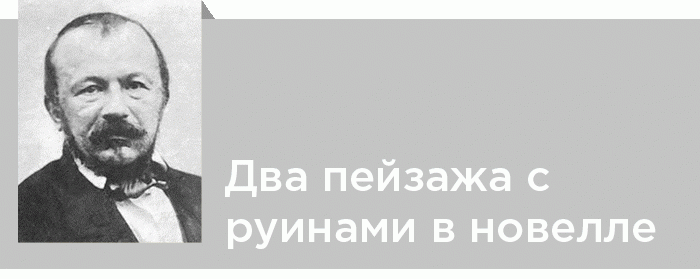
М. В. Божович
В этой статье рассматривается четвертая («Путешествие на остров Киферу») и девятая («Эрменонвиль») главы новеллы Нерваля «Сильвия». В них содержатся два параллельных описания пейзажей с руинами. В первом случае это развалины Храма Урании на острове, где происходит праздничный ужин, во втором — разрушившийся Храм Философии, некогда выстроенный по заказу Руссо. Эти описания участвуют в развитии основной темы новеллы — «поисков утраченного времени».
Напомним вкратце содержание новеллы. Повествование ведется от первого лица. Герой рассказывает о своей любви к двум женщинам, между которыми он должен сделать выбор. Одна из них — актриса Аврелия — влечет к себе персонажа своим странным, мистическим сходством с его первой, детской возлюбленной, Адриенной, отданной в монастырь. Другая — Сильвия — деревенская девушка, с которой рассказчик дружил в детстве и которая втайне ревновала его к Адриенне.
Выбор между Аврелией и Сильвией — это выбор не только между двумя женщинами, к которым одинаково сильно, но по-разному привязан герой, но и между двумя оппозиционными системами ценностей. Образ Аврелии включен в следующую цепь коннотаций: Париж — вечер (ночь) — сцена — искусственность — зрелость; образ же Сильвии актуализирует ряд противоположных значений: сельская местность — утро (день) — деревенский праздник — бесхитростность — детство. Эти два ряда пересекаются в образе Адриенны, которая прямо не участвует в действии новеллы, но все время возвращается в воспоминаниях героя-рассказчика, загадочным образом сочетая в себе две ипостаси — дневную (ангельскую) и ночную (демоническую).
Чувствуя свою принадлежность зрелому, ночному миру, герой тем не менее одержим желанием вернуться в детство и вновь занять принадлежавшее ему в прошлом место подле Сильвии. В какой-то момент это становится возможным, но в целом попытка возврата в прошлое оканчивается неудачей. Любовь же к актрисе тоже оборачивается химерой, и, в образе Аврелии, герой повторно теряет Адриенну, теперь уже навсегда.
Возврат в прошлое возможен для героя-рассказчика лишь в присутствии Сильвии. Они встречаются три раза. За исключением последней встречи, когда рассказчик увидел уже замужнюю женщину и мать семейства, у него было две возможности найти с ней свое счастье. Из этих двух встреч одна обещала осуществление мечты, другая ее разрушала. Однако в обоих эпизодах сюжет развивается по одной и той же модели: праздник лучников, длящийся всю ночь, где рассказчик встречает Сильвию; утренняя прогулка рассказчика в Луази — деревню, где живет Сильвия, — чтобы вновь увидеть ее и пожелать ей доброго утра; по дороге — посещение местечка Монтаньи и дома, где прошло его детство, а затем продолжение пути в Луази и встреча с уже проснувшейся Сильвией.
В первом случае, когда все обещает гармоничное разрешение конфликта между прошлым и настоящим, отправным пунктом этого маршрута является Храм Урании. На его фоне происходит традиционный праздник лучников, душой которого является юная, ни в чем не изменившаяся со времен своего детства Сильвия, и сам храм словно обещает возможность возврата в прошлое. Во второй раз развалины Храма Философии, мимо которого проходит рассказчик по пути из Монтаньи в Луази, наводят его на невеселые размышления о безвозвратно ушедшем, предваряют скорое крушение надежд на счастье.
В обоих эпизодах речь идет о модных в XVIII веке искусственных руинах в форме античных храмов, но отношение рассказчика к этой искусственности в обоих случаях не одинаково. Когда автор говорит о Храме Урании, он целиком приемлет тот факт, что развалина поддельная, во втором же случае он этого якобы не знает. Поэтому в четвертой главе перед читателем — «современная руина», на которую «навели глянец молодости», украсив ее цветочными гирляндами и превратив в праздничную залу, а во второй — «неоконченное строение, не более чем руина», о котором сказано, что «его основателю не выпало счастья увидеть его достроенным». И если Храм Урании легко включается в цепь положительных коннотаций — молодость, цветы, праздник, то Храм Философии отсылает читателя к мысли о гибели и о двойном упадке — в силу неоконченности (заказчик умер), и в силу разрушающего воздействия времени. Таким образом, развалина на острове является украшением пейзажа, живописной декорацией к празднику, руины же Храма Философии свидетельствуют лишь об ущербности и запустении, и рассказчик не хочет ослаблять эффект упоминанием о том, что храм был с самого начала задуман в виде развалин.
Итак, Храм Урании помещает повествования под знак полноты жизни, тогда как Храм Философии знаменует собой забвение и смерть. Каждая из этих мыслей развивается автором в описании.
Устроителями праздника были «молодые люди, отпрыски старинных семейств, которые все еще владеют в этом краю замками, затерянными в лесах и пострадавшими более от времени, чем от революции». В системе ценностей Нерваля идея древнего рода занимает важнейшее место, поскольку именно благодаря сохранению рода осуществляется связь прошлого и настоящего.То, что древнейшая традиция храмового праздника поддерживается усилиями потомком старинной фамилии, обретает символическое значение: «доброе старое время» не потеряно навсегда. Руина, которая является сценой для этого праздника, оказывается сакральным пространством, где происходит соединение прошлого и настоящего.
В начало девятой главы помещена сцена визита в дом покойного дяди, где рассказчик провел детство. Этот эпизод предваряет описание Храма Философии и тем самым оказывается с ним в одном смысловом ряду. В доме дядюшки все говорит о скорби и унынии. «При виде желтого фасада с зелеными ставнями мною овладела несказанная грусть. <...> Я с умилением узнал все ту же старую мебель, она была в полной сохранности, с нее даже сметали пыль». Перед нами пространство, где ничего не изменилось за долгие годы, но тем не менее ощущение жизни навеки покинуло его. В этом доме под маской неизменности (все на своих местах и даже пыль сметена) царит смерть, и апогеем этого мумифицированного прошлого является чучело пса: «На столе по-прежнему стоит чучело пса — я его помню живым, он был постоянным моим спутником по лесным прогулкам, этот дог-карлин, последний, может быть, представитель вымершей породы».
Таким образом, сравнив начала глав, мы можем выделить две важнейшие оппозиции: живой род/вымершая порода и вторая, симметричная ей, — развалины, где царит жизнь/искусственно законсервированный дом, где царит смерть.
Такая деталь как чучело пса важна еще и потому, что она коррелирует с другим указанием рассказчика в этой же девятой главе: «А вот и остров, и тополя, и могила Руссо, уже не хранящая его останков». Таким образом, описание руины помещено в мрачный, болезненный контекст — между упоминанием о чучеле пса (непогребенное тело) и о пустой могиле (эксгумированное тело).
Зато в главе «Путешествие на остров Киферу» описано зрелище прямо противоположное. «Когда ужин подходил к концу, из огромной цветочной корзины вдруг вылетел дикий лебедь», который «радостно устремился к небосклону, где догорал закат». Животное, превращенное в чучело, и мощная птица, устремляющаяся в небо, образуют антиномию жизни и смерти, в которой по-своему участвуют обе руины: Храм Философии в качестве мавзолея и Храм Урании как фон для прекрасного зрелища.
Обе главы оканчиваются воспоминаниями о детстве. В «Путешествии на остров Киферу» рассказчик обретает потерянное время и вновь занимает место подле Сильвии, которую когда-то в шутку называли его невестой. Это обретение осуществляется не сразу, а постепенно. Поначалу девушка не спешит признать в элегантном молодом человеке своего детского приятеля по играм: «Он меня забыл. <…> Мы же деревенские, куда нам до парижан!» Она хмурится в продолжение всего ужина, но вот наступает поворотный момент — сцена с лебедем: рассказчику удается поймать на лету венок и увенчать им голову Сильвии, словно искупая свою прошлую «измену», когда, в далеком детстве, он подобным же венком увенчал Адриенну. С этой минуты Сильвия признает в молодом человеке своего старинного друга и герои с упоением «обмениваются общими детскими воспоминаниями», тем самым как бы возвращаясь в детство.
Глава «Эрменонвиль» тоже завершается воспоминанием, но на этот раз прошлое остается недоступным, а дистанция, отделяющая рассказчика от Сильвии, непреодолимой. Образ недолговечности и омертвения, введенный в начале главы, скрыто или явно присутствует до самого конца. Эрменонвильский парк является лишь атрибутом прошлого. «До чего здесь одиноко и грустно! Волшебный взор Сильвии, ее самозабвенная беготня, ее радостные вскрики придавали когда-то такое очарование каждой пяди земли, по которой я сейчас прошел». Подобно опустевшему дому, эрменонвильское пространство способно лишь напомнить о прошлом, но бессильно его воскресить.
Итак, можно утверждать, что оппозиция живое/мертвое симметрична в контексте «Сильвии» оппозиции прошлое/настоящее. Смерть для Нерваля — это, как правило, смерть прошлого, и невозможность его воскрешения значительно более трагична, нежели просто физическое исчезновение.
Описание руин создает еще одну антитезу, находящуюся в связи с двумя уже названными: явное или скрытое противопоставление природы и культуры постоянно прослеживается в нервалевском тексте.
При виде Храма Философии, на фасаде которого начертаны имена Монтеня, Декарта, Руссо и знаменитая фраза Вергилия, рассказчик предается сентиментально-философским размышлениям типа ubi sunt. «Где кусты роз, кольцом окружавшие холм? Шиповник и малина скрывают от глаз уже одичавшие кусты... Ну а лавры, верно, срубили, как в той песне о девицах, которые не хотят больше идти в лес? Нет, эти деревца, уроженцы благодатной Италии, просто погибли под нашими туманными небесами. К счастью, все еще цветет бирючина, воспетая Вергилием, словно в подтверждение слов великого поэта, начертанных над входной дверью: Rerum cognoscere causas».
Слова Вергилия в данном контексте очень важны. Мы находим их во второй книге «Георгик», которая целиком посвящена описанию деревьев, садоводству, а также восхвалению сельской жизни («Трижды блаженны — когда б они счастье свое сознавали — жители сел»), которая, в отличие от жизни городской, исполнена довольства, покоя бесхитростной веры — именно этому, а не самым глубоким знаниям, автор «Георгик» отдает предпочтение.
Сельская идиллия, описываемая Вергилием, чрезвычайно актуальна для содержания «Сильвии», где, как мы помним, выбор героя между двумя женщинами означает выбор между деревенской и столичной жизнью. Но в более узком контексте описания Храма Философии эта идиллия обретает дополнительный смысл, вводя противопоставление между античностью и новым временем. Восхваляя стремление к знаниям, латинский поэт при этом отдает предпочтение сельской жизни; образ же развалин храма, воздвигнутого современной философией, и пришедшего в запустение парка свидетельствует о том, как обострилось в новое время противоречие между жаждой познания и согласием с природой. Ученый, разнимающий природу на части, уничтожает тайну, убивает Великого Пана. Ури Эйзенцвейг пишет в своей книге о пространственных структурах в «Сильвии»: «Их мысли (Монтеня, Декарта и Руссо), увековеченные Храмом Философии, пробудили современное сознание с его апологией сомнения, умертвив мифорелигиозную систему мышления». Современное сознание и современная культура (в отличие от античной) вступают в конфликт с природой, но при этом бессильны ей противостоять («...равнодушная природа вновь завладеет клочком земли, на который притязало искусство <...>»).
Имя Руссо находится рядом с именами Декарта и Монтеня («на них [на стенах] по-прежнему начертаны имена великих мыслителей — этот список открывают Монтень и Декарт и завершает Руссо»), но его положение в этом ряду неоднозначно. Хронологически это, конечно, «современный» философ, но его идеи, которые рассказчик неслучайно называет «последним отзвуком античной мудрости», находятся в известном противоречии с представлениями нового времени, ведь Руссо как раз настаивает на естественной простоте человека и необходимости возврата к природе. Но, в то же время, именно по его заказу возводили Храм Философии и сажали парк, которых не пощадили время и равнодушная природа.
Фигура Руссо оказывается амбивалентной и в другом эпизоде. Все в той же девятой главе рассказчик подле могилы знаменитого философа произносит про себя следующие слова: «О мудрец! Ты пытался напитать нас млеком сильных, но мы были слишком слабы, оно не пошло нам впрок. Мы забыли твои уроки, усвоенные нашими отцами, мы не способны проникнуть в смысл твоих слов...» и т. д. Нейтральная на первый взгляд метафора философской мудрости («млеко сильных») реализуется в более широком контексте новеллы, обретает двойной смысл.
Из двенадцатой главы, которая называется «Папаша Пузан» (этот персонаж, кстати, является гротескным двойником Руссо), выясняется, что Сильвия помолвлена с молочным братом рассказчика. Узнав об этом, рассказчик восклицает про себя: «Ну не насмешка ли это судьбы — мой молочный брат родом из того самого края, который прославился благодаря Руссо, а ведь он, Руссо, требовал, чтобы кормилиц упразднили!» Фраза о «млеке сильных» включается в тонкую смысловую перекличку, завязывающуюся вокруг понятий слабости и силы. История с молочным братом, более сильным не только в переносном смысле (он завоевывает место подле Сильвии), но и в прямом (когда-то он спас рассказчику жизнь, вытащив его из воды), является откликом на внутренний монолог подле могилы Руссо, этого «гения места», который был против кормилиц, но зато, как некий заботливый отец человечества, предлагал ему «млеко сильных», которое не пошло людям впрок как раз-таки потому, что они были слишком слабы. А может быть, все неудачи рассказчика как раз и идут от того, что он, наоборот, уже достаточно вкусил мудрости и знаний, а потому не может вновь обрести счастья? Таким образом, «млеко сильных», т. е. мудрость, оказывается противопоставлением естественному молоку, а Руссо, хоть и проповедовал близость человека к природе, тоже включен в пантеон современных философов, чьи имена еще можно разобрать на обвалившемся фасаде.
В отличие от Храма Философии, Храм Урании не символизирует человеческое знание в ущерб природе и потому находится в согласии с ней. Однако «остров Киферы», где разворачивается праздник лучников, не является диким, необжитым местом. Будучи вполне освоенным пространством, остров в этом смысле не только не противопоставлен Эрменонвильскому парку, но даже схож с ним: «В этой местности, как и в Эрменонвиле, много таких вот легких строений конца восемнадцатого века, где философы-богачи обдумывали свои прожекты, навеянные духом времени». Близость к природе состоит не в том, чтобы ничего не ведать о культуре, ибо не всякая культура противополагает себя природе — вспомним Вергилия. Описание Храма Урании, как и описание постройки в Эрменонвиле, аккумулирует имена: эта руина «отдает» «скорее язычеством Буффлера и Шолье, нежели Горация». Ниже упоминается Ватто. Почему именно эти имена?
Станислас Жан де Буффлер и Гийом де Шолье — поэты XVIII века; их стихи относятся к жанру легкой поэзии, в русле анакреонтической традиции. В изобразительном же искусстве этот жанр представлен именем Антуана Ватто, чья картина на сюжет галантных празднеств — «Отплытие на Киферу» — представляет собой иллюстрацию к четвертой главе «Сильвии». Создается «нео-античный» ряд, который, безусловно, является коррелятом к искусственной руине в форме античного храма. При этом упоминание о Горации, т. е. о подлинной античности, никак не «компрометирует» руину. Негативное противопоставление античности и нового времени здесь отсутствует, наоборот, современность является продолжением древности, и все на этом празднике напоминает о ней — и воображаемое название острова, и лебедь, птица Аполлона, и группа девушек, сопровождающих повозку с цветами, и наконец, сама Сильвия («В [ее] улыбке, таилось нечто аттическое; я восхищался этим достойным античных ваятелей лицом...»).
Праздник лучников, соотнесенный с античностью, становится чем-то вроде олимпийских состязаний («после церковной мессы, состязаний и раздачи наград победителей пригласили к трапезе»). Интересно, что Храм Философии тоже когда-то служил праздничной декорацией, но что это был за праздник? «В детстве я не раз присутствовал здесь на торжественном вручении наград за успехи и примерное поведение молоденьким девушкам в белых платьях». Из этих двух возможных наград — одна за силу и ловкость, другая за «успехи и примерное поведение» — рассказчик безусловно отдает предпочтение первой.
Включенность человека в природу, без которой немыслим античный праздник, передается благодаря устойчивому присутствию в нервалевском пейзаже водной глади, отражающей поверхности, которая важна по двум причинам. Во-первых, она вводит представление о вертикальности, диахронии и таким образом способствует воспоминанию, связывает прошлое и настоящее. В начале четвертой главы о процессии девушек сказано, что она «отражалась в недвижных водах, обступивших островок»; в конце этой же главы Сильвия и рассказчик, обмениваясь детскими воспоминаниями, любуются «отблесками заходящего солнца на <...> водной глади». Таким образом, четвертая глава начинается и завершается упоминанием об отражении, и это целиком помещает ее под знак ожившего воспоминания и возрожденной античности.
Во-вторых, для Нерваля любое отражение и, шире, изображение (даже подражание, как в случае с искусственной руиной) не только не дезавуируется своей вторичностью, но, наоборот, приобретает самостоятельное значение и в какой-то степени само становится оригиналом. Праздник «воскрешал» «галантные торжества ушедших дней», а церемония отъезда на остров хороша тем, что почти в точности воспроизводит картину Ватто.
Интересно проследить, как отражающая водная поверхность — неотъемлемая часть нервалевского locus amaenus — меняет свой статус в девятой главе в связи с описанием Храма Философии и Эрменонвильского парка: «Я <...> увидел неподвижные воды <...>, водопад, со стенаниями летящий с утеса на утес <...>, огромный как саванна луг, окаймленный сумрачными холмами; вдали башня Габриели отражается в пруду, усеянном звездами недолговечных цветов; вскипает пена, жужжат насекомые... Прочь от предательских испарений, витающих над этим местом <...>!» Перед нами неуютный, враждебный ландшафт, где каждая деталь приобретает негативное звучание: «огромный луг» и «сумрачные холмы» создают ощущение пространства разомкнутого не ввысь, а вширь, рождая у рассказчика чувство одиночества и незащищенности; водная поверхность связана с упоминанием о недолговечности (недолговечные цветы), с кипением пены (это уже не тихая водная гладь, окружающая остров), с докучливыми насекомыми; водопад падает «со стенаниями»; отражение присутствует, но отражается лишь зловещая башня. Это мертвое место «предает» прошлое («До чего здесь одиноко и грустно!»), навеки отлучает от себя человека.
Помимо отражающей водной поверхности есть и другая деталь пейзажа, которая диаметрально меняет значение в зависимости от контекста. Украшая руину, участники праздника «в зале между колоннами развесили цветочные гирлянды». Обработанный камень и растительность обычно противопоставлены друг другу. Пуская корни между камнями, растение разрушает их — именно это происходит с Храмом Философии: «Неоконченное строение теперь не более чем руина, плющ увил его изящным плетением, ежевика разрослась меж полуобвалившихся ступеней».
В описании же Храма Урании «растительность на камне» дается с положительным знаком как новое свидетельство радостного соучастия человека и природы в древнем празднике.
Мы уже упоминали о важности понятий вертикальности и диахронии. Храм Урании тоже расположен на вертикальной оси, не только из-за того, что он метафорически напоминает о прошлом (современная руина в форме античного храма), но и благодаря указанию на то, что «три колонны уже обрушились и увлекли за собой часть архитрава». Архитрав является основанием антаблемента, непосредственно покоящимся на колоннах. Если же колонны обрушились, то от горизонтальной части портика ничего не осталось. Руина, которая предстает взору рассказчика, состоит только из колонн, т.е. представляет собой ничем не нарушенную вертикальность. Косвенно это подтверждается в эпизоде с лебедем, который «устремляется к небосклону», не встречая никаких преград на своем пути. С руинами же Храма философии дело обстоит иначе. Они не создают ощущения воздушного, сквозного пространства, поскольку сохранились стены («стены еще не рухнули»), т. е. нечто отгораживающее человека от внешнего мира; есть горизонтальные линии, о чем свидетельствует надпись на стене. Таким образом, Храм Урании, будучи произведением рук человека, полностью вписывается в природу и, воплощая идею вертикальности, участвует в гармоническом единении прошлого и настоящего. Храм Философии, наоборот, способствует представлению о горизонтальности, замкнутости человека в настоящем и его отъединенности от природы.
Таким образом, мы могли убедиться, что сюжет «Сильвии» основан на конфликте прошлого и настоящего. Благоприятным для героя является лишь то, что оживляет иллюзию возврата в детство. Узловыми моментами актуализации конфликта являются четвертая и девятая главы новеллы. События, описываемые в них, пространственно сосредоточены вокруг двух руин, одна из которых нагружена положительной, а другая отрицательной коннотацией. Эти руины вводят три дополнительные оппозиции — жизнь/смерть, античность/понос время, благосклонная природа/равнодушная природа — посредством которых реализуется центральный конфликт. Как представлены эти оппозиции?
В первой из них выстраивается следующий ряд антитетических значений: праздник — могила; дикий лебедь — чучело собаки; потомки древнего рода — вымершая порода; омоложенная руина неоконченное развалившееся строение.
Вторая оппозиция включает в себя ряд симметричных значений: древние авторы = античность - соревнования в ловкости - телесная и духовная сила, которым противопоставлены: современная философия и новое время = соревнования в прилежности - телесная и духовная слабость.
И наконец, антитеза благосклонной и равнодушной природы раскрывается через следующие противопоставления: вертикальное/горизонтальное; растительность, украшающая камень/растительность, разрушающая камень; отражающая водная поверхность/пенная, непрозрачная вода.
Два рассмотренных нами пейзажа с руинами являются интересным примером того, как на расстоянии пяти глав между двумя второстепенными деталями может образоваться своеобразное «натяжение», в результате чего основной конфликт обогащается новыми, дополнительными смыслами, которые предопределяют развитие сюжета и его развязку.
Л-ра: Вестник МГУ. Серия 9. Филология. – 1996. – № 4. – С. 34-43.
Произведения
Критика