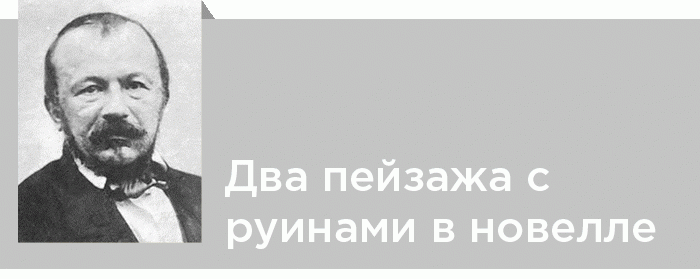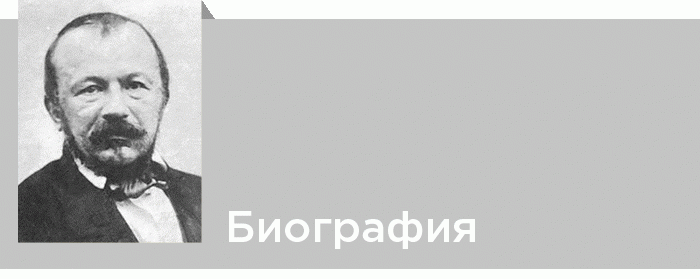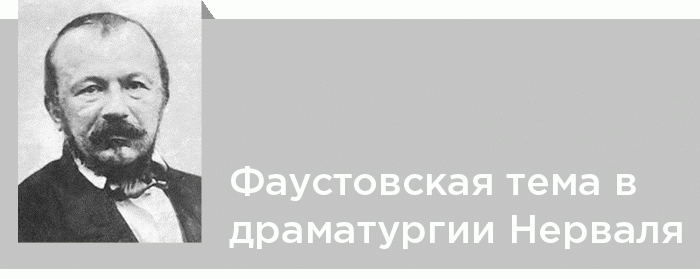Судьба романтического мечтателя

С. Зенкин
Для французов Нерваль — это то, что у нас называется «национальная классика». Сам он, однако, «классиком» отнюдь не был, и не только потому, что в его времена так называли сторонников классицизма, а писатель принадлежал к лагерю его противников, «романтиков». В его облике не было и намека на какую-либо величественность, высшую призванность: физически он был невзрачен, образ жизни вел неустроенный, «безбытный», как сказали бы много позже; причем за этой неустроенностью стояла не праздничная беззаботность романтической богемы (Нерваль писал о ней, но с какой-то щемящей ностальгией, словно о несбывшейся мечте), а органическая неприспособленность к «материально ответственному» существованию, следствием которой была самая натуральная нищета и в конце концов — душевная болезнь и самоубийство. В глазах современников, даже доброжелательных, Нерваль был, в общем-то, одаренным неудачником, литератором-поденщиком, так и не осуществившим себя в каком-либо завершенном «шедевре» (по крайней мере, в самостоятельном творчестве; его перевод «Фауста» Гете пользовался общим признанием). История, однако, рассудила иначе — и не в силу исключительного совершенства тех или иных отдельных произведений Нерваля (кроме нескольких стихотворений, они по большей части в самом деле неоднородны и фрагментарны — результат газетно-журнальной спешки), а потому, что общий дух его творчества оказался удивительно родственным проблемам и устремлениям нашего века.
Всякий писатель работает с культурой, в культуре, но далеко не у всякого этот процесс становится осознанным, а тем более главным предметом художественного воссоздания. У Нерваля и некоторых его современников, деятелей позднего французского романтизма, было именно так, и случилось это, пожалуй, впервые в истории. В большинстве произведений Нерваля нет внешних событийных конфликтов, здесь никто ни с кем не борется ни за личные, ни за общие интересы, и человек — поэт, повествователь, главный герой — встречается здесь не с другим человеком, а с явлениями и предметами культуры. Основная фабула повести «Анжелика» состоит, например, в том, что герой-рассказчик упорно разыскивает книгу — по библиотекам, лавкам, коллекциям и распродажам, — а та неуловимо мелькает в отдалении, ускользает в последний момент, насмешливо подсовывает вместо себя обманчивых «двойников». В «библиотечной» атмосфере этих поисков современный читатель может ощутить сходство с каким-нибудь рассказом Хорхе Луиса Борхеса, одного из самых «культурных» писателей XX века. Словно предвосхищая Борхеса, Нерваль широко пользуется приемом лжекомпиляции — «изложения» сугубо вымышленных, легендарных книг, искусно замаскированных под реально существующие (для правдоподобия приводятся их точные «библиографические описания», чуть ли не шифры хранения, которых, правда, в его время вообще не было, — а живи он сейчас, то, наверное, и шифры бы указал).
И опять-таки в духе литературы XX века погоня за книгой у Нерваля всецело и всерьез захватывает человека; для героя «Анжелики» она чем-то напоминает поиски идеальной возлюбленной, и совсем не случайно в повествование как-то, казалось бы, «боком» вплетается романическая история некой Анжелики де Лонгваль — беспутной аристократки, пренебрегшей во время оно своим знатным происхождением ради любви к худородному и даже не очень достойному человеку. Нерваль любит культуру, как женщину, и в свою очередь, любит женщину лишь в искусственном культурном ореоле, будь то огни сценической рампы или манящий блеск восточной экзотики. В послесловии к «Путешествию на Восток» Н. Иванов отмечает, что писатель «приехал на Восток как на театральную премьеру», — справедливое наблюдение, только не нужно ставить такое настроение в упрек Нервалю; для него тут дело было не в эстетском верхоглядстве, а в выстраданной творческой (и жизненной!) позиции. В его повести «Сильвия» есть мотив (автобиографический) безнадежной и возвышенной любви к актрисе: вызвать такое чувство у него способна лишь женщина, «вознесенная» на сцену — над жизнью, над обыденностью. Сцена как пространство культуры обладает в глазах Нерваля магическими свойствами, преображает находящегося на ней человека; и точно так же Нерваль-путешественник (надо ли пояснять, что это фигура условная, плод художественного вымысла?) ищет свою любовь на Востоке в среде ливанских друзов, в подчеркнуто «культурной» сфере их эзотерической, закрытой для непосвященных религии.
«Религиозность» Нерваля — вопрос деликатный и принципиально важный, здесь четче всего видна историческая специфика его художественного мышления. Дело в том, что культура и религия, — строго говоря, антиподы. Культура, свободная от господства религии (хотя в историческом плане такое господство длилось веками), воспринимает свои формы как созданные человеком, как продукт его свободной духовной деятельности; религия же — как нечто надчеловеческое, богоданное. Соответственно религия требует от своих приверженцев безраздельного принятия одной догмы, культура же в своем самосознании неизбежно приходит к признанию множественности, равноправия национальных и исторических традиций. Романтики, первыми открывшие этот принцип множественности культурных форм, называли его в Германии — «универсальностью» нового искусства, а во Франции — «местным колоритом». Совершенно закономерно, что такое открытие произошло в конце XVIII и начале XIX века, после того как век Просвещения и Великая французская революция глубоко подорвали престиж религии; в Европе начало складываться внерелигиозное общество, и одним из результатов стало «самоосознание» культуры как таковой. Жерар де Нерваль являл собой ту переломную и парадоксальную точку этого исторического процесса, когда освободившаяся культура впервые свободно оглянулась на религию. Сохранился анекдот, рассказанный его другом Теофилем Готье и очень кстати приведенный в предисловии к русскому переводу «Путешествия на Восток»: отвечая на упрек, что у него, мол, «нет веры», Нерваль возразил: «Да у меня их семнадцать... если не больше». «Семнадцать вер» — это, конечно, чисто «культурный» взгляд на религию, признание равноправия всех ее форм; и вместе с тем для писателя речь здесь идет не о равнодушно-внешнем, «административном» равноправии, когда, по выражению Гете, любая религия становится «одинаково безразличной и ненадежной», а о художественной, энтузиастической готовности пережить каждую из них как истинную, отдавая себе отчет в их исторической относительности и иллюзорности.
Это своего рода высокая игра, наподобие игры в бисер, придуманной сто лет спустя выдающимся писателем-культур-философом Германом Гессе. Разница в том, что, в отличие от магистра Йозефа Кнехта, у Жерара де Нерваля человек вступает в Игру на свой страх и риск, без всякой корпоративной санкции, что по остроте переживания гораздо интереснее — но и опаснее.
Первая опасность заключается в том, что играть легко только с чужой культурой. Магистр Кнехт у Гессе — человек «ниоткуда», без роду-племени и без родины, он искусственно выращен в рамках искусственно сконструированной иерархии, для которой все явления культуры и впрямь равны, уравнены во всезахватывающей стихии Игры. У Жерара Лабрюни, ставшего писателем Жераром де Нервалем, родина была — старинная французская провинция Валуа, где он провел детские годы. «Как ни философствуй, — признается он, — мы связаны крепкими узами с родной почвой... Назовите это религией, назовите философией, но издревле некий голос повелевает нам благоговейно чтить воспоминания». Назвать «это» следует скорее все же «культурой»; то была для Нерваля своя культура — народные предания, песни, обычаи. Но, возможно, именно оттого он острее многих романтиков ощущал, что фольклорная наивность невозвратима. Об этом — одна из лучших его повестей — «Сильвия», герой которой едет из столицы в родные края, надеясь вновь обрести там свои детские воспоминания. Как выясняется, найти уже ничего нельзя...
«Естественный» мир наивных чувств недоступен для человека культуры — это заявлено уже в подчеркнуто искусственной интонации повести, в которой Нерваль имитирует стилистику сентиментализма, с его умилением и иронией. Печальный парадокс: Нерваль чувствует себя «как дома» среди всевозможных мифов и легенд, он может (например, в новелле «Октавия») мифологически осмыслять эпизоды собственной жизни, может придумывать себе легендарные генеалогии, может отождествлять себя с героями египетских, греческих, христианских, кельтских преданий (поэтический цикл «Химеры») — но даже в мечтах и художественном вымысле он не в силах вернуться в потерянный рай деревенской первозданности.
Была также вторая опасность, которая, возможно, и оказалась для Нерваля роковой. Мир, целиком сотканный из культурных ассоциаций, оказывается зыбким, ненадежным, в нем таятся бездонные провалы в мифологические бездны (своего рода «колодцы», о которых писал Томас Манн), перед которыми человек одинок. Нервалевскому мечтателю не дано вступить в этически ответственные отношения с Другим: предметом любви становится для него бесплотная, недостижимо идеальная фигура, предметом вражды (в тех редких случаях, когда она изображается) — другая ипостась его же собственной личности; так, египетский религиозный и политический реформатор халиф Хаким, герой легенды, включенной в «Путешествие на Восток», принимает смерть от руки своего двойника и побратима (или брата?).
Наиболее очевидно проявляется это свойство героя именно в «Путешествии...», где предстает перед нами немного чудаковатый, но в целом вполне «нормальный» европейский путешественник, переживающий подчас комические приключения (в Египте, например, чтобы получить право снять дом, ему приходится купить себе... рабыню, и эта, как выясняется, весьма легкомысленная и капризная особа приносит ему затем множество хлопот). Но вдруг, в какой-то момент повествования, реально-бытовой фон прорывается — путешественник, полюбив дочь друзского шейха, намеревается жениться на ней и примкнуть к ее загадочной религии; обыкновенный европейский литератор возвышается до пророка, готового своей судьбой воссоединить Запад и Восток, их религии и цивилизации. План этот не осуществляется (о чем сказано подчеркнуто бегло и условно), но остается чувство головокружения оттого, что человек так легко, без особой мотивировки, вышел за собственные рамки.
Невозможно понять: происходит у нас на глазах духовное возвышение личности или же ее болезненное расчленение. А ведь мотивы расчленения личности, одержимости ее чуждой силой у Нерваля нередки. В фантастических новеллах «Заколдованная рука» и «Зеленое чудовище» они даются в ироническом, пародийном контексте; в таких вещах, как «Соната дьявола» и «Дьявольский портрет», — нейтрализуются откровенной стилизацией «под Гофмана»; но в предсмертной (пока не переведенной) повести «Аврелия», где писатель излагает свои переживания во время приступов душевной болезни, эти мотивы звучат уже с устрашающей серьезностью и непосредственностью. Волей-неволей возникает ощущение, что своим творчеством Нерваль в чем-то предсказывает свой недуг, что в головокружительных пространствах культуры личности грозит утрата себя, недостает точки опоры.
Если судить по названиям издательств, выпустивших одну за другой три книги Нерваля в русском переводе, то в творчестве этого писателя, видимо, можно найти и «искусство», и «науку», и «художественную литературу». На самом деле последний элемент, конечно, преобладает, и не случайно, что лучшим из трех изданий явно оказался сборник, вышедший в ленинградском отделении издательства «Художественная литература». В него включены почти все лучшие произведения малой прозы Нерваля и большая часть лирики (стихи, правда, переведены несколько слабее, чем проза); в превосходной вступительной статье Н. Жирмунской с внушительной полнотой охарактеризован огромный культурный контекст, в который включено творчество Нерваля, разнообразные литературные традиции, которые он усваивал и преобразовывал. Одним словом, книга эта — хороший образец профессионального, по-настоящему «культурного» издания.
«Путешествие на Восток», выпущенное в научно-популярной серии «Рассказы о странах Востока», по уровню издания, пожалуй, несколько отстает. И перевод М. Таймановой (в целом профессиональный) все же чаще грешит шероховатостями, чем прозаические переводы А. Андрес и Э. Линецкой в ленинградском издании; и целостного комментария в книге почему-то нет — вместо него довольно скудный и хаотичный свод примечаний, принадлежащих частично переводчице, частично научному редактору издания, а отчасти даже... самому Нервалю. Правда, недостатки комментария до некоторой степени восполняются двумя серьезными сопроводительными статьями: о самом Нервале (В. Никитин) и о современном ему Востоке (Н. Иванов). Однако нервалевское «Путешествие» с трудом укладывается в рамки ориенталистики, хотя бы даже популярной, и при его издании не обошлось без сокращений. Особенно жаль, что из последней части книги исключена большая вставная «Повесть о Царице Утра и Солимане — Повелителе Духов» — апокрифическая легенда, перетолковывающая библейскую историю Соломона и царицы Савской. Совмещая в себе трагизм и иронию, она могла бы служить превосходным примером нервалевского взгляда на религию «глазами культуры» и вместе с тем показала бы читателю один из лучших во французской литературе XIX века образцов жанра философской повести.
Том «Избранного», вышедший в издательстве «Искусство», оказался первым отечественным изданием Нерваля, что само по себе немалая заслуга известного переводчика М. Кудинова, практически в одиночку подготовившего всю книгу. Кроме небольшого раздела лирики, основную ее часть занимают статьи Нерваля о литературе и театре. Материал это специфический, трудный для нынешнего восприятия — слишком далека от нас та литературно-художественная ситуация, о которой высказывался Нерваль-критик. Требовались поэтому тщательные пояснения не только фактического, но и концептуального характера — сопоставление нервалевских статей с работами других критиков тех лет, анализ основных обсуждаемых в них проблем. К сожалению, таких пояснений ни в примечаниях, ни во вступительной статье почти не найти. В своем предисловии М. Кудинов уделяет Нервалю-критику всего две-три странички, занятые в основном опровержением воззрения на Нерваля как на романтика. Доказательств приводится два: в своих статьях писатель высказывался за «правдивое изображение реальной жизни» и критически отзывался как о классической, так и о романтической школе в литературе. Увы, если такие факты считать определяющими, то пришлось бы, вероятно, «дисквалифицировать» (и перевести в реалисты?) добрую половину всех писателей-романтиков...
Нарекания вызывает и перевод М. Кудинова, — по крайней мере, в прозаической части книги. Здесь немало нескладных выражений, таких, как «интимный альянс поэзии и музыки» или участок в «двадцать квадратных аров» («квадратный ар» — это примерно то же, что «кубический литр»), попадаются и грубые смысловые, историко-культурные ошибки. О знаменитом естествоиспытателе и стилисте Бюффоне рассказывали, что, садясь за свой письменный стол, он надевал кружевные манжеты в знак особой торжественности момента; у М. Кудинова же Бюффон пишет не «в манжетах», а «на манжетах», да еще в примечании бесстрастно поясняется, что эти самые «записки на манжетах» «отличаются большим литературным достоинством»... Пересказывая (в статье «Опера «Фауст» во Франкфурте») легенду о Фаусте, Нерваль в русском переводе говорит о браке Фауста с «Еленой Спартанской, потомком которой он был»; в действительности эта странная кровосмесительная версия известной легенды обязана своим существованием... грамматической ошибке: переводчик просто спутал французские глаголы «быть» и «иметь» — следовало перевести: «Елена Спартанская, от которой он имел сына». Словом, как бы ни был важен факт первого у нас издания Нерваля, какую бы ценность ни представляли для специалистов помещенные здесь критические статьи писателя, все же в целом данную книгу трудно признать удачной.
Наследие Нерваля достаточно велико. Остаются еще не переведенными ряд его очерков и повестей, драмы (правда, лишь одна из них — «Лео Буркарт» — написана без соавторов, зато некоторые исследователи считают ее одним из высших достижений романтического театра), наконец, уже упомянутые «Аврелия» и «Повесть о Царице Утра...». Нужно надеяться, что вышедшие пока три книги — лишь первый (хотя и решительный) шаг к освоению творчества этого необыкновенно самобытного и современного писателя.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1989. – № 4. – С. 52-55.
Произведения
Критика