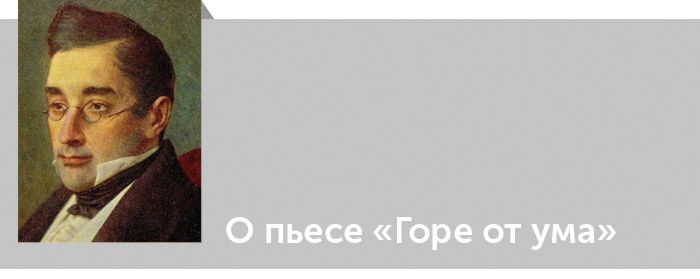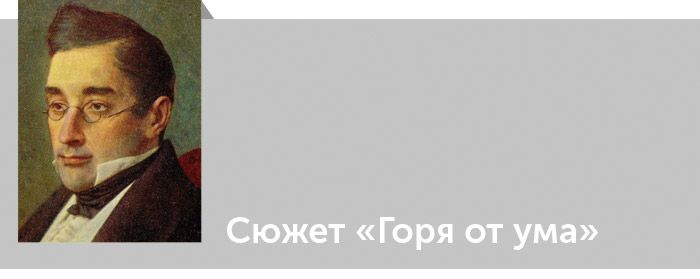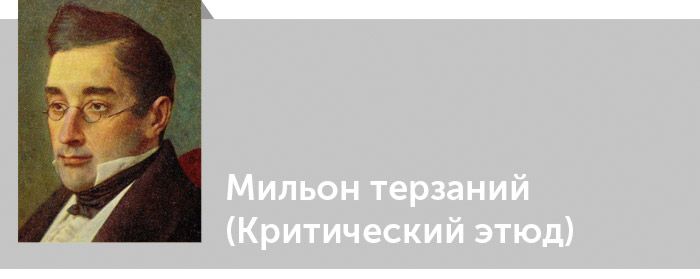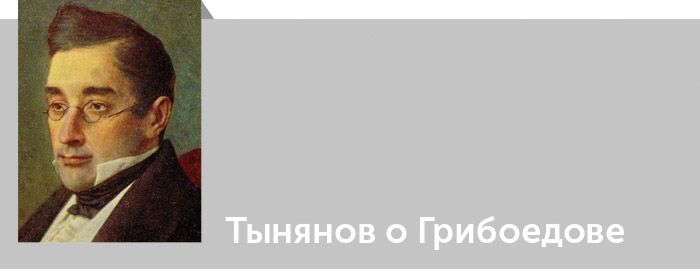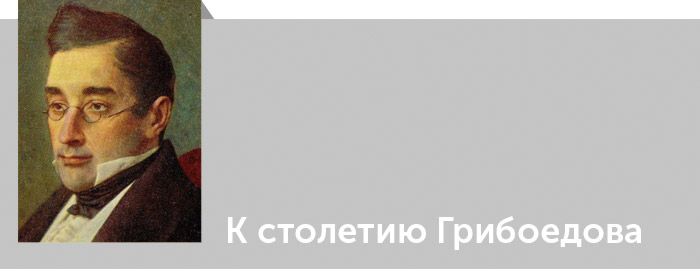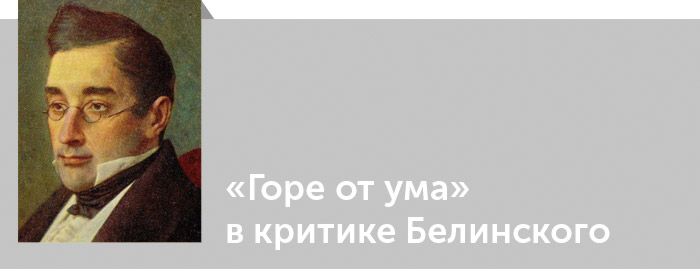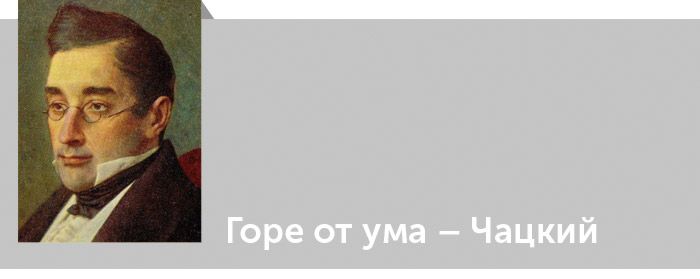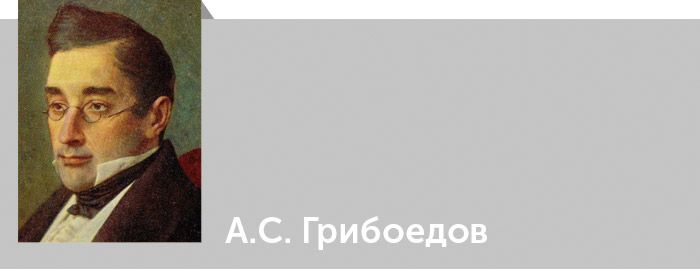Александр Грибоедов. «Горе от ума» во второй половине 20-х годов и в начале 30-х
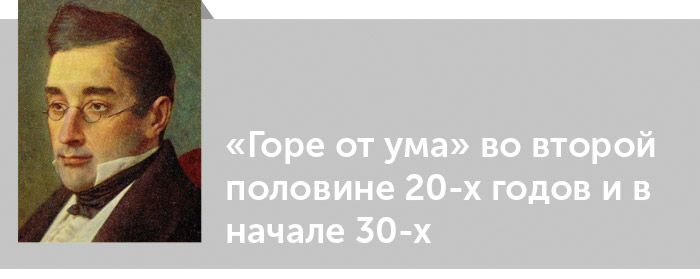
Д. H. Овсянико-Куликовский
Из «Истории русской интеллигенции». Глава II
1
Критика второй половины 20-х и начала 30-х годов оценивала комедию Грибоедова по достоинству. Она не дала обстоятельного разбора пьесы, ее замысла, типов, в ней выведенных, но по всему видно, что все это было хорошо понято, и притом не только критиками, но и публикою. Прежде чем критики заговорили о пьесе, она уже успела распространиться в тысячах списков и в молодом поколении вызвала неподдельный восторг. "Горе от ума" сводило всех с ума, волновало всю Москву", вспоминает Т. П. Пассек, говоря о 1825 – 1827 годах, когда она и ее кузен Саша (А. И. Герцен), еще совсем юные, учились дома и только что начинали развиваться ("Из дальних лет", воспоминания Т. Л. Пассек, т. I, с. 220)1. Несколько лет спустя, в 1833 году, Н. А. Полевой писал: "Лет десять тому, как начали говорить в обществах о комедии Грибоедова. Восторг, с которым отзывались о ней те, кому удавалось слышать или читать ее, подстрекнул любопытство многих..." Указав на разные обстоятельства, способствовавшие успеху "Горя от ума", Полевой продолжает: "И надобно сказать, что успех был неслыханный: много ли отыщете примеров, чтобы сочинение, листов в 12 печатных, было переписываемо тысячи раз, – ибо где и у кого нет рукописи "Горя от ума"? Бывал ли у нас пример, еще более разительный, чтобы рукописное сочинение сделалось достоянием словесности, чтобы о нем судили как о сочинении, известном всякому, знали его наизусть, приводили в пример, ссылались на него, и только в отношении к нему не имели надобности в изобретении Гуттенберговом?" (Московский телеграф, 1833, No XVIII, с. 246. Статья о первом издании "Горя от ума"). Любопытны и следующие строки: "...комедия Грибоедова – уже давно собственность публики. Дайте какому-нибудь писарю 20 руб., и он принесет вам чисто переписанный экземпляр "Горя от ума", который, может быть, вы и не променяете на печатный..." (там же, с. 248).
Эти любопытные показания, как и другие, аналогичные, каких можно найти немало в литературе той эпохи и в позднейших воспоминаниях современников, дают повод думать, что образованная публика 20-х годов, в особенности ее лучшая, передовая часть, понимала сатиру Грибоедова достаточно хорошо, так что критикам незачем было разъяснять публике, что такое Фамусов, Скалозуб и прочие, и даже что такое Чацкий, и что именно "хотел сказать" Грибоедов. Да и сами критики в своем понимании пьесы лишь немногим возвышались над пониманием публики, и в своих отзывах они дают, так сказать, только резюме или сводку общераспространенного взгляда, являясь выразителями общественного мнения, – по крайней мере, мнения лучшей части общества. О Чацком установилось тогда воззрение (вполне правильное) как о представителе передовых людей эпохи, представителе, более для нее характерном, чем Евгений Онегин. Т. П. Пассек хорошо помнила это, когда писала: "Тип того времени... в литературе отразился в Чацком" (а не в Онегине, который "выражал одну сторону тогдашней жизни и нисколько не выражал всех стремлений умственных и нравственных 20-х годов"). "В его молодом негодовании уже слышится порыв к делу. Он возмущается, потому что не может выносить диссонанс своего внутреннего мира с миром, окружающим его" (Из дальних лет, т. I, 221)2. – Это суждение тем ценнее, что оно принадлежит собственно Герцену, на которого Т. П. Пассек и ссылается в этом месте ("как верно заметил Саша"). В этом случае, как и во многих других, взгляды "Саши" были (в эпоху, когда они более или менее сложились у него, то есть в первой половине 30-х годов) отражением, а частью и дальнейшим развитием взглядов передовой части общества 20-х годов. То же самое воззрение на Чацкого отразилось и в том месте выше цитированной статьи Полевого, где он, указав на нравственную несостоятельность и пошлость среды, воспроизведенной в комедии Грибоедова, говорит: "И посреди такого-то общества является Чацкий, как будто выходец с другого света. Его пламенная, чистая, благородная душа, его ум, просвещенный и современный, не понимают этого общества..." и т. д. (указ. статья, с. 253). Грибоедовский Чацкий был вполне понятен современникам, которые видели в нем воплощение черт, взятых из действительности. Так, в другом месте той же статьи Полевой говорит, что "в Чацком соединено множество черт некоторых из нынешних молодых людей" (с. 146), и тут же указывает на эти черты: "Чацкий одушевлен страстями огненными, он пылок, горд, страстен ко всему прекрасному, высокому и родному". Не совсем ясно то, что говорит Полевой или что хочет он сказать, противопоставляя художественный образ Чацкого образу Фамусова (и потом Молчалина) со стороны их яркости, законченности и находя, что Чацкий "не может быть так разителен, как Фамусов, ибо стремление бессильное не носит в себе характера самобытности и не имеет имени (?). Чацкий хочет всего хорошего, но не достигает ни к чему: это человек, стоящий немного выше толпы" (?). Может быть, здесь нужно видеть отголосок суждения тех, которым неясен был самый замысел Чацкого и которые, относясь с полным сочувствием к сатире Грибоедова, находили, однако, горячность Чацкого неуместною и самый протест его бессильным и бесплодным. Такой взгляд существовал и с годами упрочивался; ниже мы увидим его крайнее выражение в знаменитой статье Белинского. Если это так, то приведенные неясные слова Полевого переносят нас в то переходное, как бы промежуточное, умонастроение общества и печати, которым характеризуется начало 30-х годов. Память о движении 30-х годов еще не заглохла тогда, но те веяния и то настроение, которых выразителем был Чацкий, уже становились преданием, уступая место другим веяниям и другому настроению общества. Мы же, в этой главе, имеем в виду именно 20-е годы, а потому выслушаем теперь отзыв одного из наиболее видных представителей и вместе с тем самого выдающегося литературного критика этой эпохи – А. А. Бестужева, столь знаменитого впоследствии под псевдонимом "Марлинский".
В статье "Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов" (в "Полярной звезде") Бестужев в следующих восторженных словах приветствует появление "рукописной комедии г. Грибоедова "Горе от ума": "Толпа характеров, обрисованных смело и резко, живая картина московских нравов, душа в чувствованиях, ум и остроумие в речах, невиданная доселе беглость и природа разговорного русского языка в стихах. Все это завлекает, поражает, приковывает внимание. Человек с сердцем не прочтет ее, не смеявшись, не тронувшись до слез..." Ниже Бестужев упоминает, что в театральном альманахе "Русская талия" (изданном Булгариным в 1825 г.) напечатан 3 акт комедии "Горе от ума"3.
При всем огромном успехе пьесы не было, разумеется, недостатка и в отрицательных отзывах. Одни (как, например, Катенин) осуждали комедию с точки зрения строгих правил старой "пиитики", другие осуждали резкий тон сатиры Грибоедова. По адресу тех и других направлены следующие слова Бестужева: "Люди, привычные даже забавляться по французской систематике или оскорбленные зеркальностью сцен, говорят, что в ней нет завязки, что автор не по правилам нравится; – но пусть они говорят, что им угодно: предрассудки рассеются, и будущее оценит достойно сию комедию и поставит ее в число первых творений народных" {Эта статья была, вместе с другими критическими статьями Бестужева-Марлинского, переиздана в 1838 г. в сборнике "Стихотворения и полемические статьи" (без имени автора), откуда мы взяли наши цитаты (с. 198 – 199).}4.
Вернемся еще к статье Полевого. Любопытны первые же строки ее: "Наконец, вот она, эта знаменитая русская комедия! Наконец, она не скользит среди публики, как тать, как запрещенный товар, без клейма, как умный мещанин среди надутых аристократов, как тетрадь между книгами! Она сама книга, предназначенная пережить много книг". В этих словах сказался человек, сформировавшийся в 20-х годах и хранивший лучшие традиции этой эпохи, каким был тогда Н. А. Полевой. Еще ярче сказалось это в тех местах статьи, где он указывает на типичность фигур Грибоедова. Эти фигуры не списаны с определенных лиц, – на этом настаивает Полевой, может быть, не доверяя слухам, а может быть, и намеренно, чтобы тем прочнее установить свой взгляд на широкое общественное значение сатиры Грибоедова. Фамусов, например, не воспроизводит того или другого определенного лица, а является обобщением, типичным представителем множества подобных лиц. В этом образе метко схвачены характерные черты московского барина: не удивительно, что многие могут узнавать себя в грибоедовском Фамусове, "Фамусов является вам в обществе под тысячью различных обликов, и поэтому-то многие находят в нем сходство с тем и другим", говорит критик, которому не было известно заявление самого Грибоедова (в письме к Катенину), что он сознательно писал с натуры, что его образы – портреты. Но Полевой совершенно прав, когда указывает на типичность этих образов, на то, что они рисуют нам не отдельных лиц (имярек), а среду, общество {Любопытна терминология. Слово "типичность" еще не было тогда в ходу. Полевой говорит – "самобытность", "первообразность характеров"; лицо Молчалина "так же отличено самобытностью, как лицо Фамусова" (с. 250).}. В этом и состоит, по мнению Полевого, высшее достоинство комедии Грибоедова, это "дает" ей "народность и делает" ее "произведением своего века и народа". Слово "народность", употреблявшееся в 20-х и 30-х годах в смысле "популярность", в приведенном месте означает, как я думаю, не только "популярность", но вместе с тем и то, что мы выразили бы термином "общественное значение". Именно с этой-то точки зрения и смотрит Полевой на фигуры, выведенные Грибоедовым. "Всякий век имеет своих Молчалиных, – говорит он, – но в наше время они точно таковы, как Молчалин "Горя от ума"... Осмотритесь: вы окружены Молчалиными. Создание этого характера есть порыв души благородной, желающей обличать пороки и невежество". Последнее выражение ("обличать порок и невежество") было тогда, как в XVIII веке, ходячим термином, под которым понималась не только нравоучительная сатира, но и сатира, имевшая общественно-политическое значение, какою и была комедия Грибоедова. "Наконец, забудем ли милого Скалозуба, встречного на всяком шагу Репетилова, мастера услужить Загорецкого, княгиню и князя Тугоуховских, Хлестову, графиню бабушку и внучку, шестерых княжен? Нет, они не дают забыть о себе, они все вокруг нас, вперед нас, за нами и перед нами. Это – члены светского общества" (с. 250 – 251). И вслед за тем критик еще раз указывает на то, что все это – "не личности, а характеры нашего времени, принадлежащие главной части общества" (там же). Обращаясь к рассмотрению самого замысла пьесы и его развития (по терминологии автора, "связи пьесы"), Полевой находит, что эта сторона "не менее оригинальна и превосходна", чем характеры. В беглом обзоре "связи пьесы" критик попутно характеризует действующих лиц и не скупится на сильные выражения, как, например: "бездушные, ничтожные невежды, погруженные в тину своих пороков, глупостей и подлостей...", "Фамусов – глупый, бездушный невежда, думающий только об удобстве животной жизни", "Скалозуб – дурак, не имеющий ни доброты, ни чувства, это – Скотинин нашего времени", и т. д.
Полевой хорошо понял смысл сатиры Грибоедова и вполне правильно указал на ее общественное значение. В свою очередь, и его статья, написанная смело и резко, имела общественное значение, как и вся деятельность этого писателя в 20-х и 30-х годах. Не забудем, что в ту пору Фамусовы, Скалозубы и Молчалины были и многочисленны, и сильны. Не удивительно, что Полевой заслужил репутацию "якобинца" {В доносе на Полевого, посланном в III Отделение в 1827 г. говорится о целой "партии", "атаманами" которой названы кн. Вяземский и Полевой. См. "Литература и просвещение в России в XIX в." проф. Евг. Боброва (Казань, 1901), т. I, с. 152.}.
Из людей 20-х годов, продолжавших свою деятельность в 30-х, заметно выделяются эти два писателя, отзывы которых о комедии Грибоедова мы привели здесь. Марлинский и Полевой продолжают при новых условиях и новом настроении общества традицию и общее направление, которые впервые установились около половины 20-х годов и наиболее яркими выражениями которых были комедия Грибоедова и поэзия Пушкина в александровскую эпоху. Да и сам Пушкин может быть также назван "человеком и писателем 20-х годов", продолжавшим свою деятельность в 30-х годах. Характерные черты духовной физиономии, особенности воспитания, общий облик личности, некоторые отличия в умонастроении, в складе общественной мысли – все это у Пушкина выдает его, так сказать, "кровную" принадлежность к тому же поколению, к которому относятся Марлинский и Полевой. Это поколение в 30-х годах жило главным образом процентами с душевного капитала, приобретенного в александровскую эпоху. Правда, Пушкин был "явление чрезвычайное"5 и – вне конкурса. Но это только заслоняло в нем черты времени, не уничтожая их. Те же черты мы найдем и у других эпигонов александровской эпохи, как, например, у кн. Вяземского, у Н. И. и А. И. Тургеневых и кн. В. Ф. Одоевского. Но из этой группы Полевой и Марлинский выделяются своим влиянием на широкую публику, своим литературным значением, в частности тем, что они являлись наиболее видными продолжателями так называемого "романтизма", понятие о котором переплеталось у них с общим взглядом их на движение европейских литератур и самой цивилизации. Этот своеобразный "романтизм" мешал им понимать как следует, например, Гоголя и реализм Пушкина (в его позднейших произведениях), равно как и новые течения в общественной мысли и жизни Европы. Но он отлично уживался у них с пониманием реализма Грибоедова по той простой причине, что среда и типы, воспроизведенные в комедии, были слишком хорошо известны им по личному опыту, что идеи и идеалы Чацкого были их собственными и, наконец, им, как и другим представителям того же поколения, приходилось нередко переживать настроение, аналогичное тому, которое так ярко отразилось в горячих речах героя пьесы.
Этот герой был – их герой. Лучшие люди 20-х годов были, каждый по своему, "Чацкими", – и не только по "социальному положению", среди отсталого общества, лицом к лицу с Фамусовыми, Скалозубами, Молчалиными и в виду надвигавшейся реакции, но еще больше – по своему умственному и нравственному складу, по характерным признакам своей душевной организации. Если потом, в 30-х и 40-х годах, образ Чацкого потускнел и бывали случаи либо отрицательного, либо равнодушного к нему отношения со стороны лучших людей эпохи, то это объясняется, не переменою "социального положения" этих людей (с этой стороны они оставались все такими же "Чацкими"), а резким изменением умственного и нравственного склада, равно как и преобладающих черт душевной организации.
Мы здесь подошли к одному в высокой степени любопытному явлению, периодически повторяющемуся у нас при исторической смене поколений. Это то, что с легкой руки Тургенева принято называть рознью между "отцами" и "детьми", но что гораздо правильнее назвать рознью между двумя психологическими типами. Поясняя свою мысль примером, я скажу, что разлад между Базаровыми и Кирсановыми (Николаем Петровичем и Павлом Петровичем) оставался бы во всей своей силе и в том случае, если бы их не разделяла разница понятий, если бы они в общем держались в них и тех же взглядов и убеждений. Суть дела здесь не в понятиях, не в идеалах, а в том, что Базаров по своей натуре, по своей психической организации, по самому складу ума, чувства и воли являет собою психологический тип, во многом противоположный тому, к которому принадлежат Кирсановы. Представители разных психологических типов могут сходиться во взглядах, в стремлениях, в идеалах, могут иметь одни и те же симпатии и антипатии, но взаимное душевное, интимное понимание и сочувствие устанавливается между ними с большим трудом, и то больше теоретически, чем практически; всего труднее им сговориться и понять друг друга тогда, когда они сталкиваются в жизни среди одних и те же условий времени, ибо на одинаковые впечатления и воздействия среды они реагируют различно в силу различного уклада психики и, реагируя различно, по необходимости расходятся в разные стороны, утрачивая способность понимать друг друга. И часто различие в идеях, во взглядах оказывается явлением вторичным, – не причиною разлада, а следствием уже существующей оозни, обусловленной коренным различием душевных организаций. Чем вызывалось это различие, почему на смену поколения с известным укладом душевных сил выступало поколение с совершенно другим укладом, это – трудный вопрос общественной психологии, для решения которого не всегда мы найдем достаточно сведений. В особенности трудно осветить его надлежащим образом в тех случаях, когда мы имеем дело с эпохою, отошедшею в прошлое и еще далеко не исследованною во всех изгибах ее умственной и нравственной жизни. Постараемся, если не удастся нам раскрыть причины, по крайней мере установить и описать самый факт коренного различия в духовном облике двух поколений эпохи, о которой идет речь.
2
Поколение, выступившее на арену сознательной жизни около половины 30-х годов, окончательно сложившееся к началу 40-х и известное под именем "людей 40-х годов", представляло по своему душевному складу, по преобладающему настроению и по самому способу реагировать на получаемые впечатления и умственные возбуждения, прямую противоположность людям 20-х годов. Нелишне будет здесь же оговорить, что это различие в начале, в 30-х годах, когда новое поколение еще находилось в периоде духовного роста, было заметно ярче, чем позже, в 40-х годах, когда уже миновало то, что можно назвать "болезнью умственного и нравственного роста".
Взглянем сперва на деятелей 20-х годов, то есть на поколение, которое росло, развивалось в 10-х годах XIX века и сложилось около 20-х. Эти люди совмещали в себе образованность, идейность, умственные интересы с тою, если можно так выразиться, душевною выдержкой, которую дает непосредственное участие в практической жизни. Большею частью это были военные, и притом воспитавшиеся не на одних смотрах и парадах, а также в походах, в сражениях и, что, пожалуй, еще важнее, в прикосновенности к мировым событиям. Другие – не военные – проходили также либо суровую школу жизни (как, например, Сперанский, Полевой), либо вели деятельную, подвижную жизнь, полную опытом и впечатлениями (Николай Тургенев, Пушкин, Грибоедов, Рылеев). Индивидуальные различия между ними были, конечно, весьма велики, со стороны ума, дарований, личного характера, темперамента и т. д., но при всем том эти люди объединяются каким-то общим отпечатком и легко подводятся под определенный "психологический тип". Этот тип характеризуется со стороны чувствований заметною выдержанностью, как бы закаленностью души: эти люди переживали сильные впечатления (например, на войне), много переиспытали, много перенесли и, сравнительно с силою этих впечатлений и испытаний, мало поражались, мало плакали, мало восторгались, редко унывали, никогда не отчаивались. Они далеко не были так чувствительны, как было чувствительно следующее за ними поколение. Это можно назвать "закалом" души и можно назвать "слабою раздражимостью чувствующей сферы" и, наконец, – отсутствием "восторженности". Самый восторженный из них был Кюхельбекер, да и тот слыл у них оригиналом, чудаком. Итак, умеренность в реагировании чувством на сильные внешние воздействия и на тревогу общественной души – вот первое, что бросается в глаза психологу, изучающему жизнь и деятельность людей 20-х годов {Я не могу здесь вдаваться в подробности, в фактическое исследование этой стороны в психологии людей 20-х годов, и мне приходится просто сослаться на биографии, письма, мемуары. Сравните, например, письма Грибоедова, Пушкина, Рылеева, А. А. Бестужева, воспоминания кн. Волконского, бар. Розена и т. д. с письмами Герцена, Белинского и др., и вы легко отметите то различие, о котором я говорю.}. Со стороны мысли заметно выделяются у них следующие черты: жажда знаний, охота и умение учиться, способность усваивать европейское просвещение; здоровая деятельность ума и отсутствие "глубокомыслия". Они не были "мыслителями" в том смысле, как можно назвать мыслителями Белинского, Герцена, Станкевича и др. Интерес к философии уже пробуждался, и мы видим проблески философской мысли в сочинениях и Бестужева-Марлинского, и Полевого {По-видимому, настоящими, призванными мыслителями поколения 10 – 20-х годов были Веневитинов и проф. Павлов.}. Но, вообще говоря, людям этой эпохи было не до философии. Им приходилось учиться, и они учились всю жизнь, с редким для русского человека усердием и выдержкою. Почти все они были так или иначе самоучки, ибо школа того времени давала слишком мало, а иные из них никакой и не знали. Пушкинское "в просвещении стать с веком наравне"7 было у них лозунгом, живою потребностью ума, неусыпным стремлением. Самоучка Полевой с энциклопедическим образованием – характерная фигура эпохи. Умственные занятия декабристов в Сибири и раньше, жажда умственной пищи и энергия в ее добывании, какие обнаруживал Бестужев среди тревог и тяжелых условий солдатской жизни на Кавказе, любовь к книге, живой интерес к просвещению у Грибоедова, у Пушкина, у Рылеева и т. д. – все это живо рисует нам умственный облик поколения, которое призвано было учиться и просвещаться за всю Россию, в противоположность следующему поколению, призванному мыслить и страдать муками самосознания. Когда Пушкин сказал: "Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать" 8, он этим упредил свое время, как упредил его во многом. Поколение 20-х годов не страдало болезнями и скорбями мысли. Оно скорее наслаждалось познавательною работою ума. Только те, которые обладали творческим даром, как Пушкин и Грибоедов, знали муки мысли, муки творчества.
Умственная жизнь людей 20-х годов, сравнительно с богатством умственной жизни Белинского, Станкевича, Герцена и др., представляется гораздо менее сложною, более простою и элементарною. Это нельзя объяснить одним лишь различием эпох, то есть тем, что новое время принесло и новые вопросы мысли и развития. Новые интересы и вопросы требовали и новых умов, умственных организаций иного склада, иного типа. Некоторые, и притом из числа наиболее сильных умов поколения 20-х годов, как известно, продолжали свою деятельность и в 30-е годы. И вот тут-то и обнаружилось, что эти умы были, по самому укладу своему, совсем не приспособлены для разработки новых задач развития. Это наглядно рисуется на частном примере, где мы видим столкновение нового склада и новых потребностей мысли со старыми. Я имею в виду известный рассказ Герцена о том, как Н. А. Полевой "не мог понять сенсимонизма", которым увлеклись юные умы, сплотившиеся в тесный дружеский круг. Дело было в том же 1833 году, к которому относится выше рассмотренная статья Полевого о "Горе от ума". "Уже тогда, в 1833 году, – рассказывает Герцен, – либералы смотрели на нас исподлобья, как на сбившихся с дороги". Эти либералы и были люди старшего поколения, к которому принадлежал и Полевой. "...Сенсимонизм, – продолжает Герцен, – поставил рубеж между мной и Н. А. Полевым". Следует сжатая, меткая и очень правильная характеристика Полевого: "Полевой был человек необыкновенно ловкого {Слово "ловкий", как видно из контекста, не выражает здесь никакого порицания, оно указывает только на гибкость, отзывчивость живого ума Полевого.} ума, деятельного, легко претворяющего всякую пищу..." Заметим мимоходом, что эти слова могли бы послужить удачной характеристикой ума почти всех деятелей, принадлежавших к поколению 20-х годов, – и продолжаем выписку: "...он родился быть журналистом, летописцем успехов, открытий политической и ученой борьбы. Я познакомился с ним в конце курса и бывал иногда у него и у его брата Ксенофонта. Это было время его пущей славы, время, предшествовавшее запрещению "Телеграфа". – Этот-то человек, живший последним открытием, вчерашним вопросом, новою новостью в теории и в событиях, менявшийся, как хамелеон, при всей живости ума не мог понять сенсимонизма. Для нас сенсимонизм был откровением, для него – безумием, пустой утопией, мешающей гражданскому развитию"9. Иначе говоря, Полевой, как и почти все деятели его поколения, выдвигали на первый план "гражданское развитие", которому и хотели служить, как кто мог и умел. А новое молодое поколение прежде всего искало высшей душевной жизни, более утонченной умственной пищи, – оно жаждало "откровений" в философии, в искусстве, в религии, в передовых идеях человека. Что же касается "гражданского развития", то часть молодежи – "кружок Станкевича" – совсем почти не интересовалась его задачами, едва-едва различая их сквозь туман высших "вопросов духа", поглощавших все внимание этих – действительно высокой пробы – идеалистов. Другая часть – "кружок Герцена и Огарева", – напротив, очень тяготела к вопросам жизни, "гражданского развития" и вскоре близко подошла к ним, но все-таки и эти идеалисты не менее высокой пробы в то время всего более жаждали философских и иных "откровений", нуждались в гимнастике отвлеченной мысли, хлопотали о новом – широком, общечеловеческом – мировоззрении, на котором можно было бы обосновать передовой идеал века... Казалось бы, Полевому стоило только не обращать на это особенного внимания, как на личное дело молодых мыслителей, и сойтись с ними на другой почве, на практических вопросах просвещения, литературного и "гражданского" развития. Однако же сенсимонизм помешал, хотя было очевидно, что интерес части молодежи к этому столь яркому и столь идеалистическому движению никоим образом не мог бы заслонить насущных нужд и очередных задач русской действительности. И здесь разыгрался типичный эпизод взаимных недоразумений между "отцами" и "детьми". Послушаем дальше: "Сколько я ни ораторствовал, ни развивал, ни доказывал, Полевой был глух, сердился, становился желчен. Ему была особенно досадна оппозиция, делаемая студентом, – он очень дорожил своим влиянием на молодежь и в этом прении видел, что она ускользает от него". Казалось бы, и Герцену надлежало отпустить Полевому его несочувствие сенсимонизму и сойтись с уважаемым и влиятельным писателем на том, что оба они одинаково хорошо понимали, во всяком случае – не смотреть на смелого журналиста как на "отжившего, старого гладиатора". Тогда Полевой был еще в апогее своей деятельности; "отжившим" гладиатором он стал позже, и не потому, что не понимал Сен-Симона, а по другим, более реальным, причинам. И однако же, вышло так, что сенсимонизм помешал и Герцену сойтись с Полевым, как не допустил он Полевого понять Герцена. Прочтем дальше: "Один раз, оскорбленный нелепостью его возражений, я ему заметил, что он такой же отсталый консерватор, как те, против которых он всю жизнь сражался. Полевой глубоко обиделся моими словами и, качая головой, сказал мне: "Придет время, и вам в награду за целую жизнь усилий и трудов какой-нибудь молодой человек, улыбаясь, скажет: ступайте прочь, вы – отсталый человек". Мне было жаль его, мне было стыдно, что я его огорчил, но вместе с тем я понял, что в его грустных словах звучал его приговор. В них слушался уже не сильный боец, а отживший, устарелый гладиатор" {К этому месту, по-видимому, приложимо то, что говорит П. Н. Милюков об автобиографии Герцена: "Думы" слишком заслоняют в ней "былое": написанная много времени спустя, она часто смотрит на прошлое глазами последующего времени; помимо воли автора, "Dichtung" (Поэзия) часто получает в ней перевес над "Wahrheit" (Правда)" (Из истории русской интеллигенции, с. 117). Дружеские связи с Полевым не прекратились у Герцена после размолвки по поводу сенсимонизма, – и самое осуждение Полевого, как падшего "гладиатора", относится к более позднему времени. Об этом см. в интересном и обстоятельном исследовании Н. К. Козьмина "Очерки из истории русского романтизма" (СПб., 1903), с. 482-487.} 10.
Вникая глубже, мы легко поймем, что не сенсимонизм или иной, столь же "отвлеченный" вопрос (ибо не был же это жизненный вопрос у нас, в Москве, в 1833 г.!) был причиной разлада: причина лежала глубже – в психологическом складе умов, а этого рода "вопросы" и споры только выяснили тот факт, что прошла эпоха наивного реализма мысли и народилось поколение с более глубокими запросами ума, чувства, совести. Здесь сталкивались два типа духовной организации, между которыми взаимное понимание, именно – понимание интимное, душевное, не могло установиться, потому что представители этих двух типов смотрели на божий мир различно, предъявляли ему различные вопросы, искали не одних и тех же ответов. Миросозерцание Полевого и людей его поколений было не только просто, элементарно, но и законченно. Люди нового поколения вырабатывали свое миросозерцание, и они хотели, чтоб оно было не просто, не элементарно, а по возможности сложно и возвышенно, чтобы в него входили все высшие, как тогда выражались, "стихии" духа.
Люди обладают весьма различною восприимчивостью к впечатлениям жизни и мысли, различною способностью реагировать, например, на идеи или на вопросы, выдвигаемые нравственным сознанием, наконец – на образы художественные.
В этом отношении наблюдается заметное различие не только между отдельными личностями, но и между слоями общества, между поколениями, между эпохами.
Бывают поколения, которые на впечатления жизни, на новые идеи, на возбуждения религиозного или нравственного порядка отвечают страстью, энтузиазмом, экстазом и слезами. Это проявлялось довольно резко в Западной Европе в XVIII веке, который с этой стороны можно назвать не только веком "просвещения", но и веком сентиментальных, часто "беспредметных" слез. Чувствительный и слезливый Руссо является типичным выразителем этой черты века энциклопедистов и революции. У нас запоздалый и подражательный сентиментализм конца XVIII столетия и начала XIX, сентиментализм Карамзина и его школы, был явлением поверхностным и, с психологической точки зрения, не представляет большого интереса. Зато своеобразный умственный сентиментализм, или, если позволено так выразиться, "головная чувствительность" людей 30-х годов, невольно привлекает к себе пытливость психолога и является фактом, в высокой степени знаменательным, в особенности если противопоставить ему противоположную черту предшествующего поколения.
Припомним здесь некоторые факты, которыми наиболее ярко характеризуется восторженность и чувствительность поколения 30-х годов.
Перечитывая переписку Герцена, Белинского и др., мы поражаемся необычной экзальтацией этих замечательных деятелей, в ряду которых были и великие, и переносимся в странную для нас, совсем особенную, атмосферу интимной жизни кружков, где не только много работали головой, но также непропорционально много восторгались и плакали от избытка чувств, от умиления, от вычитанной у Гегеля мысли, от стиха Пушкина, от собственной мечты...
Душевная жизнь таких умов и талантов, как Белинский, Герцен, Станкевич, Огарев и др., была какая-то напряженная и наэлектризованная избытком чувств, требовавших выражения и излияния. Перед нами любопытная картина как бы душевной неуравновешенности, порою близкой к тому, что наблюдается у натур религиозно-экзальтированных, у мистиков, заражающих друг друга своим экстазом. Дружба и любовь, разлука и свидание нередко сопровождались у них исключительною роскошью чувств, явным излишеством в их выражении. Вот, например, картина своего рода экстаза, овладевшего Герценом, Огаревым и их женами, когда впервые после нескольких лет разлуки они увиделись 17 марта 1839 года во Владимире, где жил тогда Герцен. "Восторженное душевное состояние, – рассказывает Анненков, – достигло на этом свидании своего апогея и истощило все свое содержание. Радость, охватившая друзей, перешла в религиозный экстаз. Все четверо были молоды, счастливы и, несмотря на опальное свое положение, исполнены надежд на себя, на будущее свое, на предстоящую им дорогу в жизни. Они искали, куда излить избыток своих ощущений. По предложению Огарева, они пали ниц все четверо перед распятием, принося благодарственные молитвы и потом в слезах расцеловались друг с другом..." (Анненков, "Идеалисты 30-х годов", в книге "П. В. Анненков и его друзья". С.-Петербург, 1892, с. 69 – 70). И, верный обычаю оповещать друзей о всех событиях своей жизни, посвящать их в подробности своих душевных настроений, Герцен не преминул написать в Москву: "...мы инстинктуально все четверо бросились перед распятием, и горячие молитвы лились из уст. Что за дивный, что за высокий Огарев! Зачем ты не мог взглянуть на эту группу, которая обратилась к небу не с упреком, не с просьбой, а с гимном, с осанной!.." (там же, с. 70). Здесь – и обожание друг друга, и взаимное задержание чувств, и исключительная приподнятость всей чувствующей сферы. Восторг и умиление – вот те чувства или, вернее, аффекты, которые эти люди переживали гораздо чаще и напряженнее, чем это полагается натуре душевно уравновешенной и не страдающей чрезмерною раздражимостью чувствующей сферы. У них был и "дар слез" почти в той же мере, в какой он свойствен детям и женщинам. Герцен рассказывает (в "Былое и думы"), как еще ребенком он, бывало, плакал, как "сумасшедший", читая последнее письмо "Вертера" ; но то же самое повторилось с ним и в 1839 году, когда ему было 27 лет: "В 1839 году "Вертер" попался мне случайно под руки; это было во Владимире; я рассказал моей жене, как я мальчиком плакал, и стал ей читать последние письма... и когда дошел до того же места, слезы полились из глаз, и я должен был остановиться" (Былое и думы, гл. II)11.
Из писем Герцена, Белинского и других можно было бы привести немало выдержек, свидетельствующих об экзальтации и чувствительности этих, в остальном столь различных, умов и натур. Достаточно известно, с какою силою, с каким блеском проявилась экзальтация и избыток чувствований в сочинениях и письмах Белинского, "неистового Виссариона". Он был в ряду современников самым "неистовым", самым экзальтированным. Но его экзальтация питалась восторженностью других, его страстное чувство находило отклик в страстном чувстве других. Почти все они были, каждый по-своему, "неистовы", то есть восторженны и страстны или по крайней мере доступны экзальтации. Наиболее спокойным и уравновешенным из них был, по-видимому, Станкевич: {Такое впечатление оставляют его письма. "Мера и гармония были в природе Станкевича", – говорит Анненков ("Н. В. Станкевич" в "Воспоминаниях и критических очерках", отд. III, с. 327). "Станкевич не любил вообще всего, что порывисто... не понимал гнева в борьбе с ложным..." – и т. д. (там же, с. 331).} в его душевной жизни аффектированные состояния были редки. Но и он жил напряженною деятельностью чувств: его мысль всегда "окрашивалась" чувствами, как это видно из его биографии и писем. Восторженность и чувствительность были как бы психическим поветрием, которое захватывало и натуры более спокойные или уравновешенные. Даже юморист и скептик Клюшников поддавался общему настроению и писал стихи, в которых, как характеризует их Анненков, "чувствуется ипохондрическое расположение и болезненная экзальтация" (Воспоминания и критические очерки, III, 333), а порою звучала и "слезливая сентиментальность" (там же). Что же касается Герцена и Огарева, то они в то время, в 30-х годах, лишь немногим уступали Белинскому в восторженности, в душевной воспламеняемости. Вспоминая в 1842 году недавнее прошлое, Герцен записал в "Дневнике": "...я совсем огнем любви жил в сфере общечеловеческих современных вопросов, придавши им субъективно-мечтательный цвет..." С годами, с опытом жизни он утрачивал юную восторженность, – его мысль все более освобождалась от окраски чувствами. В 1843 году он заносит в "Дневник": "Сколько переменилось в эти 4 года, сколько испытаний! Главное дело, все цело, и дружба, и любовь, и преданность общим интересам, – но освещение не то, алый свет юности заменился северным, ясным, но холодным солнцем реального понимания. Чище, совершеннее понимание, но нет нимба, окружавшего все для нас. Период романтизма исчез..."12 Грусть, сожаление об утраченном "освещении", о "нимбе" сквозит в этих строках, но вместе с тем в них видно сознание, что самая-то "мысль" от этой утраты только выиграла. Оно и понятно: "окраска" чувством, если оно не умеренно, а тем более претворение в аффект мешают мысли быть вполне рациональною. Слишком окрашенная чувством мысль тускнеет, умственный взор затемняется, – и человек видит вещи, ясные как божий день, в каком-то фантастическом освещении. Отуманенные чувством или аффектом, даже лучшие умы, глубокие и проницательные, доходят до парадоксальных теорий, граничащих с абсурдом, как это и случилось с Белинским в эпоху его "примирения с действительностью"; недаром это "примирение" совпало с наибольшею экзальтированностью великого критика, о степени которой дают понятие, например, следующие проявления чувства, граничащие уже с некоторою ненормальностью "чувствующей души". Анненков сообщает: "...при появлении в "Современнике" 1838 года посмертных сочинений Пушкина Белинский испытал более чем восторг! даже нечто вроде испуга перед величием творчества, открывшегося глазам его..." (Воспоминания и критические очерки, III, с. 31)13. (Статья "Замечательное десятилетие"). Когда Белинский впервые, при содействии Бакунина, познакомился с философией Гегеля, он пришел в то восторженное состояние, о котором свидетельствуют следующие строки его письма к Станкевичу (1839): "Новый мир нам открылся. Сила есть право, и право есть сила: – нет, не могу описать тебе, с каким чувством услышал я эти слова, – это было освобождение..."14 Усвоение мысли, которая, как ему тогда казалось, должна была лечь в основу его миросозерцания, распутать противоречия и освободить душу от тягостных внутренних борений и сомнений, сопровождалось исключительно сильным умственным возбуждением и отозвалось в сфере чувствующей аффектом.
К числу особливо экзальтированных натур принадлежал Константин Аксаков, этот "Белинский" славянофильства. О его невоздержанности или неумеренности в выражении своих чувств неоднократно говорит его отец, С. Т. Аксаков, в воспоминаниях о Гоголе, где рассказывается, как, при каждом появлении Гоголя в доме Аксаковых, Константин Сергеевич поднимал крик, бросался к смущенному поэту, всегда так боявшемуся всяческих "излишеств", и готов был задушить его в объятиях. Избыток чувства, состояние аффекта перешли у Константина Аксакова в тот фанатизм, с которым он воспринял славянофильскую идею. Фанатизм есть порабощение мысли чувством, ею же вызванным. Это мы видим и у Ив. Киреевского, о котором Герцен отозвался в "Дневнике" (1843) так: "Длинный разговор о философии с И. Киреевским. Глубокая, сильная, энергичная до фанатизма личность..."15
Я не имею возможности рассмотреть по порядку всех важнейших деятелей поколения 30-х годов с точки зрения, на которую я здесь становлюсь. Каждый из них и все они вместе представляют для психолога в высокой степени заманчивую задачу – исследовать их душевную организацию с функциональной стороны, то есть со стороны деятельности мысли и чувства, способов реагировать на возбуждения, а также и – влияния чувства на мысль. Такие чисто психологические исследования, думается мне, должны пролить свет на некоторые еще неясные пункты в душевной жизни и в деятельности "людей 40-х годов", в эпоху, когда они еще развивались и только еще начинали обнаруживать богатство своих духовных сил, именно в 30-е годы, знаменательные, между прочим, тем любопытным и на первый взгляд загадочным настроением, которое принято называть "примирением с действительностью".
За исключением нескольких лиц (Герцена, Огарева и их ближайших друзей), это особое настроение, очевидно возникшее на почве общего размягчения душ восторженностью и чувствительностью, охватило наибольшую часть молодых деятелей, выступавших тогда на арену сознательной жизни.
Излишне оговаривать, что в сущности "примирение" было кажущимся, мнимым, что между действительностью той эпохи и идеализмом новых людей не было ничего общего, никаких точек соприкосновения. "Примирение" отнюдь не означало, что молодые идеалисты завязывали дружеские связи с миром Фамусовых, Скалозубов, Молчалиных и Загорецких. Оно означало только одно – что эти идеалисты, по молодости, чувствительности и восторженности своей, еще не могли или не умели стать на точку зрения Чацкого, не догадывались, что им подобает и предстоит разыграть в самой жизни роль героя Грибоедовской комедии. Они еще не пришли к сознанию всего горя, которое им сулит их ум. Раньше и отчетливее других сознали это Герцен, Огарев, Грановский. Позже других, путем мучительной внутренней борьбы и окольным путем затянувшегося "примирения" с действительностью, – пришел к тому же сознанию Белинский, этот истинный Чацкий 40-х годов.
Примечания
1 Пассек Т. П. Из дальних лет. Воспоминания в 2-х томах, т. I. M., Гослитиздат, 1963, с. 238.
2 Там же, с. 239.
3 Бестужев-Марлинский А. А. Соч. в 2-х томах, т. 2. М., Гослитиздат, 1958, с. 555.
4 Там же.
5 Из статьи Н. В. Гоголя "Несколько слов о Пушкине" (1834). – Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. в 14-ти томах, т. VIII. М., Изд-во АН СССР, 1952, с. 50 (далее по этому изданию).
6 Имеются в виду воспоминания декабристов: Волконский С. Г. Записки. СПб., 1901; Розен А. Е. Записки декабриста. СПб., 1870, 1899, 1900.
7 Из стихотворения А. С. Пушкина "Чаадаеву" ("В стране, где я забыл тревоги прежних лет...", 1821).
8 Из стихотворения А. С. Пушкина "Элегия" (1830).
9 Герцен А. И. Былое и думы, часть первая, гл. VII.
10 Там же.
11 Там же, часть первая, гл. II.
12 Запись в дневнике 22 октября 1842 г. и 19 марта 1843 г. – См.: Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. IL M., Изд-во АН СССР, 1954, с. 234, 272 (далее по этому изданию).
13 Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., Художественная литература, 1983, с. 154 (далее по этому изданию).
14 Из письма Н. В. Станкевичу от 29 сентября – 8 октября 1839 г.- Белинский, т. 9, с. 261-262.
15 Запись в дневнике, апрель, 1843 г. – Герцен, т. II, с. 274.