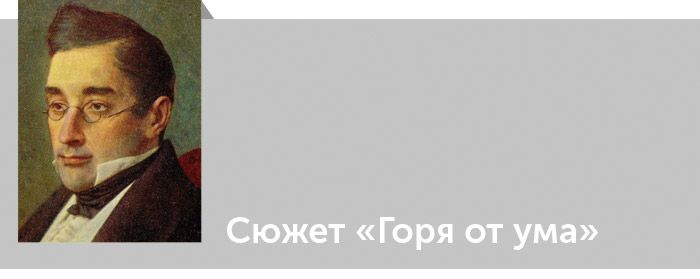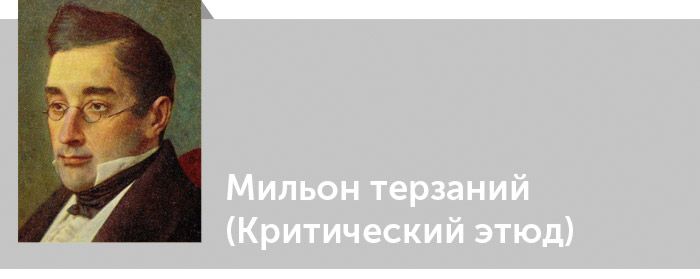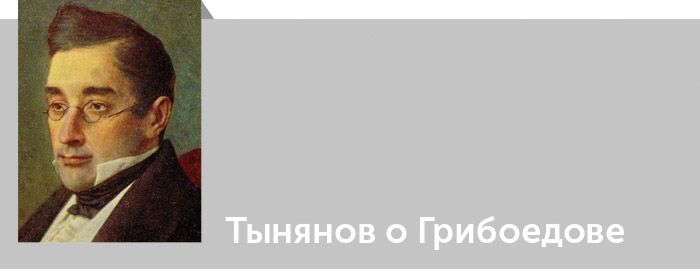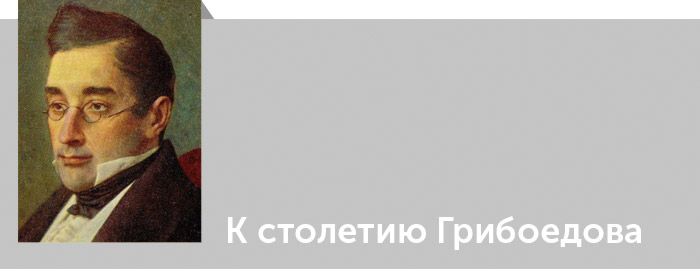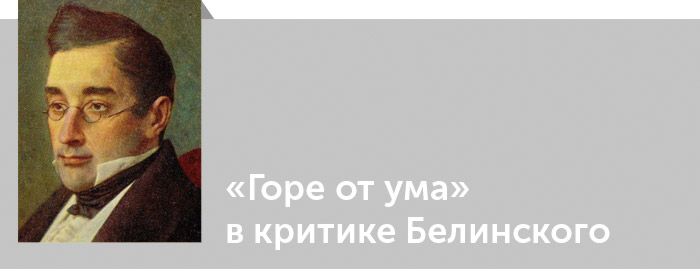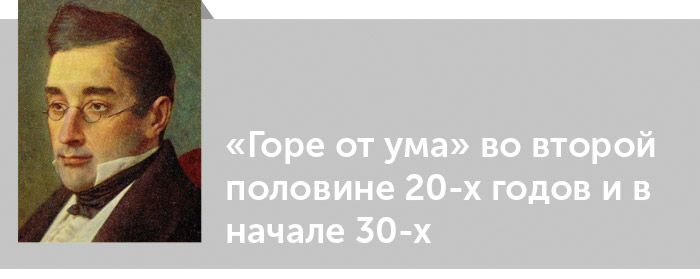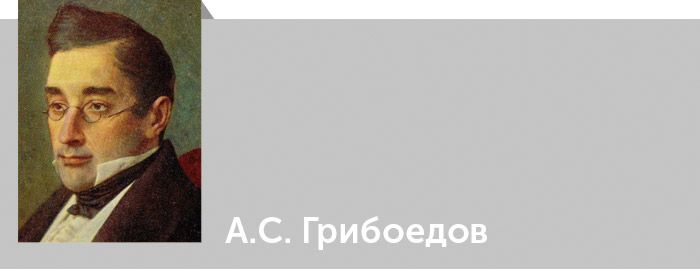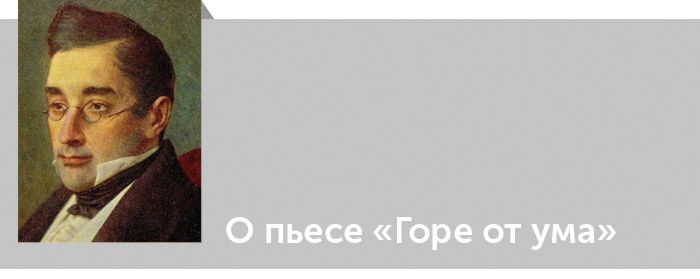Александр Грибоедов. Горе от ума – Чацкий
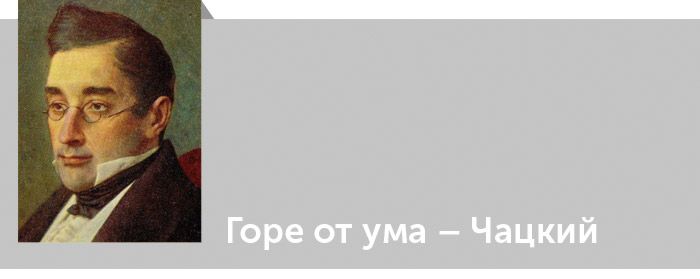
Д. H. Овсянико-Куликовский
Из «Истории русской интеллигенции». Глава І
1
Предлагаемая книга представляет собою ряд этюдов по психологии русской интеллигенции XIX века, преимущественно по данным художественной литературы. На первый план выдвигаются тут так называемые "общественно-психологические" типы, каковы Чацкий, Онегин, Печорин, Рудин и др.
Исходным пунктом послужит нам эпоха 20-х годов. Мы начнем разбором бессмертной комедии Грибоедова, где в лице Чацкого дан типичный образ мыслящего и передового человека того времени.
Некоторое подчинение иностранным образцам (именно – Мольеру), разъясненное проф. Алексеем Николаевичем Веселовским {"Этюды и характеристики" (М., 1894), статья "Альцест1 и Чацкий", и в особенности с. 156--157, 161-163.}, не повредило реализму знаменитой пьесы. Ее можно даже назвать ультрареальной: так тесны, так неразрывны ее связи с действительностью, ограниченною весьма узкими пределами места и времени. Однако это не помешало ей получить огромное значение, далеко выходящее за эти пределы. В ней воспроизведено московское общество в период от 1812 до половины 20-х годов, но она сразу приобрела всероссийское значение, сохранившееся за нею в течение всего XIX века и не увядшее до сих пор.
Типы Грибоедова, непосредственно взятые из действительности, списанные с натуры, оказались бессмертными. Достаточно известно, что и Фамусов, и Скалозуб, и Загорецкий, и Репетилов, и некоторые второстепенные лица были "портреты". Об этом свидетельствует сам Грибоедов в известном письме к Катенину (январь 1825 г.), где, возражая на упрек последнего ("характеры портретные"), он говорит: "Да! и я коли не имею таланта Мольера, то, по крайней мере, чистосердечнее его: портреты и только портреты входят в состав комедии и трагедии, в них, однако, есть черты, свойственные многим другим лицам, а иные всему роду человеческому настолько, насколько каждый человек похож на всех своих двуногих собратий" (Полн. собр. соч. А. С. Грибоедова (1889), под ред. И. А. Шляпкина, т. I, с. 187) {О лицах, послуживших (достоверно или предположительно) Грибоедову "оригиналами", см. в Полн. собр. соч. А. С. Грибоедова, под ред. И. А. Шляпкина, т. II, с. 523-526.}2. В среде, к которой принадлежали "оригиналы", это произвело впечатление "скандала", "пасквиля". Но в какие-нибудь 3-4 года пьеса распространилась по всей России в тысячах списков,– и для многочисленных читателей, не принадлежавших к данной московской среде, она была не пасквилем, а художественною сатирою, которая сразу обнаружила свое тесное родство с обыденным художественным мышлением довольно широких кругов читающей публики.
Именно все отрицательные типы, все эти Фамусовы, Молчалины, Скалозубы, Загорецкие, в своей основе оказались такими, какими уже давно рисовались они в мыслях всех тех, кто, обладая известным умственным развитием, проявлял более или менее сознательное отношение к действительности. Образованное общество давно знало, например, Фамусовых с их покладистостью, их умственной темнотой, их нравственной слепотой, их пошлостью и всегдашней готовностью, при всем их московском или вообще русском благодушии, впадать в свирепое мракобесие. Достаточно хорошо известны были в разных кругах и карьеристы Молчалины, и проходимцы Загорецкие и т. д. Можно положительно утверждать, что в этом смысле Грибоедов не сказал обществу ничего совсем нового.
И тем не менее пьеса была принята, как нечто небывалое, как редкостная новинка, не имевшая прецедентов.
Такою, без всякого сомнения, и была она. Это кажущееся противоречие в высокой степени характерно для произведений реального искусства. Взятые из живой действительности, они говорят о том, что все знают; они являются только дальнейшим развитием художественных образов и художественно-моральных суждений, принадлежащих обществу или по крайней мере его мыслящей части. Оттуда-то интимное понимание со стороны публики, которое – в большинстве случаев – так легко достается на долю этого рода произведений, если не всегда – в их целом и в их идее, то по крайней мере типам, в них выведенным. Пусть замысел Грибоедова и – в частности – фигура (скажем лучше – идея) Чацкого не были тогда (да и долго потом) поняты и оценены по достоинству, но типы Фамусова, Молчалина, Скалозуба и т. д. были, без всякого сомнения, отлично поняты и вполне правильно оценены, потому что обобщенные в них натуры и характеры были достаточно известны и критическое отношение к ним было в образованном обществе явлением обычным. Здесь мы ясно видим ту связь высшего художественного мышления с обыденным, которая образует психологическую основу реального искусства. Благодаря этой связи обыватель получает возможность интимно понять создание художника – по крайней мере те образы, которые в обыденном мышлении уже получили некоторую "разработку" и стали "ходячими типами". И вот, когда обыватель, встречая их в произведении художника, легко узнает в них, так сказать, свое собственное добро, тогда и происходит в его сознании тот любопытный и важный процесс обоюдной апперцепции, в силу которого в одно и то же время "собственное достояние" читателя уясняется ему образами, созданными художником, а эти образы постигаются силою "собственного достояния". И тогда то, что было смутно, неопределенно, неярко, становится ясным, определенным, ярким. "Собственное достояние" получает характер вопроса, на который дал ответ художник. Пусть в создании последнего не будет ничего "совсем нового", но оно воспринимается как новое, потому что ответило на вопрос, пролило яркий свет на знакомые явления, затронуло нравственное чувство читателя, заставило его задуматься над тем, что он хорошо знал – да не задумывался. Так, например, читатели отлично знали Фамусовых и Молчалиных, но Грибоедов пролил неожиданный свет на эти фигуры и заставил читателей знать их по-новому – смотреть на них и судить о них не по-обывательски, а с точки зрения той высшей человеческой морали, которая присуща искусству. Не все читатели одинаково были способны возвыситься до этой высшей морали, и – как это всегда бывает – комедия Грибоедова в разных умах и натурах отражалась различно, возгораясь всем своим светом в одних, тускнея в других, опошливаясь в третьих. Этот обычный процесс взаимодействия между высшими продуктами творчества поэтов и обыденно-художественным мышлением публики улавливается и прослеживается на судьбах комедии Грибоедова с особливой наглядностью.
В своей замечательной статье о "Горе от ума" ("Мильон терзаний") Гончаров говорит: "Изустная оценка опередила печатную, как сама пьеса задолго опередила печать. Но грамотная масса оценила ее фактически... Она разнесла рукопись на клочья, на стихи, полустишья, разнеся всю соль и мудрость пьесы в разговорной речи, точно обратила мильон в гривенники, и до того испестрила грибоедовскими поговорками разговор, что буквально истаскала комедию до пресыщения"3, Случилось то, что предсказал Пушкин, говоря о языке и стихе Грибоедова, когда впервые познакомился с пьесою по рукописи: "О стихах я не говорю,-- половина должна войти в пословицу" (письмо к Бестужеву, 1825 г.)4. Этот отзыв Пушкина, как и приведенные слова Гончарова живо изображают нам тот процесс взаимодействия высшего художественного мышления с обыденным, о котором мы ведем речь. Прежде всего, в самом языке Грибоедова общество нашло свое собственное достояние: все эти меткие словечки, поговорки, обороты уже давно существовали в речи и были ходячей монетой языка. Теперь, использованные поэтом для обрисовки типов, они возвращались обратно в обыденную речь, в стихию языка, еще более отчеканенные, приуроченные к определенным художественным образам, впитав в себя из этих образов новое содержание или новые оттенки значения. Старое становилось новым, обычное, ходячее и притом нередко нечуждое некоторой, свойственной всему ходячему, пошловатости являлось необычайным, значительным, своеобразным. Подержанному, притупившемуся оружию был дан новый закал,– и теперь его удары были необычайно метки и сильны. Волей-неволей читатели, даже наиболее благодушные, становились, "разнося рукописи на клочья, на стихи и полустишья" (как говорит Гончаров), единомышленниками и соратниками желчного сатирика. Обыденное художественное мышление читателей благодаря Грибоедову принимало характер своеобразного протеста и явно критического отношения к действительности.
2
Прежде всего нам необходимо уяснить себе с возможною отчетливостью характер этого протеста, этого критического отношения к действительности. Не будем смущаться тем, что тут (по выражению Гончарова) "мильон разменялся на гривенники",– и посмотрим, на что, собственно, были направлены сатирические стрелы Грибоедова.
Они были направлены на наше самое больное место: на тех, которые являлись – и тогда, и потом – основою самой гибельной из всех реакций – реакции общественной.
Для общественного блага и прогресса нет ничего пагубнее той умственной тьмы и светобоязни, той нравственной слепоты и того душевного уродства, которые воплощены в образах Фамусова, Молчалина, Скалозуба и всех этих Старух зловещих, стариков, Дряхлеющих над выдумками, вздором...
Эти образы вышли столь выразительными, а филиппики Чацкого были так метки и страстны, что пьеса получила огромное общественное значение, и это была не просто художественная сатира. Это был политический памфлет, действие которого на умы в первой половине 20-х годов должно было быть особливо значительным. То была эпоха, когда в общественной атмосфере веяло весной, несмотря на затянувшуюся общую реакцию во внутренней политике. Людей просвещенных, жаждавших, по выражению Чацкого, "свободной жизни", было тогда немало, и уже слагался тип передового деятеля, представителя новых идей. Он и был воплощен Грибоедовым в фигуре Чацкого. Черты этого типа мы найдем и у самого Грибоедова, и у Пушкина, и у Чаадаева, и у Николая Тургенева и т. д. Широкое обобщающее значение этого образа, в свое время недостаточно оцененное (например, Пушкиным и потом Белинским), впервые было раскрыто Гончаровым в вышеупомянутой статье "Мильон терзаний".
Но прежде чем говорить о Чацком, в речах которого протест и критическое отношение к действительности выразились так ярко, нам нужно уяснить себе значение отрицательных типов, выведенных в комедии Грибоедова.
Несмотря на строгое приурочение их к месту и времени, они (по крайней мере важнейшие из них) продолжают сохранять доселе свое живое значение. Пьеса до сих пор остается яркою сатирою и злым памфлетом. Вся разница (сравнительно с ее прошлым, с тем, чем была она в 20-х годах) в том, что теперь она стала произведением историческим, то есть таким, которое воспроизводит эпоху, уже отошедшую в историческое прошлое. Мы называем ее комедиею историческою в том смысле, как называем, например, "Войну и мир" историческим романом. При столь известной изменяемости наших общественных типов, при той быстроте (почти по десятилетиям), с которою они видоизменялись вместе со сменою общественных настроений, умственных интересов, литературных и иных влияний, комедия Грибоедова становилась историческою (в указанном смысле) уже в 40-х и даже в 30-х годах, когда Фамусовы, Молчалины и другие явились в дном обличье, а Чацкие стали говорить иначе,-- не по-грибоедовски и больше шепотом да при закрытых дверях. Театральная публика 40-х годов уже воспринимала пьесу как картину прошлого, хотя и недавнего. Вообще в нашем умственном и общественном развитии нет последовательной преемственности идей, настроений, стремлений, идеалов. Известные течения вдруг останавливаются или иссякают, чтобы уступить место другим; последующее иногда упорно отказывается признать свое духовное родство с прежним, пресеченным или иссякшим... А Фамусовы и Молчалины, обладая удивительною приспособляемостью и живучестью, переряжаются в другие костюмы и часто не сразу узнаются в новом наряде. Но традиция основных черт этих отрицательных типов сохраняется при всех возможных переменах условий жизни. Мы знаем Фамусовых, Молчалиных, Скалозубов, Загорецких дореформенных и пореформенных, и посейчас они существуют и по-прежнему К свободной жизни их вражда непримирима!
Эту живучесть отрицательных типов Грибоедова отметил в начале 70-х годов автор статьи "Мильон терзаний". Он говорит: "Колорит не сгладился совсем, век не отделится от нашего, как отрезанный ломоть; мы кое-что оттуда унаследовали, хотя Фамусовы, Молчалины, Загорецкие и проч. и видоизменились так, что не влезут уже в кожу грибоедовских типов..."5
Вот именно в силу такой живучести темных сил, образующих оплот общественной реакции, комедия Грибоедова, хотя и стала историческою, продолжает сохранять живое значение,– как раз так, как сохраняет его и долго еще будет сохранять сатира Салтыкова.
В нашей художественной литературе настоящим преемником Грибоедова, достойным продолжателем его дела был только Салтыков. Это дело – борьба средствами искусства с темными силами, с общественно-реакционными элементами. Специфический характер и отличительные признаки художественных произведений, являющихся выражением этой борьбы (в данном случае "Горе от ума" и сатира Салтыкова), мне кажется, недостаточно выяснены и нуждаются в более точном определении.
Подобно всякой сатире, эти произведения принадлежат к творчеству экспериментальному.
Но они резко отличаются от других видов сатиры, прежде всего тем, что в них отрицательные стороны жизни, натур, характеров подвергаются художественному осуждению с точки зрения общественного блага и прогресса.
Например, пошлость, глупость, нечестность, пролазничество и т. д. изображаются в них не столько как вообще пороки, сколько как черты, которыми характеризуются реакционные элементы, как нечто общественно и политически вредное или даже пагубное.
Таков именно и был преобладающий характер художественного эксперимента, произведенного Грибоедовым в его бессмертной комедии.
В ней дан односторонний подбор черт, в силу чего получилась не полная, не разносторонняя картина жизни, а резкая критика известных сторон ее {"Резкая картина нравов", по выражению Пушкина6.}. Возьмем для сравнения описание московской жизни приблизительно той же эпохи у Толстого в "Войне и мире",– и мы сейчас же почувствуем и поймем всю разницу между изображением, основанным на художественном наблюдении, и тем, которое было результатом художественного опыта. Резкие отличительные черты Фамусовых, Молчалиных, Загорецких, пустота и пошлость жизни, дикость понятий – все это в широкой эпической картине Толстого смягчено, затушевано или отодвинуто на задний план,– может быть, даже больше, чем оно обычно смягчалось, затушевывалось, скрадывалось в самой действительности. В жизни ее пошлая сторона далеко не всегда проявляется с достаточною яркостью" и не всякий день Фамусовы выступают с открытым выражением своих диких понятий, с откровенным мракобесием. Они делают это при случае, когда, например, сталкиваются с Чацким или когда это представляется выгодным. Вне таких оказий это – благодушные, наивные люди, не лишенные некоторых хороших человеческих черт. Нередко они бывают лучше своих понятий, принадлежащих скорее веку и среде, чем каждому из них в отдельности. У Грибоедова мы найдем только намеки на то хорошее или безразличное, что наблюдалось у Фамусовых и других. Вперед выдвинуты и сгущены их темные стороны. И это сделано так, что слушая, например, речи Фамусова и филиппики Чацкого, мы проникаемся настроением последнего и начинаем смотреть на Фамусовых, по-своему да по-московски благодушных, как на темную и зловредную силу, имеющую очевидное реакционное значение.
Хотя всем нам известны с детства бессмертные стихи Грибоедова или, лучше, именно потому, что, затверженные с детства, они у нас обесцветились ("мильон разменялся на гривенники"),– не мешает освежить в памяти некоторые места, чтобы яснее увидеть, какой замысел лежал в основе художественных экспериментов Грибоедова.
Вспомним, например, великолепный монолог Фамусова во 2-м акте, начинающийся словами: "Вот то-то, все вы гордецы! – Спросили бы как делали отцы,– учились бы, на старших глядя...",– где, наивно восхваляя старину и низкопоклонство карьеристов былого времени, Фамусов нарисовал живую картину порядков и нравов XVIII века с его "случайными людьми", фаворитами и т. д. Вспомним и злую отповедь Чацкого:
И точно, начал свет глупеть,
Сказать вы можете, вздохнувши.
Как посравнить да посмотреть
Век нынешний и век минувший,–
Свежо предание, а верится с трудом...– и т. д.
Дело идет не о частных или узкообщественных недостатках и пороках, дело идет о понятиях господствующего класса, об отношениях его к власти, о степени его гражданского развития. Перед нами черты не порчи нравов, а самого строя государственной жизни. И Фамусов, с своей точки зрения, совершенно прав, когда в ответ на филиппику Чацкого он восклицает:
Ах, Боже мой! Он карбонарий!
Но послушаем дальше:
Чацкий. Нет, нынче свет уж не таков.
Фамусов. Опасный человек!
Чацкий. Вольнее всякий дышит
И не торопится вписаться в полк шутов.
От этих речей Фамусов приходит в ужас. Выходки Чацкого против низкопоклонства кажутся ему "потрясением основ". И в самом деле, Чацкий "потрясал основы" – старых порядков, обветшалых понятий. Когда он заговорил было о новых людях, которые путешествуют (поездки за границу в 10-х и 20-х годах были одним из важнейших проводников передовых идей) или уединяются в деревню (это была особая форма оппозиции, причем в деревню влекло передовых деятелей желание улучшить положение крестьян), Фамусов, перебивая его, кричит: "Да он властей не признает!" Едва Чацкий заикнулся о тех, Кто служит делу, а не лицам,– Фамусов уже перебивает его бессмертными словами, получившими особливое применение:
Строжайше б запретил я этим господам
На выстрел подъезжать к столицам!
Порицатель старых и уже отживших понятий и порядков, Чацкий вовсе не панегирист своего времени. Он говорит:
Ваш век бранил я беспощадно,
Предоставляю вам во власть:
Откиньте часть
Хоть нашим временам в придачу,–
Уж так и быть, я не заплачу.
Вспомним далее, знаменитый монолог Чацкого, начинающийся словами:
А судьи кто? За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима...
Следующее место характерно для той эпохи:
Теперь пускай из нас один,
Из молодых людей, найдется враг исканий,
Не требуя ни мест, ни повышенья в чин,
В науки он вперит ум, алчущий познаний.
Или в душе его сам Бог возбудит жар
К искусствам творческим, высоким и прекрасным,–
Они сейчас: "Разбой, пожар!"
И прослывет у них мечтателем опасным.
Мундир! Один мундир... Он в прежнем их быту
Когда-то укрывал – расшитый и красивый –
Их слабодушие, рассудка нищету...
Это, разумеется, давно уже отжило. Уже в 40-х годах общественно-реакционные силы, по крайней мере в столицах, не проявляли такого мракобесия, и человек, посвящавший себя науке или искусству, уже не возбуждал подозрений, не казался ео ipso {тем самым (лат.).– Ред.} "мечтателем опасным". Наука и искусство, растения экзотические на русской почве, понемногу принимались на ней и пускали корни сперва благодаря собственно тому, что высшая власть брала их под свое покровительство.– Достаточно известно, как туго прививалось у нас высшее образование, с каким равнодушием, с каким тупым отвращением относилось общество к университетам, предпочитая им иностранцев-гувернеров. 30-е годы могут считаться пограничным периодом, когда этот род мракобесия уже отходил в прошлое, когда университеты, наука, искусство, литература начали акклиматизироваться в России и становились национальным достоянием. И Фамусовы 40-х и последующих годов не решались уже, разве лишь за редкими исключениями, открыто заявлять:
...уж коли зло пресечь,–
Забрать все книги бы да сжечь.
Если и заводили они речь о таком спасительном аутодафе, то, конечно, не имели в виду всех книг, а только некоторые... Для этих, более просвещенных времен характернее точка зрения Загорецкого, который "с кротостью" (ремарка Грибоедова) отвечает Фамусову:
Нет-с, книги книгам рознь.
А если б, между нами,
Был цензором назначен я,
На басни бы налег.
Ох, басни – смерть моя!
Насмешки вечные над львами, над орлами!
Кто что ни говори,
Хоть и животные, а все-таки цари.
Вообще, можно сказать, что Фамусовы в той их разновидности, какая выведена в "Горе от ума", довольно скоро отживали свой век и перерождались в другие разновидности, более подходящие к духу времени, к требованиям распространявшегося просвещения, к новым понятиям, наконец, к видам правительства. Тип смягчался и терял черты резко выраженного наивного мракобесия... Напротив, Загорецкие и Молчалины плодились, множились и "прогрессировали", приспособляясь к новым условиям, изощряя свои хищнические наклонности и пролазничество. Столь же бесстыжие, как и их грибоедовские прототипы, они научились маскировать свое бесстыдство и уже не откровенничают так наивно, как это делал Молчалин. Эти скверные натуры в те "добрые старые времена" не имели большого хода, ограничиваясь карьерою прихлебателей в кругу бар. В большое плавание Загорецкие и Молчалины пустились гораздо позже – в пореформенное время, в эпоху горячки банков и концессий, служебного и всяческого карьеризма. Процветают они ив наши дни... В свой черед другой великий сатирик обратил на них внимание,-- и они ожили в новых формах в грозной сатире Салтыкова.
Загорецкий и Молчалин – типы-эмбрионы, фигуры пророческие...
Пророческим приходится признать и Скалозуба с его бесподобными изречениями вроде:
Я вас обрадую: всеобщая молва,
Что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий:
Там будут лишь учить по-нашему: раз, два!
А книги сохранят так, для больших оказий.
Или:
Я князь-Григорию и вам
Фельдфебеля в Вольтеры дам:
Он в три шеренги вас построит,
А пикнете, так мигом успокоит.
Широкий размах сатирической кисти Грибоедова коснулся и представителей передового движения того времени. Глупо-восторженный "либерал", слабоумный крикун и враль Репетилов воспроизводит, в карикатурном виде, известный сорт приспешников тогдашнего брожения {Сам Грибоедов отрицал карикатурность своих героев. В письме к Катенину он говорит: "Карикатур ненавижу; в моей картине ни одной не найдешь..." (Полн. собр. соч. А. С. Грибоедова, под ред. И. А. Шляпкина, т. I, с. 197)7. – Однако некоторых черт карикатурности нельзя отрицать в фигурах "Горя от ума", как нельзя отрицать их в "Ревизоре". Карикатурность Репетилова бьет в глаза. Говорю это не в осуждение: карикатура – законный прием экспериментального искусства,– не хуже других его приемов.}.
Фигура Репетилова наводит на размышления неутешительного свойства.
Выше я упомянул о шаткости, о неустойчивости, о прерывистом ходе наших передовых движений. Разумеется, в значительной степени это зависело от причин внешних, от искусственных преград, тормозивших освободительные стремления лучших людей нашего общества. Но нельзя сваливать все на внешние препятствия, на неблагоприятные условия. Многое объясняется лучше нашею неподготовленностью к восприятию и самостоятельной переработке сложных европейских идей, вырабатывавшихся там веками в суровой школе жизненной борьбы и умственного труда на разных поприщах мысли. Всматриваясь в умственный и вообще духовный обиход различных представителей передовых движений у нас, начиная с 20-х годов, нетрудно отметить признаки незрелости и шаткости мысли, а нередко и общую психическую неустойчивость. Выработка широких, прогрессивных и жизнеспособных общественно-политических идей есть прямая и насущная задача просвещенных, передовых людей времени, это – историческая необходимость, более или менее умелыми органами которой и являются эти люди. И вот, когда мы видим, что они тратят добрую долю сил и времени, например, на ненужные метафизические словопрения о тонкостях гегелианской философии, тогда у нас возникает законное сомнение в подготовленности их служить органом вышеуказанной исторической необходимости. Такое же сомнение шевелится у нас, когда мы вспоминаем о разных уклонениях в сторону и шатаниях мысли у некоторых передовых людей 60-х годов, а равно и последующего времени. Но едва ли можно сомневаться о том, что – в этом отношении – должен был осуществляться некоторый прогресс, ибо жизнь учит, ошибки и беды воспитывают, выстраданный опыт умудряет. И я думаю, что общественно-политическая мысль, например людей 60-х и 70-х годов, была, в общем, и выше, и рациональнее, и шире таковой же мысли людей 40-х годов. Это, пожалуй, покажется "ересью" тому, кто привык считать "людей 40-х годов" даровитее, образованнее и вообще выше их преемников, а на деятелей 20-х годов смотреть сквозь призму героической легенды и с "птичьего полета" – на расстоянии, стушевывающем резкости, шероховатости и другие изъяны. Я не имею возможности вдаваться здесь в фактическое рассмотрение этого вопроса, в котором вижу любопытную задачу, еще ожидающую исследователя. И мне кажется, ее разработка обнаружила бы, что в 40-х годах говорилось и делалось разных ненужностей и было разброда мысли значительно больше, чем в 60-х, а в 20-х – больше1, чем в 40-х. Грибоедовский Репетилов, именно своею карикатурностью, служит живым свидетельством того, как много было нелепой накипи в замечательном движении передовых людей эпохи 1815–1825 годов. Такая карикатура уже не годится для 40-х годов, а тем более для движений эпохи пореформенной. Пригодная лишь для своего времени фигура Репетилова довершает общий смысл сатиры Грибоедова, а в частности, своеобразно оттеняет своим отрицательным характером личность Чацкого, представителя положительных сторон движения 20-х годов. – К анализу этой центральной фигуры и обратимся теперь.
3
Пушкин отказал ему в уме. Он писал (Бестужеву в 1825 г.): "...в комедии "Горе от ума" кто умное действующее лицо? Ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он, очень умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На балу московским бабушкам? Молчалину? Это непростительно; первый признак умного человека – с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и т. п. ..."8 Гончаров внес существенную поправку в это суждение, показав, что эта "глупость", как и "горе" Чацкого были невольным, фатальным следствием его ума,– Заявление протеста перед Фамусовыми, просвещенная речь, обращенная к Скалозубу, проповедь или филиппика на балу, среди Загорецких, Горичевых, княгинь Тугоуховских, княжен и т. д.-- все это несомненная "глупость",-- но такого рода "глупостями" кишит история. Появление ума, просветительных стремлений, общественного и политического смысла среди пошлого, невежественного общества, лицом к лицу с дикими понятиями, умственной и нравственной слепотой – фатально ставит этот ум, эти стремления, этот смысл в глупое и более чем неловкое положение, результатом которого и является "мильон терзаний".
От такого тягостного и неумного положения и от обусловленного им "мильона терзаний" люди, обладающие большим, чем у Чацкого, чувством самосохранения, заблаговременно спасаются бегством из общества, эмиграциею, одиночеством кабинетного мыслителя, удалением в тесный дружеский круг единомышленников. Так спасались Белинские и Герцены в своем кругу, лучшие из славянофилов – в своем. Молодой ученый, эллинист Печерин, бежал от Фамусовых и Скалозубов за границу, откуда прислал министру народного просвещения известное письмо9, во многом подходящее к речам Чацкого.– Да и сам Чацкий в конце концов бежит "искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок", когда упала с глаз пелена и он увидел себя обманутым в своих лучших чувствах и понял всю несообразность, всю невозможность своего пребывания в пошлой среде, всю неуместность своих речей, напоминавших Пушкину изречение о расточении бисера.
Становясь на точку зрения Пушкина, мы скажем, что Чацкий подлежит упреку лишь в том, что не догадался тотчас же, что в этом обществе ему не подобает не только ораторствовать, но и присутствовать.– Однако этот упрек отчасти обезоруживается некоторыми "смягчающими обстоятельствами". Во-первых, Чацкий влюблен, а любовь ослепляет. Любовь к Софье и удерживает его в московском обществе до поры до времени, пока он не убедился, что на взаимность никаких надежд у него нет. Во-вторых, он произносит свои горячие речи и сыплет сарказмами – больше для себя, чтобы облегчить душу. Он, разумеется, ни на минуту не обольщается надеждой убедить Фамусова или Скалозуба и вообще "влиять" на общество,-- он просто не может удержаться от злых выходок, от выражения своего презрения и негодования. Он мыслит вслух, не справляясь с тем, кто его слушает и как отнесутся присутствующие к его речам. В праве – излить на всех "всю желчь и всю досаду", в праве – громко негодовать и открыто бросить в лицо обществу обвинения в том, что оно дрянное и пошлое общество,– мы не можем отказать Чацкому.
Следуя Гончарову, мы ставим его, как личность и как деятеля, выше Онегиных и Печориных. "Чацкий, как личность,– говорит Гончаров,– несравненно выше и умнее Онегина и Печорина. Он искренний и горячий деятель, а те – паразиты, изумительно начертанные великими талантами, как болезненные порождения отжившего века. Ими заканчивается их время, а Чацкий начинает новый век – и в этом все его значение и весь ум"10.
Отсылая читателя к мастерскому анализу характера и трагической роли Чацкого, сделанному знаменитым автором "Обломова", мы скажем только, что действительно грибоедовский герой, все горе которого происходило от ума, живо напоминает лучших деятелей той эпохи. Это – истинно просвещенный, серьезно образованный человек, одушевленный лучшими стремлениями, жаждущий живой деятельности – "служения делу, а не лицам". Его "программа" достаточно ясна. Чацкий – поборник просвещения и правовых норм, враг произвола и злоупотреблений, друг народа, даже "народник". Без всякого сомнения, в его "программу" прежде всего входила отмена крепостного права, осуждение которого ясно звучит в монологе: "А судьи кто?.."
{Тот Нестор негодяев знатных,
Толпою окруженный слуг?
Усердствуя, они, в часы вина и драки,
И жизнь, и честь его не раз спасали; вдруг
На них он выменял борзые три собаки!
Или вон тот еще, который для затей,
На крепостной балет согнал на многих фурах
От матерей, отцов отторженных детей?..}
Напомним для лучшего оттенения идейной стороны речей Чацкого, что все его обличения опирались на "фактических данных". Он очень прозрачно намекает на лиц, всем известных тогда, по крайней мере в столичном обществе, и на их деяния, уже ставшие достоянием более или менее скандальной хроники. В его горячих, желчных речах слышен голос не моралиста, а трибуна, который хорошо знает, против чего он идет, во имя чего горячится, кого обличает.
Остается еще один пункт, который позже, когда обострился знаменитый спор между западниками и славянофилами, подал повод видеть в Чацком предтечу славянофильства. Это его известная выходка против европейского костюма (фрака), панегирик старинной русской одежде и рискованная, с языка сорвавшаяся фраза о "премудром незнании иноземцев", которое нам не мешало бы позаимствовать у китайцев. Гончаров видит в этом просто результат некоторого затмения мысли, вызванного всем ходом коллизии; возбужденный, ожесточенный, выбитый из колеи, Чацкий "заговаривается", впадает в крайности.-- Отчасти это верно, но нужно говорить, что националистические тенденции, напоминающие позднейшее славянофильство, вообще замечаются у передовых людей той эпохи, а лично у самого Грибоедова были выражены, может быть, ярче, чем у других.
Едва ли можно сомневаться в том, что в речах Чацкого Грибоедов дал выражение своим собственным взглядам, симпатиям и антипатиям, наконец, настроению {О Чацком, как портрете самого Грибоедова, подробно говорит А. П. Кадлубовский в своей прекрасной речи: "Несколько слов о значении А. С. Грибоедова в развитии русской поэзии" (Киев, 1896 г. См. с. 13 и сл.). См. также – Алексей Веселовский. "Этюды и характеристики", статья "Грибоедов", с. 514 и сл.}. В известных строках Пушкина, посвященных Грибоедову, говорится, между прочим, о его "меланхолическом характере" и "озлобленном уме", что напоминает Чацкого11. Резкая оппозиция пошлости, рутине, обскурантизму, обществу, столь характерная в Чацком, была, по-видимому, отличительной чертой Грибоедова; он гораздо меньше Пушкина и даже Лермонтова умел уживаться в этом обществе, да и вообще среди господствовавших понятий и порядков. Нелишне отметить и то, что, в противоположность будущим славянофилам, Грибоедов тяготел к Петербургу, а Москву не любил, чувствуя себя в московском обществе в положении Чацкого. Эта антипатия к Москве была у него, москвича, застарелая и прочная,– она питалась впечатлениями детства и юности. Сюда относится следующее место в письме к Бегичеву (от 18 сентября 1818 г.): "В Москве все не по мне: праздность, роскошь, не сопряженные ни с малейшим чувством к чему-нибудь хорошему. Прежде там любили музыку, нынче и она в пренебрежении; ни в ком нет любви к чему-нибудь изящному, и притом "нет пророка без чести, токмо в отечестве своем, в сродстве и в дому своем": отечество, сродство и дом мой – в Москве. Все тамошние помнят во мне Сашу, милого ребенка, который теперь вырос, много повесничал, наконец, становится к чему-то годен, определен в миссию и может со временем попасть в статские советники, а больше во мне ничего видеть не хотят.
В Петербурге я, по крайней мере, имею несколько таких людей, которые не знаю, настолько ли меня ценят, сколько я думаю, что стою; но, по крайней мере, судят обо мне и смотрят с той стороны, с которой хочу, чтобы на меня смотрели. В Москве другое: спроси у Жандра, как однажды, за ужином, матушка с презрением говорила о моих стихотворных занятиях и еще заметила во мне зависть, свойственную мелким писателям, оттого, что я не восхищаюсь Кокошкиным и ему подобными. Я ей это от души прощаю..." и т. д. (Полн. собр. соч., под ред. И. А. Шляпкина, т. I, с. 168--169)12.– И в позднейших письмах встречаются места, напоминающие настроения Чацкого, например: "Кто нас уважает, певцов, истинно вдохновенных, в краю, где достоинство ценится в прямом содержании к числу орденов и крепостных рабов? Все-таки Шереметев у нас затмил бы Омира... Мучение быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов" (Письмо к Бегичеву 9 декабря 1826 г. Соч., т. I, с. 222)13. То, в чем Пушкин упрекал Чацкого ("метание бисера"), по-видимому, было свойственно Грибоедову: у него был очень злой язык, и он не умел или не хотел его сдерживать. "Он не мог и не хотел,– говорит А. А. Бестужев,– скрывать насмешки над позлащенною и самодовольною глупостью, ни презрение к низкой искательности, ни негодование при виде счастливого порока" (см. Полн. собр. соч. А. С. Грибоедова под ред. И. А. Шляпкина, т. I, с. XXV). Отрицательное отношение Грибоедова к господствовавшим в его время нравам, порядкам и понятиям, между прочим, выражалось и в форме оппозиции "нечистому духу пустого, рабского, слепого подражания", как говорит Чацкий,– в форме того "национализма", о котором было упомянуто выше. По всем признакам, это был национализм не консервативный, а либеральный и демократический, с оттенком того романтизма, который уносил воображение "в старину святую" (слова Чацкого) и приводил к некоторой (весьма умеренной) идеализации исторического прошлого. На это указывает, между прочим, его статья "Загородная поездка", где описывается народное мимическое представление с песнями на сюжет из былых похождений удальцов вроде Стеньки Разина. Здесь читаем: "Прислонясь к дереву, я с голосистых певцов невольно свел глаза на самих слушателей-наблюдателей, тот поврежденный класс полуевропейцев, к которому я и принадлежу... Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими... Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он, конечно, заключил бы из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами..." (там же, т. I, с. 108--109)14. Факт оторванности высших классов от народа привлекал к себе внимание Грибоедова, кажется, в несколько большей степени, чем это наблюдается у его современников. В этом отношении он действительно напоминает последующих славянофилов, а еще больше народников-демократов. Что он по общему строю своих идей ближе подходил к последним, чем к первым,– видно из следующего. Несмотря на свою нелюбовь к немцам (чувство, которое он разделял со многими передовыми деятелями эпохи), он не обнаруживал и следа того принципиального отрицания основ западноевропейской цивилизации, какое было особливо характерно для славянофилов. Так, передавая свои впечатления во время поездки на восток (1819 г.), он пишет о персиянах: "...в делах государственных здесь, кажется, не любят сокровенности кабинетов; они производятся в присутствии многочисленных слушателей. Я в простоте моего сердца сперва подумал, что, стало быть, редко во зло употребляется обширная власть, которой облечены здешние высшие чиновники, но в том, в чем наш поверенный в делах объяснялся с сардарем, например, о переманке и поселении у себя наших бродячих татар, о притеснении наших купцов, высокостепенный был кругом неправ, притом изложил составленную им самим такую теорию налогов, которая, не думаю, чтобы самая сносная для шахских подданных, вверенных его управлению. И все это говорилось при многолюдном сборище, чье расстроенное достояние ясно доказывает, что польза сардаря не есть польза общая. Рабы, мой любезный! И поделом им! Смеют ли они осуждать верховного их обладателя? Кто их боится? У них и историки панегиристы. И эта лестница слепого рабства и слепой власти здесь беспрерывно восходит до бега, хана, беглер-бега и кай-макама и таким образом выше и выше. Недавно одного областного начальника, невзирая на его 30-ти летнюю службу, седую голову и алкоран в руках, били по пятам, разумеется, без суда. В Европе, даже в тех народах, которые еще не добыли себе конституции, общее мнение, по крайней мере, требует суда виноватому, который всегда наряжают. Криво ли, прямо ли судят, иногда не как хотят, а как велят,– подсудимый хоть имеет право предлагать свое оправдание..." – Ниже, отмечая азиатскую лесть и велеречие, он говорит: "В Европе, которую моралисты вечно упрекают порчею нравов, никто не льстит так бесстыдно..."15 По-видимому, чем ближе знакомился он с патриархально-деспотическим Востоком, тем более склонялись его симпатии к европейским порядкам и нравам. Азиатский Восток живо напоминал ему старую, допетровскую Русь, и, по-видимому, указанное критическое отношение его к восточным порядкам распространялось и на старые московские порядки, но только оно смягчалось присущим Грибоедову романтическим и патриотическим культом родной старины.
Зато тем резче проявлялось, порою, его отрицательное отношение к современной действительности, причем он выступал как последовательный народник-демократ. Это видно в любопытном плане драмы "1812 год", где главным действующим лицом является некий M*, очевидно, ополченец из крепостных. Он совершает чудеса храбрости и по окончании войны остается в прежнем положении крепостного. Вот программа эпилога: "Вильна. Отличия, искательства, вся поэзия великих подвигов исчезает. М* в пренебрежении у военачальников. Отпускается восвояси с отеческим_и наставлениями к покорности и послушанию.– Село или развалины Москвы. Прежние мерзости. M* возвращается под палку господина, который хочет ему сбрить бороду. Отчаяние... Самоубийство"16.– Совершенно справедливо говорит по этому поводу А. Н. Пыпин: "Двенадцатый год оставил в современной литературе замечательно малый след, не отвечающий его историческому значению. Он был, конечно, воспет, но воспевание в громадном большинстве случаев свидетельствовало о дурном литературном вкусе и затем выразило только элементарный мотив – патриотическую радость об изгнании врага из пределов отечества; при этом обыкновенно самое дело загромождается преувеличенной риторикой, и почти не затрогиваются ни внутренние факты общественного возбуждения, ни оборотная сторона событий. Грибоедову предмет представился именно с народно-общественной стороны..." Изложив план драмы, А. Н. Пыпин заключает: "Очевидно, в этом печальном выводе (что "вся поэзия подвигов исчезает" и начинаются "прежние мерзости") – основная мысль драмы, ничего подобного мы не находим в современной Грибоедову литературе" (История русской литературы, т. IV. 1899, с. 306- 307).
Кажется, мы не ошибемся, если из приведенных данных сделаем такой вывод-догадку: если бы Грибоедов дожил до 40-х годов, он, может быть, и в самом деле примкнул к славянофильскому течению, но только едва ли он разделял бы "правоверную" доктрину и философию истории, выработанную Киреевским, Хомяковым, К. Аксаковым, и, уж наверно, очутился бы в "крайней левой" славянофильства, которая в 60-х годах сближалась с радикальным западничеством.
Черты народничества, характеризующие взгляды и симпатии Грибоедова, дополняются еще следующими свидетельствами, которые привожу из книги Пыпина. "Грибоедов любил простой народ,– рассказывает один из его друзей,– и находил особое удовольствие в обществе образованных молодых людей, не испорченных еще искательством и светскими приличиями. Любил он и ходить в церковь. "Любезный друг,– говорил он,-- только в храмах божиих собираются русские люди, думают и молятся по-русски. В русской церкви я в отечестве, в России! Меня приводит в умиление мысль, что те же молитвы читаны были при Владимире, Дмитрии Донском, Мономахе, Ярославе, в Киеве, Новгороде, Москве; что то же пение одушевляло набожные души. Мы – русские только в церкви, а я хочу быть русским..." Говорят дальше, что Грибоедов "уважал и иностранцев, особенно посвятивших себя служению России"; наконец, что он "любил более всего славянские поколения и считал их единою семьею" (А. Н. Пыпин. История русской литературы, IV, 309).
Если эти указания позволяют сближать настроение Грибоедова с позднейшими славянофильскими и народническими течениями, если здесь есть намеки на панславизм, то еще теснее этою стороною примыкает Грибоедов к передовому идейному движению своего времени. Дело в том, что и культ прошлого вместе с постоянным обращением к истории, и народолюбие, и патриотический национализм, и даже панславистические стремления, и, наконец, искренняя религиозность – все это в значительной степени было свойственно деятелям 10-х и 20-х годов, в особенности декабристам, на что указывает и А. Н. Пыпин и что подтверждается и новейшими исследованиями. Вот что говорит П. Е. Щеголев в своей интересной статье о Владимире Раевском: "У Раевского была одна общая черта со многими декабристами, в особенности с декабристами-писателями,– своеобразный патриотизм. Возвысившись до идеального представления о высокой цели жизни и благе родины, посвятив свою деятельность самоотверженной любви к своим соотечественникам,– и Раевский, и многие другие не могли освободиться от чувства национальной исключительности и нетерпимости. Раевский питал, например, ненависть к немцам; одним из мотивов возникновения в нем оппозиционного настроения было "восстановление" всегда враждебной нам Польши. Наряду с этой нетерпимостью необходимо отметить стремление к национальной самобытности; борьбой за самобытное, национальное содержание определяется значение литературной деятельности декабристов" (Вестник Европы, 1903, июнь, с. 537) {Есть отдельное издание18.}17.
Насколько можно судить по отрывочным данным, приведенным выше, Грибоедов выгодно отличался от многих сверстников тем, что не был узким националистом и что его патриотизм совмещался с уважением к западной цивилизации. В этом отношении он, думается мне, стоял гораздо ближе, например, к Н. И. Тургеневу, чем к Владимиру Раевскому и другим. От декабристов же в тесном смысле он отличался не столько общими понятиями и настроением, сколько тем, что не был, как говорит А. Н. Пыпин, "политическим мечтателем" и скептически относился к планам политического переворота, выразившись однажды, что "сто человек прапорщиков хотят изменить весь государственный быт России" (А. Н. Пыпин. История русской литературы, IV, с. 327) {Новейшие данные об отношениях Грибоедова к декабристам приведены в брошюре г. Щеголева "Грибоедов и декабристы" (СПб., 1904)19. Обстоятельное рассмотрение этого вопроса, на основании всех имеющихся данных, читатель найдет в биографии Грибоедова, написанной Н. К. Пиксановым (в 7 выпуске Академической библиотеки Русских писателей.– Полн. собр. соч. А. С. Грибоедова, т. I. СПб., 1911).}.– По-видимому, по самой натуре своей он, как и Пушкин, совсем не годился для роли агитатора или заговорщика. Может быть, это находилось в некоторой психологической связи с его гением художника-реалиста и также с преобладающим направлением его ума, склонного к разлагающей критике, скептицизму и мизантропии.
4
То немногое, что мы знаем о понятиях, взглядах, стремлениях и натуре Грибоедова, проливает некоторый свет на процесс его художественного творчества.
Типы великой комедии были, кроме Чацкого, продуктом не наблюдения, а эксперимента в искусстве. Фигура и речи Чацкого и вообще все, что знаем мы в Грибоедове – Чацком, указывают нам на те, заранее данные, идеи, чувства и настроения, которые определили характер и всю постановку опыта. В этом смысле Чацкий, сам по себе образ не экспериментальный, являлся необходимым условием или прецедентом опыта, постепенный ход которого представляется мне в следующем виде.
Я указал уже на связь отрицательных типов комедии с соответственными образами обыденного мышления.
Типичные черты – фамусовские, молчалинские, скалозубовские и т. п.-- были достаточно известны в широких кругах и, конечно, схватывались обыденно-художественным мышлением преимущественно людей образованных, стоявших на известном уровне умственного и общественного развития. Если возьмем Чацкого или, так сказать, minimum Чацкого – как обобщение этих людей, то мы скажем, что первоначальные силуэты типов "Горе от ума" были уже даны в обыденно-художественном мышлении Чацких самой действительности.
Эти – живые Чацкие уже умели относиться к живым Фамусовым, Молчалиным, Скалозубам и т. д. отрицательно, смотря на них как на представителей пошлых и темных сторон жизни. И сам Грибоедов, когда впервые созрел в его голове замысел комедии, был только одним из таких Чацких. Иначе говоря, замысел и первые наброски пьесы были продуктом обыденно-художественной мысли Грибоедова, примыкавшей к таковой же мысли многих представителей его круга. Но только эта обыденная мысль у Грибоедова, как гениального таланта, с самого начала должна была отличаться гораздо большей энергией и выразительностью, чем у других, в сознании которых жили или прозябали те же образы. Возможно, что в данном случае имело влияние и то, что замысел впервые созрел в голове Грибоедова тогда, когда он (в 1821 г.) находился в Персии и тосковал по родине, в особенности по близким, по друзьям-единомышленникам и вообще по жизни в образованном кругу. Как бы то ни было, но родные впечатления и воспоминания ожили в его сознании с исключительною яркостью и быстро сгруппировались в ту картину, которая в последующей обработке превратилась в знаменитую комедию. Это первичное проявление замысла и картины в мысли Грибоедова совершилось, как свидетельствует известный рассказ Булгарина, во сне: "Как-то лег он в киоске, в саду, и видел сон, представивший ему любезное отечестве?, со всем, что осталось в нем милого для сердца. Ему снилось, что он в кругу друзей рассказывает о плане комедии, будто им написанной, и даже читает некоторые места из оной. Пробудившись, Грибоедов берет карандаш, бежит в сад и в эту же ночь начертывает план "Горя от ума" и сочиняет несколько сцен первого акта" . Возникновение в голове поэта художественного замысла и появление первых очертаний образов, подготовленных данными обыденного мышления, совершается быстро и как бы автоматично. Поэтому здесь нечего сочинять и выдумывать. Засим, при известном навыке в литературной форме, он так же легко положил их на бумагу. Этим и объясняется быстрота работы и плодовитость тех беллетристов, которые предъявляют публике плоды своего обыденного, а не своего высшего художественного мышления. Грибоедов, как все великие поэты, не хотел обнародовать плоды своего обыденного мышления,– он подверг их переработке силами высшего творчества. Известно, как долго и тщательно переделывал он свое произведение. Нельзя сомневаться в том, что при этом он в полной мере испытал те "муки творчества", которые вытекают из необходимости считаться с литературными формами, со вкусом публики, с готовым шаблоном литературного мастерства. Испытал он, очевидно, и те высшего порядка "муки", которые обусловливаются столкновением высшего художественного творчества с обыденным. На все это намекает следующий отрывок: "...первое начертание этой сценической поэмы, как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь в суетном наряде, в который я принужден был облечь его. Ребяческое удовольствие слышать стихи мои в театре, желание им успеха заставили меня портить мое создание, сколько можно было. Такова судьба всякому, кто пишет для сцены: Расин и Шекспир подвергались той же участи,– так мне ли роптать? – В превосходном стихотворении многое должно угадывать; не вполне выраженные мысли и чувства тем более действуют на душу читателя, что в ней, в сокровенной глубине ее, скрываются те струны, которых автор едва коснулся, нередко одним намеком,-- но его поняли, все уже внятно, и ясно, и сильно. Для того с обеих сторон требуется: с одной – дар, искусство; с другой – восприимчивость, внимание. Но как же требовать его от толпы народа, более занятого собственною личностью, нежели автором и его произведением? Притом сколько привычек и условий, нимало не связанных с эстетическою частью творения,– однако надобно с ними сообразоваться. Суетное желание рукоплескать, не всегда кстати, декламатору, а не стихотворцу; удары смычка после каждых трех-четырех сот стихов, необходимость побегать по коридорам, душу отвести в поучительных разговорах о дожде и снеге,– и все движутся, входят и выходят, и встают, и садятся. Все таковы, и я сам таков, и вот что называется публикой!.." (Полн. собр. соч., I, с. 83)21.
Этот черновой набросок, относящийся ко времени после 1823 года, когда комедия была уже написана, представляет собою любопытный документ, заслуживающий более внимательного рассмотрения.
Какое чувство продиктовало эти строки? Кажется, мы не ошибемся, если скажем, что это были те "муки слова" и "муки творчества", которые всегда возникают у больших поэтов, когда им приходится вгонять создающиеся образы и идеи в рамки литературных форм. В данном случае эти рамки были гораздо уже и стеснительнее, чем, например, те, с которыми имел дело Пушкин, когда писал "Евгения Онегина". Грибоедову приходилось считаться не только с общими требованиями литературной формы, но и специально с условиями сцены. Это не то, что та "даль свободного романа", которую Пушкин "сквозь магический кристалл еще не ясно различал"22, когда писал первую главу "Онегина". Эта "даль" позволяла замыслу расширяться и углубляться. Грибоедову, напротив, нужно было "урезать" замысел, чтобы из него могла выйти пьеса, которую можно было бы ставить на сцене. Он говорит в отрывке о "ребяческом удовольствии" слышать свои стихи в театре, о погоне за успехом, что заставило его "портить" свое "создание, сколько можно было".
В чем состояла эта порча, мы в точности не знаем, не имея первоначального текста, не зная тех переделок, каким он подвергался. Сохранились только отрывочные указания в письме к Бегичеву (август 1824 г.), где читаем: "...не могу в эту минуту оторваться от побрякушек авторского самолюбия. Надеюсь, жду, урезываю, меняю дело на вздор, так что во многих местах моей драматической картины яркие краски совсем... (стерлись?), сержусь и восстановляю стертое, так что, кажется, работе конца не будет..." (Полн. собр. соч., I, с. 185--186)23. Здесь, по-видимому, имеются в виду, между прочим, и те перемены, которые делались ради цензуры, чтобы сделать возможною постановку пьесы на сцену. Любопытно выражение "драматическая картина", как в вышеприведенном отрывке – "сценическая поэма". Эти определения намекают на то, что, по художественному замыслу, "Горе от ума" не укладывалось в шаблон театральной пьесы, комедии, хорошо знакомый Грибоедову, записному театралу, уже пробовавшему свои силы в этом роде литературного сочинительства. Казалось бы, это дело ему, искушенному в сочинении пьес, не должно было бы представлять больших трудностей. Но, видно, "начертание" "сценической поэмы", как оно "родилось" в его голове, не умещалось в законный шаблон. "Великолепное" и "высшего значения" "начертание", как нетрудно догадаться, было не что иное, как та глубокая жизненная трагедия "мильона терзаний", которую разъяснил Гончаров в своей статье о "Горе от ума". Трагедия вытекала из столкновений идей и настроения Чацкого, представителя лучших людей 20-х годов, с обществом Фамусовых, Молчалиных, Скалозубов и прочих, являвшихся оплотом общественной реакции. Это требовало широких рамок бытового романа и плохо ладило с условиями сцены, где нужно действие, занимательная интрига, живость разговора и где поэтому нельзя говорить прямо от себя. "Даль свободного романа", очевидно, манила и Грибоедова, но он сам сознается, что его соблазнило "ребяческое удовольствие слышать свои стихи на сцене". Нам думается, что это искушение было естественным последствием того, что Грибоедов, по художественному призванию своему, был преимущественно поэт драматический. Недаром он так увлекался сценой. Сделать из замысла "мильона терзаний" Чацкого, во что бы то ни стало, произведение драматическое, вполне приспособленное к постановке на сцене,– это была задача, внушенная ему самим его гением. Но при трудности ее исполнения, при необходимости пожертвовать в угоду ей многим, что казалось ему существенным в "начертании" "поэмы", его настойчивость являлась ему самому в свете суетной жажды театральных успехов. В том же письме он называет это "гвоздем", "который он вбил себе в голову", и "мелочной задачей, вовсе не сообразной с ненасытностью души, с пламенной страстью к новым вымыслам"... Здесь же любопытны и следующие строки: "...на дороге пришло мне в голову приделать новую развязку; я ее вставил между сценою Чацкого, когда он увидал свою негодяйку, со свечою над лестницею, и перед тем, как ему обличить ее; живая, быстрая вещь, стихи искрами посыпались в самый день моего приезда, и в этом виде читал ее Крылову, Жандру, Хмельницкому, Шаховскому, Гречу и Булгарину, Колосовой, Каратыгину, дай счесть – 8 чтений, нет, обчелся – двенадцать; третьего дня обед был у Столыпина, и опять чтение, и еще слово дал на три в разных закоулках. Грому, шуму, восхищению, любопытству – конца нет. Шаховской решительно признает себя побежденным (на этот раз). Замечанием Виельгорского и я тоже воспользовался. Но, наконец, мне так надоело все одно и то же, что во многих местах импровизирую,– да это несколько раз случилось, потом я сам себя ловил, но другие не домекались"24.
Эти чтения, как видно, были весьма нужны Грибоедову. Успех ободрял его и показывал, что он блистательно справился с трудною задачею – приладить свой замысел и свое вдохновение к данной литературной и сценической форме. Все существенное в них было сохранено, и, несмотря на то, вышла живая, бойкая пьеса, где есть все, что полагается,– и завязка, и развязка, и интрига, и действие. Не беда, что горничная Лиза оказалась похожею больше на французских субреток, чем на московских крепостных служанок. Это – лицо второстепенное, а, помимо того, в добрые старые времена "смешения французского с нижегородским" такой "тип" мог намечаться и в самой действительности. Не беда и то, что Чацкий напоминает мольеровского Альцеста и что в тесных рамках сценического произведения основная идея Грибоедова казалась многим (в том числе, например, Белинскому) "сбивчивой" и "неясною"25. В свое время, вместе с поступательным ходом идей и развитием самой общественности, она выяснится. Окажется, что Чацкий – широкое художественное обобщение, распространившееся на последующие поколения, и что трагедия "мильона терзаний" – глубоко жизненна и психологически правдива и знаменательна. Здесь уместно вспомнить прекрасные слова А. Н. Пыпина: "Время Чацких – не только в широком отвлеченном, но и в более тесном смысле – далеко не прошло... Довольно оглянуться на ежедневные факты нашей общественной жизни, чтобы видеть, как много материала нашел бы новейший Чацкий для "раздражительных моментов"... Смысл произведения Грибоедова для нашего времени заключается вовсе не в какой-нибудь специальной славянофильской или "настоящей русской" общественной теории, а, как верно заметил Гончаров, в тоне, настроении его речей, в этом искании исхода из окружающего мрака к свету и свободе, в чем бы ни был этот мрак и этот исход для лучших людей данной эпохи" (История русской литературы, IV, с. 330).
Таково значение и таков – доселе живой – итог художественного эксперимента, столь широко и правильно поставленного и проведенного Грибоедовым в 20-х годах истекшего столетия.
Поэт достиг столь блестящих результатов благодаря тому, что в борьбе с формою, в своих муках творчества, сумел дать перевес творческой работе над литературным сочинительством. Он сам сознавал это, когда, в ответ на упрек Катенина, что в пьесе "дарования больше, чем искусства", он писал: "Самая лестная похвала, которую ты мог мне сказать, не знаю, стою ли ее? Искусство в том только и состоит, чтобы подделываться под дарование, а в ком более вытвержденного, приобретенного потом и сидением искусства угождать теоретикам, то есть делать глупости, в ком, говорю я, более способности удовлетворять школьным требованиям, условиям, привычкам, бабушкиным преданиям, нежели собственной творческой силы, тот, если художник, разбей свою палитру и кисть, резец или перо свое брось за окошко; знаю, что всякое ремесло имеет свои хитрости; но чем их менее, тем спорее дело, и не лучше ли вовсе без хитростей... Я как живу, так и пишу свободно и свободно" (Полн. собр. соч., I, 107)26.
5
Работа Грибоедова над "Горе от ума" совпала по времени с работой Пушкина над "Евгением Онегиным".
Это знаменательно – и представляется в высокой степени характерным для той эпохи. Как известно, она была отмечена быстро надвигавшеюся реакцией и – параллельно – быстро растущим возрождением общественной мысли и совести. В сознании многих представителей новых стремлений вырисовывались – параллельно – с одной стороны, типы и картины, изображавшие общественный оплот реакции, а с другой – протест озлобленных, желчных Чацких и разочарованных, скучающих Онегиных. Эти картины и образы и связанные с ними настроения, чувства, думы были принадлежностью коллективной художественной и общественной мысли целого поколения. Два великих поэта явились их выразителями. Они делали это общее достояние предметом высшего творчества.
Чацкий предупредил Онегина. Его речи отзвучали, и он бежал "искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок", прежде чем Онегин успел вполне сложиться и – разочароваться.
"Горе от ума" с центральною фигурою Чацкого было первым по времени великим созданием нашего реального искусства в XIX веке, первым выражением общественного самосознания в поэзии.
Нам предстоит теперь проследить, как влияло это могучее выражение на обыденную и на критическую мысль той эпохи и последующих, – пока, по почину Гончарова, не установился тот взгляд на мысль и значение комедии Грибоедова, в котором и кристаллизовался последний итог ее воздействия на нашу мысль и совесть.
Примечания
1 Альцест – герой пьесы Мольера "Мизантроп" (1666).
2 Грибоедов А. С. Соч. М., Гослитиздат, 1953, с. 527 (далее по этому изданию).
3 Гончаров И. А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8. М., Художественная литература, 1980, с. 19 (далее по этому изданию).
4 Из письма А. А. Бестужеву, конец января 1825 г.– Пушкин, т. X, с. 97.
5 Гончаров, т. 8, с. 21, 22.
6 Из письма А. А. Бестужеву, конец января 1825 г.– Пушкин, т. X, с. 96.
7 Из письма П. А. Катенину, первая половина января – 14 февраля 1825 г.– Грибоедов, с. 527.
8 Из письма А. А. Бестужеву, конец января 1825 г.– Пушкин, т. X, с. 97.
9 Русский поэт, мыслитель, профессор греческой философии В. С. Печерин в 1836 г. навсегда покинул Россию, стал политическим эмигрантом, жил в Англии и Ирландии. 23 марта 1837 г. Печерин послал попечителю Московского округа графу С. Г. Строганову в ответ на его требование возвратиться письмо (впервые опубликовано в журнале "Русский архив", 1870, No 11), объясняя, почему он не вернется в Россию. Печерин писал: "Когда я увидел (после нескольких лет учения за границей.– И. М.) эту грубо-животную жизнь, эти униженные существа, этих людей без верований, без Бога, живущих лишь для того, чтобы копить деньги и откармливаться, как животные... я погиб". За границей Печерин поддерживал связь с Герценом и Огаревым.– См.: Гершензон М. Жизнь В. С. Печерина. М., 1910, с. 125-131.
10 Гончаров, т. 8, с. 24.
11 См. "Путешествие в Арзрум" (1835).– Пушкин, т. VI, с. 451.
12 Грибоедов, с. 480.
13 Там же, с. 554.
14 Там же, с. 389.
16 Там же, с. 412, 413.
16 Там же, с. 321-322
17 См.: Щеголев П. Е. Первенцы русской свободы. М.. Со временник, 1987, с. 89.
18 Отдельным изданием работа о Вл. Ф. Раевском выходила дважды: Щеголев П. Е. Первый декабрист Владимир Раевский. Из истории общественных движений в России в первой четверти XIX века. СПб., 1905 и 1907.
19 Щеголев П. Е. Первенцы русской свободы, с. 123-166.
20 Булгарин Ф. В. Воспоминания о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове. СПб., 1830. Об отношениях Грибоедова с Булгариным см.: Грибоедов А. С. Полн. собр. соч. СПб., 1889, с. 394-398.
21 "Заметка по поводу "Горя от ума" (1824–1825).– Грибоедов, с. 382--383.
22 Цитата из "Евгения Онегина", гл. восьмая, строфа L.
23 Ошибочная дата. Из письма С. Н. Бегичеву, июнь, 1824 г.– Грибоедов, с. 514.
24 Там же.
25 Белинский В. Г. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 2. М., Художественная литература, 1977, с. 238 (далее по этому изданию).
26 Из письма П. А. Катенину, первая половина января – 14 февраля 1825 г.– Грибоедов, с. 528.