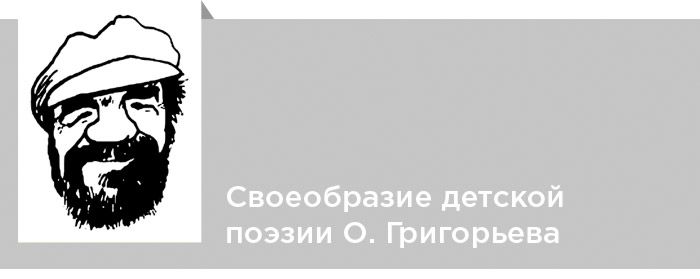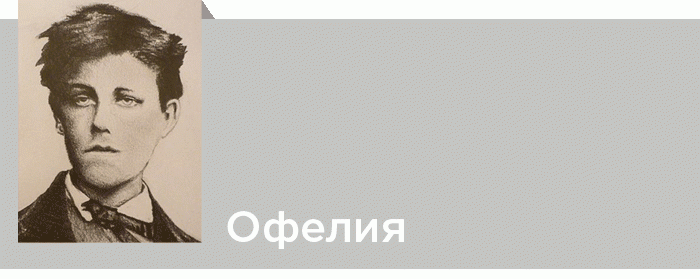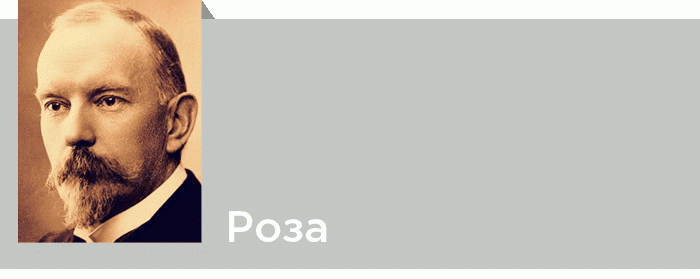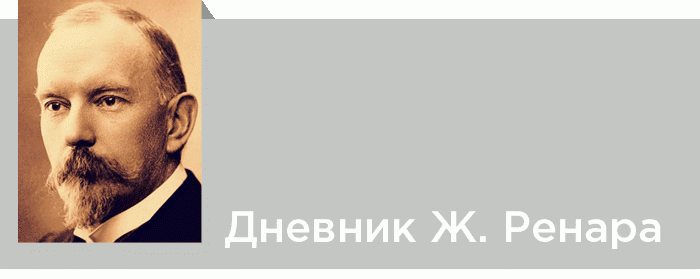«Естественные истории» Жюля Ренара

К. А. Долинин
1
В 1895 году Жюль Ренар записывает в своем дневнике: «Я хочу попытаться вставить в книжку целую деревню — всю целиком, начиная с мэра и кончая свиньей». Сборник «Естественные истории», который вышел первым изданием в следующем, 1896 году, — это как раз о свинье и прочих «братьях наших меньших». А мэром этой самой деревни, которая называется Шитри, станет сам Жюль Ренар.
«Начиная с мэра и кончая свиньей» — это не просто фраза. Свинья — это тоже важно, утверждал Ренар: «О свинье нужно говорить так же, как о цветке». Когда читаешь некоторые дневниковые записи Ренара, поражает его серьезно-уважительное отношение к животным:
«Бюффон описывал животных, чтобы доставить удовольствие людям. Я же хотел бы порадовать самих животных. Мне хотелось бы, чтобы мои «Естественные истории» вызвали улыбку у животных, если бы они могли их прочитать».
Впрочем, сами «Естественные истории» могут вызвать и иную читательскую реакцию. Так, известный литературовед Анри Клуар, процитировав только что приведенную запись из «Дневника», продолжает: «Так давайте же перечитаем их, эти «Естественные истории»... Какая злая издевка, какое безжалостное выпячивание недостатков!.. Писатель отправился на охоту за наблюдениями, за мотивами, убил природу и сделал из нее литературные консервы».
Так любил или не любил животных Жюль Ренар? И к этому ли сводится вопрос? Последуем совету Клуара и перечитаем «Естественные истории».
2
О названии сборника: оно напоминает классический пятнадцатитомный труд Бюффона «Естественная история» («Histoire naturelle générale et particulière»). Отсюда и сравнение с Бюффоном в приведенной выше дневниковой записи. Однако не «Histoire naturelle», a «Histoires naturelles», множественное число вместо единственного, отчего меняется и значение слова histoire: если в «Histoire naturelle» оно фразеологическое (ср. «естествознание»), то во множественном числе histoires значит «истории», т. е. «рассказы» или «анекдоты». Таким образом, уже в самом названии — игра слов, пародийность.
В литературе о Жюле Ренаре существует спор о жанровой принадлежности «Естественных историй». Что представляют собой эти тексты: новеллы? стихотворения в прозе? юмористические зарисовки?
Ниже этот вопрос будет рассмотрен.
Все миниатюры «Естественных историй» можно разделить на две группы в зависимости от их отношения к времени: те, которые отсылают к какому-то определенному моменту существования, т. е. рассказывают случай, событие, произошедшее в определенный, хотя и не фиксируемый момент времени (напр. «
Деление это не сводимо также и к оппозиции динамика/статика: внутренняя динамика может быть присуща и атемпоральным текстам — таким, как «
С точки зрения объема все тексты можно разделить на краткие (d) и развернутые (D). К первым мы будем относить миниатюры, объем которых не превышает четырех фраз; («Le Serpent», «Les Fourmis», «
Возможно еще одно деление, не совпадающее с первыми двумя: по наличию или отсутствию повествователя «в кадре». В таких текстах как «Fermeture de la chasse», «
Поскольку эти три деления располагаются в различных плоскостях, составим таблицу возможных сочетаний дифференциальных признаков; каждое сочетание будет соответствовать определенному типу текстов, выделяемому по трем указанным линиям. Теоретически таких типов должно быть восемь: TDP, TDp, TdP, Tdp, tDP, tDp, tdP, tdp.
Посмотрим, чему же конкретно соответствует каждая из восьми комбинаций.
TDP. Это подавляющее большинство темпоральных текстов — таких как «
TDp. Неличные темпоральные тексты в сборнике есть («Les Lapins», «Le Coq»-I, «
TdP. Это пустая клетка таблицы: если нечто подобное в принципе и можно себе представить, то в «Естественных историях» таких текстов нет.
Tdp. Еще одна пустая клетка.
tDP. Атемпоральные развернутые личные тексты сравнительно немногочисленны, но среди них такие важные и широко известные миниатюры как «Le Cheval» и «Une famille d’arbres», о которых речь пойдет ниже.
tDp. К этому типу относятся не менее знаменитые «Le Paon», «Le Cygne», «
tdP. Третья и последняя пустая клетка: в неразвернутых текстах повествователю было бы слишком тесно в кадре.
tdp. Эта комбинация включает практически все неразвернутые тексты.
Итак, таблица позволяет выделить пять основных типов миниатюр. При этом выясняется, что «чистых» портретов животных не так уж и много: это, во-первых, все (или почти все) неразвернутые тексты, затем — тексты, соответствующие комбинации TDp, и наконец, некоторые миниатюры типа tDP, в которых повествователь присутствует лишь формально (напр. «
3
Рассмотрим несколько текстов разных типов. Начнем с неразвернутых. Все они основаны на словесном образе и чаще всего целиком состоят из метафоры (реже — из сравнения или эпитета):
«Le Corbeau. — L’accent grave sur le sillon»; «
Нельзя сказать, что все они «шедевры на кончике ногтя», как их нередко определяют, цитируя фразу Альфонса Доде (сказанную, кстати, по другому поводу). Так, например, процитированный здесь «Еж» — шутка довольно сомнительного вкуса и вряд ли оригинальная; «Уж» тоже немногим лучше. Вообще некоторые из этих «микроминиатюр» кажутся сегодня не более чем «фразами» из юмористического журнала.
Но есть и микрошедевры. Из приведенных текстов наиболее интересны первый и последний, «Ворона» и «Муравьи». L’accent grave sur le sillon — это неожиданно и точно именно accent grave, а не accent aigu (хотя, казалось бы, разница только в позиции наблюдателя), потому что, как справедливо замечает Леон Гишар, «весомость» слова grave вызывает в представлении не столько орфографический знак, сколько черноту вороны и тоскливость осени». И вороний крик (гра... гра...) И вообще многочисленные эмоциональные коннотации, связанные с вороной (недаром у Лафонтена «Maître Corbeau»!). Accent aigu — это была бы совсем другая птица. Иначе говоря, метафора осложнена поливалентностью слова. Не здесь ли начинается поэзия? Или только намечается?
Еще более неожиданны «Муравьи»: исходное сравнение (Chacune d’elles ressemble au chiffre) развивается в своеобразный математический образ: 333 333 333 333... — это и простое соположение множества муравьев, и чудовищно большое число; абстрактный цифровой код неожиданно становится пиктографией. Любопытно, что и «Ворона» и «Муравьи» — образы «ученые», основанные на письменности, в которых живое существо уподобляется графическому знаку — его внешней форме, плану выражения, но одновременно и плану содержания. Для Ренара это нередкий метафорический ход. Сходная вещь обнаруживается в приведенном выше тексте «Змея»: «Trop long» — почему, с какой точки зрения? Очевидно, с точки зрения эстетической, точнее — литературной (напомним, что краткость была важнейшим художественным принципом Ренара, своего рода навязчивой идеей). При этом значимой оказывается длина самого текста: сама змея — «слишком длинная», а текст «Le Serpent» — самый короткий в сборнике. В целом краткость выступает как важная и отнюдь не только формальная особенность текстов этой группы. Краткость подает образ «крупным планом», подчеркивает неожиданность сопоставления и тем самым придает ему самоцельный, игровой характер. Нет сомнения, что своей репутацией юмориста Ренар обязан прежде всего этим микроминиатюрам.
4
Рассмотрим тип tDp, который отличается от предыдущего только развернутостью. Здесь выделяются две разновидности: тексты, построенные как цельные развернутые образы, т. е. полностью подчиненные какому-то одному основному метафорическому ходу, — напр. «Le Paon», «Le Grillon», «Le Cygne»; тексты, лишенные единого метафорического стержня и сополагающие ряд частных и более или менее равноправных образов, — такие как «
Приведем текст «Сверчка».
Le Grillon
C’est l’heure où, las d’errer, l’insecte nègre revient de promenade et répare avec soin le désordre de son domaine.
D’abord il ratisse ses étroites allées de sable.
Il fait du bran de scie qu’il écarte au seuil de sa retraite.
Il lime la rachine de cette grande herbe propre à le harceler.
Il se repose.
Puis il remonte sa minuscule montre.
A-t-il fini? est-elle cassée? Il se repose encore un peu.
Il rentre chez lui et ferme sa porte.
Longtemps il tourne sa clef dans la serrure délicate.
Et il écoute:
Point d’alarme dehors.
Mais il ne se trouve pas en sûreté.
Et comme par une chaînette dont la poulie grince, il descend jusqu’au fond de la terre.
On n’entend plus rien.
Dans la campagne muette, les peupliers se dressent comme des doigts en l’air et désignent la lune.
Метафорический стержень, вокруг которого строится весь текст (за исключением, может быть, последней фразы), — олицетворение: сверчок уподобен человеческому существу. Это метафорическое олицетворение основано на акустическом образе: стрекотание сверчка истолковывается как ряд человеческих действий, сопровождающихся аналогичным звуком (сверчок чистит граблями дорожки, пилит, заводит часы, поворачивает ключ в замке и т. п.), причем в каждой из этих фраз явственная аллитерация на г: Il lime la racine de cette grande herbe propre à le harceler. Отметим, что каждое из приписываемых сверчку действий не непрерывно, а, так, сказать, дискретно, что дает малый ритм песни сверчка, внутри каждого из ее «куплетов». Чередование же действий дает большой ритм, распределение пауз между «куплетами». Последнее воплощено и в графике: абзац — фраза — действие (перерыв между действиями) — «куплет» (пауза).
Исследователь стиля Ренара Жюль Нарден, говоря о так называемых «ритмических ансамблях» в ренаровской прозе, замечает: «‘Сверчок’ может рассматриваться как образец жанра: первая фраза (абзац) — типичное введение — состоит из двух строк и двух сочиненных предложений; последняя фраза, дающая заключительную картину, состоит из двух строк и двух сочиненных предложений. Между ними развертывается весь рассказ, состоящий из 13 фраз (13 абзацев...)». Действительно, первая и последняя фразы образуют рамку, причем последняя — зрительно воспринимаемая и подчеркнуто статическая картина — делает ощутимой (по контрасту) наступившую тишину и одновременно выводит из метафоры, восстанавливает истинный масштаб.
В целом можно сказать, что этот текст основан на своеобразном перекодировании, точнее, на истолковании плана выражения одного кода (кода сверчка) по правилам другого кода (человеческого), — подобно тому, как Маяковский в «Бане» передавал английскую речь: «Ай шел енот в Индостан... а звери обедали». Естественно, что при такой перекодировке смысл действий реального сверчка не имеет ничего общего со смыслом тех действий, которые ему приписываются в тексте. Если бы сверчок умел читать, он вряд ли улыбнулся бы, читая Ренара.
На том же принципе построены «Павлин» и «Лебедь». Первый реализует, метафорически развертывает словарное переносное значение слова paon и рисует одинокого, бесконечно уверенного в себе красавца, разодетого в свадебный наряд, который в последний раз репетирует свадебную церемонию. Второй, также опираясь на традиционный образ лебедя, интерпретирует птицу как полностью отрешенного от мирских забот эстета, который гоняется даже не за облаками, а за отражением облаков в воде. Но в конце — намеренное разрушение образа, так сказать, разоблачение лебедя:
Il s’épuise à pêcher de vains reflets, et peut-être qu’il mourra, victime de cette illusion, avant d’attraper un seul morceau de nuage.
Mais qu’est-ce que je dis?
Chaque fois qu’il plonge, il fouille du bec la vase nourrissante et ramène un ver.
Et il engraisse comme une oie.
Но ведь это же опять о литературе! С «Лебедем» полезно сопоставить некоторые дневниковые записи Ренара, например, такую: Mais pourquoi Claudel écrit-il d’une façon «Tête d’or», «
Этот «Лебедь» увел нас довольно далеко от зоологического сада, да и от деревни тоже. По сравнению с ним «Курица», «Утки», «Козел» ближе к земле. Здесь мы не находим такой полной «перекодировки»: курица ни на секунду не перестает быть курицей, несмотря на то, что она носит фригийский колпак (Droite sous son bonnet phrygien...) и ходит босиком (On dirait qu’elle marche pieds nus). Текст содержит даже нарочитую антиметафору: C’est une poule commune, modestement parée et qui ne pond jamais d’œufs d’or.
В «Курице» основная художественная нагрузка ложится на синтаксис и графику: как и в «Сверчке», большинство фраз выделено в абзац, и эта прерывность истолковывается читателем как своеобразная пиктограмма, изображающая прерывистые — как в старом фильме — движения курицы.
Аналогичная картина в «Баранах», где длинный (для Ренара), насыщенный глаголами центральный абзац первой половины отрывка передает толкотню и сумятицу проходящего стада:
Elle tient toute la route, ondule d’un fossé à l’autre et déborde, ou tassée, unie, moelleuse, piétine le sol, à petits pas de vieilles femmes. Quand elle se met à courir, les pattes font le bruit des roseaux et criblent la poussière du chemin de nids d’abeilles.
В этом абзаце в то же время обнаруживается толкотня и сумятица не связанных друг с другом образом: ... à petits pas de vieilles femmes, ... le bruit des roseaux, ... nids d’abeiles.
A во второй половине отрывка — неожиданная трансформация реальные бараны превращаются в облака и засыпают: ... autour du soleil las qui défait sa couronne et pique, jusqu’à demain, ses rayons dans leur laine.
Интересно, что в отличие от неразвернутых текстов в миниатюрах этого типа юмор — вовсе не обязательный элемент. «Лебедь» — это скорее литературная сатира, а концовка «Сверчка» звучит даже несколько меланхолически. Дело, видимо, в том, что за каждым из этих текстов стоит ощутимая реальность, а не просто предлог для литературной игры. Вообще надо отметить, что в развернутых текстах, даже полностью основанных на метафорической перекодировке, первый, реальный план никогда не разрушается полностью, никогда не становится только символом. Слово у Ренара всегда сохраняет свою материальность, и даже лебедь в первую очередь все-таки птица, а лишь затем — поэт-декадент. «Я — уроженец центральной Франции; северные туманы, пылкое южное солнце — это не мой удел. Моя цикада называется кузнечик, и этот кузнечик вовсе не символ. И сделан он не из золота. Я хожу ловить его на луг, где он скачет по травинкам. Я обрываю ему ляжки и насаживают его на удочку».
5
Миниатюры типа TDp — сравнительно немногочисленные — построены в общем так же, хотя, поскольку они рассказывают какую-то «историю», нагрузка на чисто стилистические средства оказывается меньше. Они тоже могут быть основаны на скрупулезной фиксации наблюдений с использованием неразвернутых, локальных метафор и средств ритмико-синтаксической образности. Примером последовательно метафорического строения может служить первый из двух «Петухов», где «поведение» деревянного петуха с колокольни толкуется так, как если бы это был настоящий, живой петух; а поскольку, толкуя «изнутри» поведение настоящего петуха, нельзя не впасть в антропоморфизм, то перед читателем, в сущности, двойная метафорическая перекодировка.
А в целом перед нами небольшая новелла или сказка, напоминающая некоторые сказки Андерсена (напр. «Стойкий оловянный солдатик»). Второй путь использован в «Кроликах», которые по строению вообще близки к «Курице», тем более что темпоральность не играет здесь существенной роли.
6
Обратимся теперь к текстам, в которых повествователь непосредственно фигурирует в кадре как действующее лицо, т. е. к типам TDP и tDP. Большинство первых наименее специфично для сборника: такие тексты как «
Основную роль здесь играет рассказываемая «история». Конечно, это не сюжетная проза в полном смысле слова (как, скажем, в рассказах Мопассана), но, так или иначе, чисто стилистические средства в большинстве текстов этого типа отходят на второй план. Не потому ли именно здесь мы находим самые длинные — на несколько страниц тексты из «Естественных историй»? Одно из немногих исключений — «Олень»:
Le Cerf
J’entrai au bois par un bout de l’allée, comme il arrivait par l’autre bout.
Je crus d’abord qu’une personne étrangère s’avançait avec un pot de fleurs.
Puis je distinguai le petit arbre nain, aux branches écartées et sans feuilles.
Enfin le cerf apparut net et nous nous arrêtâmes tous deux.
Je lui dis:
Approche. Ne crains rien. Si j’ai un fusil, c’est par contenance, pour imiter les hommes qui se prennent au sérieux. Je ne m’en sers jamais et je laisse ses cartouches dans leur tiroir.
Le cerf écoutait et flairait mes paroles. Dès que je me tus, il n’hésita point: ses jambes remuèrent comme des tiges qu’un souffle d’air croise et récroise. Il s’enfuit.
Quel dommage! lui criai-je. Je rêvais déjà que nous faisions route ensemble. Moi, je t’offrais, de ma main, les herbes que tu aimes, et toi, d’un pas de promenade, tu portais mon fusil couché sur ta ramure.
По поводу этого текста Леон Гишар пишет: «Он (т. е. Ренар) хотел бы быть чем-то вроде святого Франциска и беседовать с птицами и зверями».9 Действительно, это довольно точное резюме второй половины текста, в частности речи автора, обращенной к оленю. Ей предшествуют четыре абзаца. Первый обобщает, предвосхищая, следующие три, которые соответствуют трем последовательным этапам сближения и узнавания. В каждом из этих последовательно возникающих абзацев-кадров свой образ: 1) незнакомец с горшком цветов; 2) карликовое дерево с растопыренными голыми ветками и, наконец, 3) олень, названный прямым словом (так сказать, нулевая метафора). Первую и вторую метафору можно определить как «ботанические»: животное сопоставляется с растением. Ниже, в предпоследнем абзаце, — опять «растительный» образ: ses jambes remuèrent comme des tiges qu’un souffle d’air croise et décroise. Чаще, в том числе и в творчестве самого Ренара, бывает наоборот: одушевляется неодушевленное. Почему же здесь животное упорно сопоставляете с растением? Видимо, потому и затем, что олень — плоть от плоти леса. А кроме того, растение — дерево или цветок — это и красота, и щедрость, и беззащитность, и высшая естественность (как мы увидим в дальнейшем, эти коннотации постоянно присутствуют в мировосприятии и творчестве Ренара). Таким образом, олень здесь удостоен наивысшего комплимента, на какой способен автор.
Но это еще не все: «францисканский» мотив дружбы со зверем выражен и в синтаксисе, в частности, в симметричном постсроении самой первой фразы: J’entrai au bois par un bout de l’allée, comme il arrivait par l’autre bout. Синтаксический параллелизм очевиден: второе предложение, посвященное животному, построено совершенно так же (даже с полным или синонимическим повтором), как и первое, посвященное человеку. Этим сразу же задается тон равенства между зверем и человеком. И затем в четвертой фразе: ...nous nous arrêtâmes tous deux.
Потом, во второй части, на мгновение как будто устанавливается диалог: Le serf écoutait et flairait mes paroles. Последний образ очень точен: олень не превращается ни в дерево, ни в легендарное животное из «Жития», которое ложится у ног святого старца и лижет ему руки; он остается диким лесным зверем — un frère farouche, как позже Ренар назовет крестьянина. И дальше: Dès que je me tus, il n’hésita point... Il s’enfuit. Это что же, магия слова? То есть опять литературы? И ведь интересно, что автор в своей речи, обращенной к зверю, явно лжет: совсем недалеко от «Оленя» располагается такой и в полном смысле слова кровавый текст как «Куропатки», и читатель не забыл, что автор — охотник отнюдь не только за образами. «Ecrire, c’est presque toujours mentir», — запишет шесть лет спустя Жюль Ренар в «Дневнике».
Итак, францисканская идиллия рушится, дикий брат отверг предложенную дружбу, не поверил автору — точно так же, как не до конца поверят ему, даже избрав своим мэром, его двуногие дикие братья.
В итоге — о чем же текст? О встрече с оленем в лесу? Да, но в то же время и о смирении гордыни, и о предложенной и отвергнутой дружбе, и о силе слова — о жизни и о литературе.
7
Последний тип — tDP — представлен, среди прочих, такими текстами как «Лошадь» и «Семья деревьев». Рассмотрим сначала первый. Для удобства пронумеруем абзацы.
Le Cheval
Il n’est pas beau, mon cheval. Il a trop de nœuds et de salières; il a les côtes plates, une queue de rat et des incisives d’Anglaise. Mais il m’attendrit. Je n’en reviens pas qu’ il reste à mon service et se laisse, sans révolte, tourner et retourner.
Chaque fois que je l’attelle, je m’attends à ce qu’il me dise: non, d’un signe brusque, et détale.
Point. Il baisse et lève sa grose tête comme pour remettre un chapeau d’aplomb, recule avec docilité entre les brancards.
Aussi je ne lui ménage ni l’avoine ni le maïs. Je le brosse jusqu’à ce que le poil brille comme une cerise. Je peigne sa crinière, je tresse sa queue maigre. Je le flatte de la main et de la voix. J’éponge ses yeux, je cire ses pieds.
Est-ce que ça le touche?
On ne sait pas.
Il pète.
C’est surtout quand il me promène en voiture que je l’admire. Je le fouette et il accélère son allure. Je l’arrête et il m’arrête. Je tire la guide à gauche et il oblique à gauche, au lieu d’aller à droite et de me jeter dans le fossé avec des coups de sabots quelque part.
Il me fait peur, il me fait honte et il me fait pitié.
Est-ce qu’il ne va pas bientôt se réveiller de son demi- sommeil, et prenant d’autorité ma place, me réduire à la sienne?
A quoi pense-t-il?
Il péte, péte, péte.
Прежде всего бросается в глаза, что, как и в «Олене», повествователь здесь не менее, если не более важная фигура, чем само животное; строго говоря, текст должен был бы называется не «Лошадь», а «Я и моя лошадь». Элементы «портрета», конечно, есть, в частности, в первом и третьем абзаце, но главное не в них, — поэтому и введены они довольно сдержанно: вначале несколько слов в самом что ни на есть прямом, почти терминологическом значение (nœuds, salières, côtes plates) и три неразвернутых и не связанных друг с другом словесных образа: не претендующий на оригинальность «queue de rat», непритязательное, слегка юмористическое перевернутое сравнение «incisives d’Anglaise» (принято считать, что у англичанок лошадиные зубы, а не наоборот) и, наконец, в третьем абзаце один-единственный на весь текст «ренаровский» образ: Il baisse et lève sa grosse tête comme pour remettre un chapeau d’aplomb.
По простоте, сдержанности слога «Лошадь» предвосхищает поздние вещи Ренара — такие как «Ragotte».
Нет здесь и синтаксического рисунка, который воспроизводил бы динамику изображаемого (как в «Курице» или «Сверчке»), хотя бы потому, что нет действия, нет динамики (во всяком случае, внешней).
Но внутренняя динамика, динамика авторского размышления и чувства есть, и ей-то фактически все и подчинено.
В самом начале текста задается очень личная, разговорная интонация: Il n’est pas beau, mon cheval. Сегментированная фраза и следующие за ней короткие второе и третье предложения с повторяющимися подлежащим и сказуемым имитируют разговорный синтаксис; этому впечатлению немало способствует откровенно фамильярное Je n’en reviens pas que..., которое в первый раз формулирует основную идею или, точнее, основную эмоцию текста: ведь в сущности, речь-то идет именно об этом! Последняя фраза первого абзаца вообще резюмирует весь текст — но в легком, как уже было сказано, несколько фамильярном тоне. И, однако, сама эта позиция автора явно близка той, что выражена в «Олене»: я ничем не лучше лошади, почему она должна мне подчиняться?
Дальше идет развитие, конкретизация.
Легкий, разговорный тон сохраняется — см., например, фамильярный глагол détaler в конце второго абзаца. Интересно отметить, что сама разбивка на абзацы здесь подчинена внутренней, психологической динамике: разрыв между je m’attends à ce qu’il me dise: non, d’un signe brusque et détale и ответом: Point (выделенным, кстати, в отдельное предложение) воспринимается как интонационно-графический знак ожидания и удивления.
Четвертый абзац — нагромождение эмоционально и функционально синонимичных предложений; все вместе и каждое по отдельности они значат одно и то же: я о ней забочусь как могу. Эта серия предложений тоже как будто воспроизводит спонтанный синтаксис (обычный для аффективной речи синонимический многократный повтор); но вместе с тем в ней обнаруживаются элементы строгой, почти стиховой организации: предложения сгруппированы попарно, и внутри каждой пары не только сходно построенные, но и равные по длине (по числу слогов) синтаксические единицы (ср.: J’éponge ses yeux, je cire ses pieds). Особняком стоит только Je le flatte de la main et de la voix —может быть, потому, что в нем речь идет о знаках внимания, обращенных не к телу, а к душе?
А тон всего абзаца уже иной: беспокойный, оправдывающийся.
Затем следует серия из трех коротких абзацев-предложений: вопрос, который резюмирует это беспокойство, неопределенный ответ и, наконец, единственная реакция лошади, ее ответ на все явления внешнего мира, в том числе и на заботы хозяина: «Il pète». Контраст с четвертым абзацем просто кричащий. Контраст между самими денотатами, действиями; контраст чисто количественный: четыре строки, 60 слогов — и двусложная, предельно короткая фраза (тоже абзац!); наконец, контраст стилистический: конечно, никакой возвышенной лексики в четвертом абзаце не было, но едва-едва допустимое в литературе слово, да еще в такой сильной позиции, производит впечатление настоящего взрыва.
И естественно, что читатель начинает искать в нем глубинные, скрытые смысла. Строго говоря, здесь, на этом этапе, поливалентным оно еще не стало, но уже вполне готово принять дополнительные семантические нагрузки. И сама лошадь, несмотря на свой крысиный хвост и зубы как у англичанки, начинает приобретать какие-то, пока еще неопределенные, символические очертания. А ведь она не совершила ничего из ряда вон выходящего — самое обычное и предельно антипоэтическое действие! Кстати, во всем тексте по своей воле она ничего другого и не делает, это ее единственный способ самовыражения.
Начало следующего абзаца как будто чуть-чуть сглаживает впечатление от взрыва: первая фраза по тону напоминает первую фразу всего отрывка (она, кстати, тоже сегментирована). Но сразу же за ней опять начинается нагнетающая эмоцию серия сходно построенных и в общем синонимичных предложений, сгруппированных попарно по такой схеме: я (субъект) + действие, направленное на каузацию другого действия, субъектом которого должна быть лошадь,-!- она (субъект) + действие, на каузацию которого было направлено мое; причем в каждой паре эта структура поддержана более частными синтаксическими соответствиями и даже полными лексическими повторами. Но второе предложение последней пары вдруг сворачивает с наезженного пути, ломает ритм: ...au lieu d’aller à droite et de me jeter dans le fossé avec des coups de sabots quelque part; t. e. фраза делает то самое, чего не делает, но могла бы сделать лошадь.
И после этого, во фразе из трех совершенно одинаково построенных предложений, различающихся между собой лишь значимым элементом аналитического глагола, формулируется, развертывается, наконец, то, что в первом абзаце было несколько небрежно намечено как Je n’en reviens pas qu’il reste à mon service... Формулируется точным, сильным, ответственным словом. Только ли перед лошадью испытывает он эти чувства?
Следующий абзац — вопрос, который переводит конкретный и минутный бунт лошади, только что воображенный автором, в общий социально-философский план. Этот вопрос уже нельзя истолковать в прямом смысле — если только не вспомнить при этом Свифтовских гуингнмов и йэху (но ведь там тоже аллегория!). Словом, это как будто неожиданно возникающий, но на самом деле исподволь подготовленный вопрос о революции — о крестьянской революции. Последнее явно подсказано общим деревенским контекстом «Естественных историй» и зрелого прозаического творчества Ренара: в целом. И кроме того, читатель, знакомый с дневником Ренара, не может не вспомнить, например, такое: «Oh, réveiller tous ces villages qui dorment!» (7 juin, 1896).
И концовка — троекратное (и тем отсылающее к абзацу): Il pète, pète, pète. Такую поливалентность слова трудно анализировать: здесь и равнодушие, и вместе с тем презрение, и неблагодарность; а главное — невозможность взаимопонимания, крах народнических иллюзий. Недаром Ренар был современником Чехова (хотя явно и не читал его).
Так любил или не любил Ренар животных? Да об этом ли речь!
И, наконец, последний текст, на котором мы остановимся.
Une Famille d’Arbres
C’est après avoir traversé une plaine brûlée de soleil que je les rencontre.
Ils ne demeurent pas au bord de la route, à cause de bruit. Ils habitent les champs incultes, sur une source connue des oiseaux seuls.
De loin, ils semblent impénétrables. Dès que j’approche, leurs troncs se desserrent. Ils m’accueillent avec prudence. Je peux me reposer, me refraîchir, mais je devine qu’ils m’observent et se défient.
Ils vivent en famille, les plus âgés au milieu et les petits, ceux dont les premières feuilles viennent de naître, un peu partout, sans jamais s’écarter.
Ils mettent longtemps à mourir, et ils gardent les morts debout jusqu’à la chute en poussière.
Ils se flattent de leurs longues branches, pour s’assurer qu’ils sont tous là, comme les aveugles. Ils gesticulent de colère si le vent s’essouffle à les déraciner. Mais entre eux aucune dispute. Ils ne murmurent que d’accord.
Je sens qu’ils doivent être ma vraie famille. J’oublierai vite l’autre. Ces abres m’adopteront peu à peu, et pour le mériter j’apprends ce qu’il faut savoir:
Je
Je
Et je
Во всех трех прижизненных изданиях «Естественных историй» этот текст — предпоследний первый — «Le Chasseur d’images», а последний — «Fermeture de la chasse», что дает «линию» рамку; т. е. фактически «Une Familles d’Arbres» — последний текст основной части сборника. Мы уже видели, что в «Естественных историях» конечная позиция всегда сильная. Значит, деревья здесь оказались не случайно. Дневниковые записи дают на этот счет обильные и красноречивые свидетельства. Образ дерева возникает тогда, когда Ренар говорит, например, о таких вещах, как собственная жена и дети, или музыка. И еще одна запись: «Если бы мне удалось договориться с Богом, я попросил бы его превратить меня в дерево».
Почему? Обратимся к тексту. Он построен как развернутая метафора, которая задана уже в заглавии и строго выдерживается от начала до конца. Это такая же последовательная метафорическая перекодировка, как, скажем, в «Сверчке»: все черты, все внешние проявления деревьев переводятся на язык человеческих поз, жестов и настроений.
Однако если в «Сверчке» образ метафоры — некий безликий человек (или человечек), отличающийся только педантичной аккуратностью, то семья деревьев — это идеальная семья, воплощение всех добродетелей: деревья живут вдали от шума и суеты (абзац 2), — так как хотел бы и собирался жить сам автор, арендовавший в этом же самом году дом в Шомо, рядом со своей родной деревней Шитри; они живут тесной семьей, все вместе, дети вокруг родителей (абзац 4) —для Ренара, чьи отношения с собственной семьей и в особенности с матерью мало изменились со времен «Рыжика», это должно было быть особенно важно; они хранят верность своим покойникам (абзац 5), не торопятся низвергнуть или предать их на следующий день после похорон — это, видимо, касается в первую очередь нравов литературной среды; они никогда не ссорятся и если негодуют, то сообща (абзац 6). Словом, высшая естественность, высшая мудрость, высшая человечность: деревья настолько очеловечены, что автор — человек! — хочет стать деревом, но не чувствует себя вполне достойным этой чести (абзацы 3, 7, и 10). Интересно, что ни здесь, ни в дневниковых записях, деревья никак не определяются: это не дубы, не березы, не вязы, а просто деревья. Очевидно, дело в том, что дубы или вязы дали бы иные и совершенно излишние коннотации.
Членение на абзацы здесь в основном логико-тематическое; непосредственно авторская, так сказать, лирическая струя возникает в начале (абзацы 1 и 3) и в конце (абзацы 7, 8, 9 и 10); таким образом, описание деревьев заключено в глубоко личную, лирическую рамку.
О концовке я еще скажу несколько слов; сейчас же два замечания об абзацах 3 и 6, передающих динамику (остальная часть текста, в общем, статична). В абзаце 3 это динамика авторского приближения к деревьям; здесь метафоризируется оптический эффект: Dès que j’approche, leurs troncs, se desserrent — как будто это деревья действуют — расступаются, соглашаясь принять чужака. Отметим попутно, что impénétrables в предыдущей фразе несет одновременно два смысла: прямой — «сквозь которые нельзя пройти» — и переносный — «которых нельзя понять». Что же касается абзаца 6, то там сам мелодический рисунок двух первых фраз воспринимается как образ порыва ветра: первая — более слабого, медленного, а вторая — сильного, резкого. Это соответствие синтаксического рисунка смыслу фразы возникает за счет разницы в общей длине каждой из них (первая длиннее, «медленнее») при одинаковом соотношении восходящей и нисходящей частей (нисходящая в полтора раза длиннее); в результате восходящая часть фразы ассоциируется с нарастанием, а нисходящая — с ослаблением ветра. А две заключительные фразы абзаца окрашены непосредственной, личной, как бы спонтанной интонацией автора: здесь «работают» разговорный эллипсис в первой и сам факт членения этого отрезка на два независимых и законченных предложения. Кстати, во втором опять многозначное слово в двух значениях одновременно: murmurer — это и «шуметь» (о дереве, ручье и т.д.) и «роптать» (о человеке).
Последние абзацы, как уже было сказано, — очень личные, авторские. Абзац 7 — это надежда и в то же время обещание. Тут бросается в глаза, в частности, futur simple вместо более обычного в таком контексте conditionnel présent; употребление futur подчеркивает уверенность субъекта речи в том, что эти действия осуществятся.
И концовка: три фразы, три абзаца, три добродетели, которые уже роднят его с деревьями. Первую, видимо, можно интерпретировать как отрешенность от житейской (в том числе и литературной) суеты: смотреть в небо, а не, например, в газету. Вторая, в общем, сводится к тому же и должна рассматриваться в связи с ренаровскими проектами деревенской жизни. Третья же — самая важная (хотя бы потому, что последняя) и не вполне достигнутая — представляет наибольший интерес. Да, конечно, отрешение от житейской суеты предполагает и отказ от суесловия; но может быть, и от литературы?
Выше уже говорилось о навязчивой идее краткости; приводилась также (в связи с «Лебедем») весьма многозначительная фраза из дневника: «Художник должен быть всегда одним и тем же, и за молитвой, и за обедом» (мысль противоположная пушкинскому «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон...»). У Ренара это требование искренности, естественности в литературе — почти болезненная потребность, которая в конце концов привела его к отказу от всякого «фиктивного» элемента, к работе исключительно с натуры. Но так или иначе, «écrire, c’est presque toujours mentir». Сформулированное им ранее требование оказывается невыполнимым: полностью отказаться от лжи значит отказаться от литературы — иного выхода нет.
Таким образом, и эта идиллическая «картинка природы» вводит нас в самую сердцевину тех «проклятых вопросов», которыми Жюль Ренар терзался почти всю свою сознательную жизнь. Конечно, можно сказать, что из текста все это прямо не следует, и если бы не было «Дневника», то вряд ли мы могли бы прийти к подобным выводам. Однако потенциально текст содержит все это, допускает такое толкование.
Некоторые итоги. Пока и поскольку Ренар не выходит за рамки «бестиария», зверинца, его «Естественные истории» не становятся фактом большой литературы. «Сверчок», конечно, написан мастерски, но, в общем, это искусно сделанная безделушка. То же можно сказать обо всех «микроминиатюрах», неразвернутых текстах. Но там, где истинной темой становится человек (в первую очередь, сам автор), литературная игра порой перерастает в настоящую поэзию. Интересно, что лучшие миниатюры сборника обнаруживаются там, где внешние рамки текста, его жанровые признаки ближе всего подходят к лирической поэзии: в типе tDP (а также в некоторых tDp, построенных на метафорической перекодировке, т. е. на выходе из звериной шкуры или птичьих перьев — я имею в виду прежде всего «Лебедя»).
Вообще же вопрос о жанровой принадлежности «Естественных историй», видимо, не решается однозначно: в сборнике есть и стихотворения в прозе, и новеллы, и юмористические «фразы», и очерки и, наконец, гибридные жанры, сочетающие в себе черты двух или нескольких названных.
Еще один, более частный и в то же время более общий, касающийся не только Ренара вывод: на примере синтаксиса «Естественных историй» (включая сюда и графическую организацию) хорошо видно, что изобразительность этой стороны текста всегда заимствованная, вторичная: так, любимый ренаровский «рубленый» синтаксис семантизируется по-разному, в зависимости от общего смысла текста. Собственная семантика этого синтаксиса только в одном: в акцентировании, в придании особого веса оформленному таким образом предложению, абзацу. И это в какой-то степени роднит синтактико-графические единицы прозы Ренара (вообще прозы такого рода) с пространственно-метрическими единицами стиха.
Л-ра: Стилистические проблемы французской литературы. – Ленинград, 1975. – С. 63-81.
Произведения
Критика