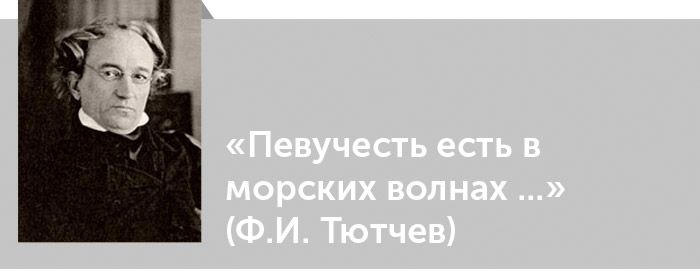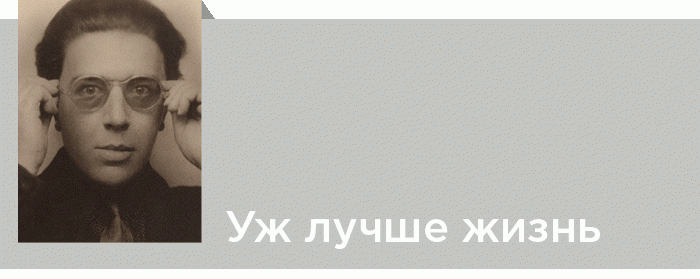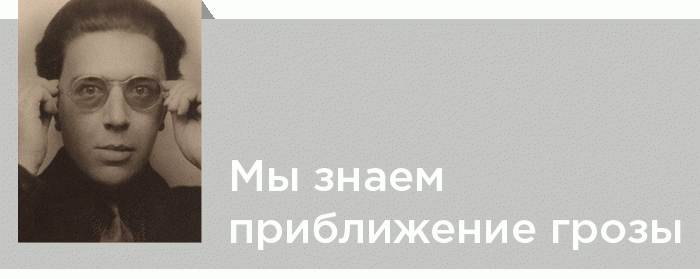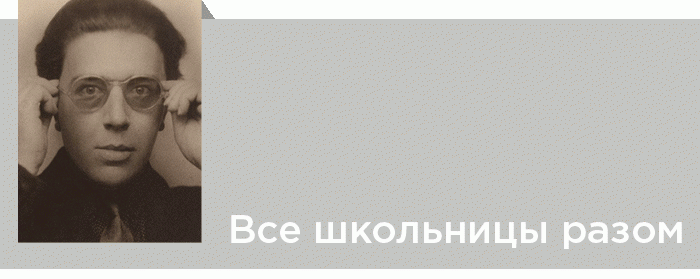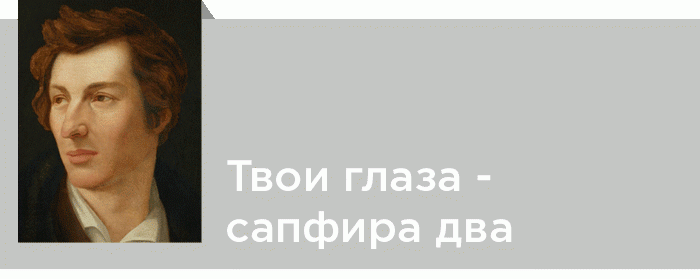Воздаяние справедливости (Поздний Бретон и вклад французского сюрреализма в культуру XX столетия)
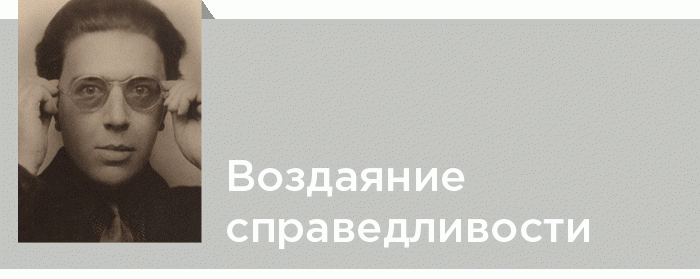
Н. И. Балашов
Имеется в виду не только воздаяние политической справедливости (хотя это также разъясняется). Самым трудным было дать ключ к художественно-общественной (эти понятия рассматривались сюрреалистами неразрывно) системе сюрреалистического письма, ключ, который объяснил бы и полную закрытость сюрреализма для одной части общества, восторженное его приятие другой частью, а также его стойкое и довольно универсальное влияние на поэзию и живопись, особенно на Западе.
Сюрреалисты не удовлетворялись деформацией действительности, обусловленной тем свойственным катастрофическому XX в. усилением выразительности искусств за счет их Изобразительности, которое почувствовали Аполлинер, Пикассо, фовисты, кубисты, немецкие экспрессионисты, Реверди, Де Кирико, Кандинский.
Для сюрреалистов задача была не в деформации в искусстве, а в полном его дисформировании. Надо было идти только от внутреннего, передавать только внутреннее, не дошедшее до обработки со знанием — сны, кошмары, мечты, совершенно нежданные ассоциации — в надежде, что «объективный случай» (термин, сложившийся под влиянием Гегеля и Энгельса) именно так, без тормозов разума откроет, покажет, воплотит будущее, осуществит то, о чем, по представлению сюрреалистов мечтали Фурье, Маркс, Ленин, Фрейд. Знаки, привлекаемые для показа бессознательного и игры «объективного случая», не должны были в сюрреалистическом тексте (все равно — в поэтическом, живописном, скульптурном), не должны были быть изображением чего-нибудь внешнего, а лишь знаками внутреннего.
Можно печалиться, можно радоваться по поводу такого переворота, но он был грандиозным переворотом, открывшим раннему Элюару, раннему Арагону, Рене Шару, Бретону всех лет, художникам Эрнсту, Магритту, Массону и многим другим новые возможности поэтического выражения неизведанного. Сюрреалисты не любили говорить о музыке, ибо их открытия можно было в некоторой степени толковать, как перенесение на все искусства принципа музыки, особенно инструментальной. Но для других искусств это был неизмеримый «écart absolu» («расстык», «разрыв», «разруб») с прошлым.
Чтоб объяснить, что такое сюрреализм и что такое «écart», Бретон строил притчу о Колумбе, ведомом «объективным случаем». Чтобы открыть Восток, Колумб держал курс на запад, он смело перевернул систему координат, ориентированную на Северный полюс, взяв, в противоположность великим португальским мореходам, путь вправо по отношению к Южному полюсу. Колумб открывал путь в Индию, а «объективный случай» привел его к невероятному, к открытию всего Нового Света! Одной «деформации» на это бы не хватило.
Все сказанное демонстрируется в статье, прежде всего, на материале стихов, художественной прозы и статей Бретона второй половины его жизни.
The article is concerned with indebetness of the 20-th century culture to the late French Suurrealism and with the Giving the Due to Breton doing justice not only in political terms (though the latter is also clarified). The most difficult thing was to find the key to the aesthetical and sociological (these notions were regarded by surrealists as indivisible) system of surrealistic writing, the one which would have made clear the impenetrability of Surrealism for one part of the society, its enthusiastic acceptance by the other as well as its continuous and comprehensive influence on the poetry and painting, particularly in the West.
Surrealists were not satisfied by deformation of reality, due to the enhancement of «expressiveness» of the arts, in contrast to their «depictiveness», the enhancement characteristic of the catastrophic 20-th century, that was perceived by Apollinaire, Picasso, the Fauvists, Cubists, German Expressionists, Reverdy, De Chirico, Kandinsky.
The aim of the artists, for surrealists, was not deformation in the realm of art but its complete disintegration. For that it was necessary to move exclusively from within, to reproduce only the inner which had not been operated on by consciousness: dreams, nightmares, reveries, unexpected associations — in the hope that the «hasard objectif» (the term, formed under the influence of Hegel and Engels), precisely in this way, beyond the control of reason, would discover, demonstrate and embody the future, and thus would realize what, according to surrealists, Fourier, Marx, Lenin, Freud dreamed about. The signs used for demonstration of the unconscious and the play of the «hasard objectif» in a surrealistic text (whether poetic, pictorial or sculptural) should by no means be a portrayal of something outward but rather the signs of inner.
One may feel sorry for or rejoice at such a radical change but it was a change that opened new potentials of the poetic expression of the unexplored for Eluard, the young Aragon, René Char, Breton (during all his periods), for such painters as Ernst, Magritte, Masson, and many others. Surrealists did not like to speak about music, for their discoveries could be interpreted, to a certain extent, as a transferring of principles of music, the instrumental, in particular, onto all the other arts. But, for the other arts, this was is complete break, disruption («écart absolu») with the part.
On order to explain what Surrealism and what «écart» are, Breton told a parable about Columbus, led by the «hasard objectif». To discover the East, Columbus sailed to the West, he turned over the existing system of coordinates, oriented towards the Northern pole, and contrary to great Portuguese seafarers, took the course to the right in relation to the Southern pole. Columbus was going to discover the way to India, while «hasard objectif» led him to discovery of all the New World! Deformation alone, without the «écart absolu» would not have sufficed...
All this is illustrated in the article, primarily by Breton’s poetry, prose writings and essays belonging to the latter part of his life.
Пусть наука все еще не может справиться с вопросом, что же существенно непреходящего (или непрешедшего) внес сюрреализм в современную жизнь, особенно на Западе, — уже в том, что такой вопрос «стучится в дверь», содержится залог и зерно ответа.
Влияние сюрреализма неизжито, хотя прошло 70 лет с тех пор, как он громко заявил о себе. А тем временем наступила пора дистанцироваться от давних политических споров: у нас был перейден порог неосведомленности — из-за спецхрановских ограничений, а в свете знакомства с поздними выступлениями и стихами Бретона совсем иным предстал его нравственный облик — нелегкого, но прямого и мужественного человека, не желавшего покориться превратностям судьбы.
Встретив Первую мировую войну в 18 лет, он осознал, что его сверстникам предстоит судьба «потерянного поколения». Груз ответственности давил на него. Отсюда его несговорчивость с единомышленниками и неудачи в поисках всепоглощающей любви (женщины оставляли его). Бретону не везло и как инициатору сюрреализма. Он его «строил» и сам его разрушал, болезненно реагируя на разные несогласия шумными разборками и отлучениями. Из-за этого, несмотря на художественную близость, не становились в ряды сюрреалистов Пьер Реверди, Рене Шар, Пикассо, Пикабиа, Де Кирико. Если для разрыва с Арагоном в 30-е годы у Бретона были веские основания, то несуразно было по мелочному поводу себе на горе оттолкнуть лучшего друга молодости Поля Элюара, талантливейшего поэта сюрреализма, человека нравственно чистого, однако весьма нуждавшегося по своей детскости в любви и дружеской помощи, а не в игуменском окрике.
Бретон, как и многие другие молодые французские бунтари 20-х годов, хотел во что бы то ни стало сразу отказаться от всего старого и включиться в осуществление социальной революции и в создание по-новому свободного человека, полагая, что одно в принципе невозможно без другого. В сюрреализме Бретон видел нечто намного более универсальное, чем новаторское художественное течение. Видел особый авангард, который обгонит не существующее художественное представление о реальности, но саму реальность, поднимет из глубин бессознательного и покажет неведомое будущее. Мало того — поведет к этому неведомому. Сюрреализм не надо понимать как поперечную вертикаль, как «над-реализм», а горизонтально-дугообразно, как рывок вперед, полет по траектории, ведущей за ветхую реальность к грезящейся желаемой реальности будущего. Это напоминает идею Фрейда о доминанте «принципа желания» над «принципом реальности».
У сюрреалистов теории Фрейда, не сразу ими усвоенные, составили часть их кредо, исходившего из объединения импульсов де Сада, Лотреамона, Рембо, Жарри, Жака Ваше с духом 93 года, с диалектикой Гегеля, с учением марксизма. В отличие от Фрейда у Бретона и у других сюрреалистов общественное устремление преобладало (по крайней мере, в теории) над суммой индивидуальных устремлений.
В России первая масштабная попытка преодолеть догматический подход к сложным явлениям французской литературы 20-х-50-х годов была сделана, хоть и под тяжелой редакторской рукой И. И. Анисимова, в IV томе академической «Истории французской литературы», готовившейся на рубеже 50-х и 60-х годов. Новые подходы вырабатывались в главах (по алфавиту) Т. В. Балашовой, Т. И. Бачелис, М. Н. Ваксмахера, С. И. Великовского, И. Н. Голенищева-Кутузова, А. Д. Михайлова, З. М. Потаповой, Н. Я. Рыковой; непосредственно разделы «Дадаизм и сюрреализм», «Поль Элюар», «Пьер Реверди», «Сен-Жон Перс» были написаны автором этой статьи. После выхода тома недогматический или во всяком случае внимательный подход к сюрреализму проявлялся в русской науке у И. Ю. Подгаецкой, И. С. Куликовой, В. П. Большакова, С. И. Великовского, JI. Г. Андреева и др.
К тому же и во Франции долго не приходила пора для серьезного изучения и для научного издания даже Поля Элюара (скончавшегося в
В 50-е годы также нельзя было предвидеть, что Луи Арагон (1897-1982) вернется в последние годы к наполовину постсюрреалистической прозе и поэзии.
Внутреннее родство трех «главных» поэтов сюрреалистического круга — Элюара, Арагона, Бретона — было заслонено в 30-е и более поздние годы политическими обстоятельствами. Как бы нехотя и как ни незаметно для себя, Арагон, а позже и сам Элюар оказались запятнанными терпимостью к сталинизму. Бретон же и после войны вновь будто вписывался в старую не только поэтическую но и политическую линию в сюрреализме. Так, он поддержал своего верного друга Бенжамена Пере (1899-1959), который вызвал конфуз своим памфлетом «Бесчестье поэтов», вышедшим в Мексике в
[…]
Сюрреалисты — молодые, тоже захваченные стихией революционности 20-х годов (вопросы социальной революции, понимаемой как в конечном счете единственный путь), увлеченные марксизмом (суждения классиков марксизма и в те годы, и позже были на острие пера у Бретона), сами вступали в ФКП. Но на деле, сталкиваясь с навязыванием партийного руководства литературой и искусством, сюрреалисты ужасались догматам соцреализма, особенно диким в стране Аполлинера и Реверди, Пикассо, Леже, Матисса, протестовали против требования буквального осуществления доктрины партийности в художественном творчестве, поэтому спорили, бунтовали, получали затрещины, выходили из партии, выступали в печати с открытой критикой как бы изнутри, считая еще до процессов 30-х годов против бывших сподвижников Ленина, что ФКП не стоит на уровне учения марксизма-ленинизма.
В эстетической сфере размежевание с традиционными представлениями XIX в. о воспроизведении жизни в искусстве казалось тоже безнадежным, хотя за этим размежеванием стояла важнейшая для художественной культуры Франции XX в., после аполлинеровски-пикассовского поворота 1908-1913 гг., новация. Разорванность сюрреалистического образа проистекала из неприятия сюрреалистами самого принципа реальности (Realitàtprinzip — по Фрейду). Они отвергали всякое воспроизведение «нементальной реальности», всего того, что не было возникавшим в психике «бессознательно» (за редкими исключениями, где бессознательное тесно смешивалось с сознательным). Хотя Бретон на излете жизни был смущен сомнением: сотворили ли сюрреалисты что-либо подобное досюрреалистическим творениям художников 900-910-х годов — Аполлинера, Пикассо, Де Кирико, Пикабиа, Марселя Дюшана? Из всех перечисленных последний начал в
Ни сам Бретон, ни другие сюрреалисты не сумели сформулировать, что, какое неординарное открытие они сделали. Они действительно, если не создали новое «искусство-жизнь», то внедрили, особенно во Франции, возможность, помимо пути «деформации» реальности в искусстве (что грозило завести в постмодернистические тупики), не путь «деформации», а, если можно так выразиться, путь «дисформирования».
Французский (взятый из латыни) префикс «dis» сильнее, чем префикс «de». «Дисформация» (ср. «дисфункция») — это уже не поиск небывалых, измененных форм, как это было при «деформации», а изничтожение самой мысли о «форме» как о чем-то пусть диалектически связанном, но отличающемся от чего-то, что можно назвать «содержанием». То есть, согласно сюрреалистам, в поэзии, как в философии, содержание и форма одно и то же. Вот это странное, но по-своему великое открытие, предугадывавшееся среди поэтических гениев прошлого наиболее определенно у Рембо, обусловило стойкость влияния сюрреализма. Оно позволяло пробовать близко подойти к «бесформенному» — к бессознательному, прозреваемому в мечте, во сне, в безумии, в детском творчестве. Оно сделало художника по-своему неслыханно свободным, однако расставило новые ловушки. Поэтому такой знаменитый в искусстве деятель, как Сальвадор Дали, во многих своих произведениях был неприемлем: для одних — как слишком близкий к действительности, для других — как художник, который ограничивался сравнительно «малой» деформацией, а не искал полного «дисформирования». Его металлические предметы, например часы, стекающие по ступеням, как слизняки, не удовлетворяли ни тех, ни других. Многие произведения Дали «аморфны», а не «изоморфны», как требовали первые, и не «анаморфны», как этого хотели Бретон и другие сюрреалисты. Половинчатость Дали обеспечила ему успех у состоятельной публики, для которой он был в меру понятен и в меру непонятен. Он стал едва ли не коммерсантом от живописи, что Бретон заклеймил в остроумной анаграмме его имени — Avida Dollars («Жадный до долларов»).
Для сюрреалистов поиски «дисформного» в искусстве (у Рембо — «informe») были тесно связаны с их устремлением к неведомому будущему и к замене казавшегося им бесперспективным «принципа реальности» (какой уж здесь «выход на волю!» и какая уж «молодецкая перспектива!»), принципом обгона существующего и постижимого, принципом желания (как они переосмысляли главный фрейдовский Lustprinzip — «принцип удовольствия»).
Для сюрреалистов «принцип желания», как и слова Рембо — «изменить жизнь» (changer la vie) — отождествлялись с известным тезисом Маркса, и этот принцип оставался для сюрреалистов вдохновляющим. Они не учитывали, что «принцип желания» в изобразительных искусствах (а к музыке сюрреалисты, как это ни странно, были равнодушны) действовал плохо. Он не давал материала для изображения, и приходилось призывать на помощь автоматическое письмо в полусне, когда рассудок не успевал вступить в действие и потребовать определенности. Сюрреалистическая установка на «принцип желания» мучила самих авторов, читателей и зрителей, кроме самых изощренных адептов этой установки или людей, суетливо бросавшихся за модой.
[…]
То, что произошло в ходе Первой мировой войны и последовавших за ней гражданских войн, превысило все ожидания — один Волошин писал, что ждал худшего, да Мандельштам вскоре отыскал образное определение эпохе: «век — волкодав». На таком фоне выцветшая изобразительность салонной литературы и живописи уже с конца XIX в. стала казаться кощунством, розовой ложью, насмешкой над страданиями народов. Необходимость обновления искусства была осознана и в России. Щукин и Морозов (частично с подачи относительно традиционных в собственной живописи Бенуа и Волошина) уже со страстью собирали художников французского авангарда. Изобразительности противостояла хаотически кошмарная, прямая выразительность литературы и искусства, сложившаяся в предвоенные годы в направлениях, в широком смысле, экспрессионистического толка в странах высокого культурного напряжения — во Франции, Германии, России, Австрии, Чехии, Италии, Испании — Каталонии. Здесь она получила в 10-20-е годы неслыханной силы импульс. В России, где хронологически близок был недавний высший расцвет реалистической классики (Толстой скончался через два года после того, как Аполлинер и Пикассо открыли XX век как новую художественную эпоху) волну искусства экспрессионистической направленности в условиях советской идеологии удалось приглушить или подавить к
Крушение старой эстетики во Франции первыми провидели великие предтечи поворота в искусстве — Бодлер и Эдуард Мане. После исступленных порывов Лотреамона и Рембо в водоворот были вовлечены Верлен, Малларме, Жермен Нуво, Альфред Жарри. В пластических искусствах вслед за теперь кажущимися «деликатными» новаторами-импрессионистами явились Роден, Сезанн, Гоген, Ван Гог, примитивист «Таможенник» Руссо, размывшие авторитет «помпьеризма» (так во Франции именуется, прежде всего в живописи, иссякшее в пустом и напыщенном лжеакадемизме мещанское «искусство». От слова «помпье» — буквально «пожарник»; в переносном смысле — герой академического искусства в условной, напыщенной позе и художник, его изображающий; а по ассоциации, может быть, также художник, пытающийся залить водой огонь, спасти тлеющее старье).
После символистов отстоять помпьеризм в серьезной живописи, скульптуре, литературе и остановить волну выразительности во Франции стало невозможно. Дальнейший рывок к авангарду XX в. совершили Аполлинер с Пикассо, Сандрар, Жак Ваше, Матисс и фовисты, кубисты, симультанеисты, а к концу первой мировой войны — дадаисты. «Девятым валом» эстетической бури стал сюрреализм.
Сюрреализм, по свидетельству, подтвержденному Бретоном последних лет жизни в статье-презентации «XI Международной выставки сюрреализма» под заглавием «Générique» («Наши титры» — в том смысле, в каком это слово употребляется в кино), настаивает на «écart absolu» сюрреалистов по отношению к идеологии и культуре старого общества, поднимающего к благосостоянию одну тридцатую часть людей. Слово «écart» нельзя литературно перевести по-русски, сохраняя и смысл и энергию двусложника с ударением на втором слоге. Означает оно циркулярное раздвижение, которое при плохой экономике называли «ножницами»; надо бы — «разрыв», «расстык», «разруб» со смыслом «раздвиг». «Колумб, — пишет Бретон, — чтобы достичь громаду континента Нового света, избрал правило полного расстыка со всеми известными путями и вторгся в девственный Океан... поступим так же, действуя путем полного расстыка. Нет ничего легче: достаточно испробовать механизм полного контраста со всем принятым...». Особенно важен, по Бретону, разрыв со всем рациональным, декартовским, рассудочными... «Никогда поступай в жизни, как другие». Бретон, однако, при его редкой чувствительности к слову, не был Аполлинером, забыл, что Декарт сам порывал со всем устаревшим, а главное, что любимый Бретоном пророческий «объективный случай», через который осуществляется необходимость, «запрограммировал» убийственное единозвучие слов Descartes и d’écart, причем последнее в однокоренных словах приобретает произносимое t (écarter, например): полная аналогия: Descartes и d’écarte...
Чтобы освоить основы сюрреалистического понимания искусства, полезно познакомиться со статьей Бретона
Хорошо разъясняет особую «правоту» сюрреализма бретоновская презентация
Но сюрреалистам, с их пристрастием к коллективному творчеству, надо, чтобы умственные восприятия имели объективное устремление (perception à tendance objective), a не сливались с воспроизведением действительности, раз в них принцип удовольствия (der Lustprinzip) доминирует над принципом реальности. И тут выясняется, что сюрреалисты, идя новаторски путями Фрейда, пришли к старому догегелевскому положению Канта о общезначимости субъективного суждения вкуса...
Когда к 70-м годам — с уходом нескольких поколений — сюрреализм как бы истаял, стало ясным, что он своей идеей «дисформирования» оказал влияние едва ли не на весь стиль жизни, пропитал едва ли не всю авангардную французскую культуру — возникая то в романе Бориса Виана, то в неистовой безответственности Роже Нимье, то в «новом романе» Мишеля Бютора, то в кинематографе Буньюэля, Годара, Рэя, в работах бесчисленных живописцев, графиков, скульпторов, мастеров фотоколлажа и многих поэтов постсюрреалистического периода.
Конец сюрреализма во Франции был отмечен тем, что он стал привычен и не так, как прежде, бросается в глаза, что последние стихи, роман, статьи Бретона вызывают меньший отклик критики, которая преимущественно вращается вокруг произведений 20-х — самого начала 30-х годов. Однако в живописи и графике сюрреализм сумел оттеснить длительное увлечение абстракционизмом, а в поэзии из него в наибольшей степени исходит так называемый постмодернизм, независимо от того, признают или не признают это сами постмодернисты.
В германском ареале подобную стойкость из течений XX в. проявил экспрессионизм, возникший в начале века, когда будущим знаменитым сюрреалистам Франции было от силы 10-15 лет, но в 20-е годы обновленный влиянием сюрреализма.
Влияние сюрреализма было и остается широким также потому, что, основанный на «принципе желания», на стремлении изменить жизнь, он и по замыслу, и по своему объективному развитию не был течением чисто художественным, ни даже идеологическим. Сюрреалисты предполагали охватить и направить к будущему все личное и общественное поведение (le comportement) человека. Поэтому наивны суженные определения, что сюрреализм — это «направление, созданное в
Однако не надо полагать, что во многовековом движении искусства весь период преобладания выразительности, одним из заметнейших явлений которого в XX в. был сюрреализм, останется господствующим навсегда.
Опыт учит, что за трехтысячелетнее или более развитие европейского искусства, при известной устойчивости главенства выразительного начала, например, в таких искусствах, как инструментальная музыка и лирика, или, напротив, изобразительного — в таких, как живопись и эпос, искусство и литература в целом знали несколько переходов (точнее — четыре) от эр господства выразительности к эрам господства изобразительности и наоборот. Так было в Греции VIII-VI вв. до н. э., раньше у Гомера, позже в драме и скульптуре при переходе от архаики к классическому искусству, затем обратно — к упадку изобразительности и господству выразительности в III-XIII вв., в палеохристианском, раннехристианском и романском искусстве. Переходом к новой эре становится готика.
Эта эра, начиная с XIV-XVI вв., в свою очередь проявляется в поздневизантийском и византийского круга земель художественном развитии, а с еще большей определенностью — в Западной Европе в художественной культуре Прованса, Франции, Каталонии, Сицилии и Южной Италии, Пизы, а затем, как ныне говорят, «обвально» — во Флоренции, Сиенне, Риме, Венеции — во всей Италии, потом во Франции, Германии, Испании, Англии, Венгрии, Далмации, Чехии, Польше — в росте изобразительного начала сперва в родственных готике направлениях, а затем в полном его развитии в Ренессансе.
Эра преобладания изобразительности (вторая после греко-римского мира) господствовала до рубежа XIX-XX вв., когда на первое место, третий раз в европейской художественной истории, вновь выдвигается выразительность, чье усиление не всеохватывающе и в разной степени сказалось в разных ареалах и в разных искусствах, а, судя по опыту, тоже не должно быть вечным. Симптомами этого были и абстрактная живопись, и ее неожиданное отступление, а также спорная значительность постмодернизма, который пока не выдвинул своих Рембо, Аполлинеров, Элиотов, Незвалов, Сезаннов, Роденов, Ван Гогов, Гогенов, Пикассо, Кирико, Пикабиа, даже своих Сальвадоров Дали.
Что же касается сюрреализма, то его образ как девятого вала «выразительности» французского XX в. несколько размывается из-за несоответствия поднятого сюрреалистами «шума», блеска их манифестов, заявлений, статей, речей, изречений художественному успеху какого-либо действительно крупного поэтического произведения самого Бретона или его верных соратников. Отошедшие от сюрреализма или неортодкосальные сюрреалисты в художественном отношении оказались значительнее своих недавних или далеких друзей. Вершинными стали многие книги стихов Элюара, чистейшего лирика новой Франции, хотя и покалеченного в последние годы жизни ржавыми и тесными политическими путами. Еще трагичнее в этом отношении была судьба Арагона, но и он, когда он сам, а точнее, когда ему, его поэзии не наступали на горло, создавал замечательные произведения.
Из более далеких в таком контексте надо упомянуть Рене Шара, а из творцов других родов искусства в этом ряду замечателен Буньюэль, Кирико раннего периода, наконец, Пикассо — всех времен. Импозантный и влиятельный в целом французский сюрреализм сам по себе в своем основном русле не дал таких александрийских Фаросов искусства, какие явили романтики, реалисты, символисты XIX в. и первые авангардисты времени Аполлинера. Сами сюрреалисты, хотя в принципе не признавали изображения реального мира в искусстве, не совсем отказывались от непревзойденного в XX в. аполлинеровского авангардистского «поэтического реализма». Иногда под этим же или близким названием уже в сюрреалистические годы «поэтический реализм» возрождался в поэзии и кинематографе Франции. Например, в период сближения поэта Жака Превера, кинорежиссера Марселя Карне, знаменитого актера Жана-Луи Барро и др. в таких фильмах, как «Дети райка» (1945), в прежних фильмах Карне, например в «Набережной туманов» (1936), а за пределами Франции, допустим, в кинематографе Буньюэля, в итальянском неореализме, в поэзии Незвала.
Поздние художественные произведения Бретона, его последний поэтический сборник под гордым заглавием «Знак восхождения» («Signe Ascendant», 1949), лирическая проза, порожденная бурными событиями истории и двумя большими увлечениями в жизни поэта — «Неистовая любовь» («L’amour fou»), 1937, и «Арканум 17», 1944-1947. Во второй из книг непредвиденно звучат такты некоего гимна в прозе подлинно французскому духу и Сопротивлению. Из этого видно, что в главном поэт, несмотря на все его странные игры, хотел быть искренним и порою бывал более искренним, чем два его наиболее прославленных товарища по сюрреализму. Вокруг Бретона мерцает ореол значительного писателя, пусть сюрреализм в целом не мог выполнить грандиозных задач полного переворота в поведении и вкусах людей.
Сюрреализм после второй мировой войны растворился в поэзии разных групп и в еще большей степени преобразил живопись. Можно сказать, что сюрреализм ушел в живопись, где стал вследствие установки на «дисформирование» едва ли не ведущим течением французского, вообще европейского, северо- и южноамериканского модернистического изобразительного искусства. С художниками Максом Эрнстом, Гансом Арпом, Паулем Клее, Марселем Дюшаном, Андре Массоном, Рене Магритом, Ивом Танги, Жоаном Миро, Альберто Джакометти, Сальвадором Дали, Оскаром Домингесом, Валентиной Гюго, Марией Туайен-Черминовой, Полем Дельво, Аршилом Горьким, Роберто Маттой и предшественниками, такими, как Пикассо и кубисты, как Франсис Пикабиа, Марк Шагал, Джорджо Де Кирико, сюрреализм во многом определил лицо полувека в живописи, скульптуре, бытовом декоре на Западе, а отчасти и на Востоке. До сих пор в искусстве, особенно на Западе, не видно другого большого пути, несмотря на множество более или менее близких сюрреализму модуляций. Самые распространенные современные книги о сюрреализме, такие, как «Dictionnaire général du surréalisme et de ses environs», sous la direction d’Adam Biro et de René Passeron (Paris, 1982); Pierre José. «L’Univers surréaliste» (Paris, 1983) — это прежде всего книги об изобразительном искусстве, насыщенные иллюстрациями более, чем анализом сюрреалистической поэзии и эссеистики, и снабженные основательной библиографией.
Под поздним Бретоном в статье условно подразумевается Бретон с 1932 по его кончину в
На поэтическое творчество Бретона не столько повлияла женитьба в
Восприятию поэтичности прозы Бретона препятствует то его сюрреалистическая манера сочетать несочетающиеся крайности, то его привычка выступать как бы «на публику». И все же кажется, что в перечисленных книгах (в них это видно отчетливее, чем в стихах) Бретон искренен и ведет диалог с вечностью, как она ему рисуется, убеждает в необходимости тех больших увлечений, которые помогли ему идти вперед и продолжать творить.
Видимо, нельзя считать вполне «сообщающимися сосудами» ипостась того Бретона-вождя, судейски-гипнотизерский «древнеегипетский фас» которого запечатлел его друг Альберто Джакометти в страшном портрете
Свой идеал изменения жизни сюрреалисты видели в социальной революции, в марксизме и в построении нового общества в СССР даже тогда, когда они решительнее всех публично осудили сталинский террор и сталинскую культурную политику. Увлечение советскими достижениями позволило Бретону сохранять верность Октябрю и в трудные годы разочарований, вплоть до конца
Лихорадочная деятельность Бретона в организации выставок, издания журналов не приводила к забвению поэтического долга. Он издает книгу «Стихотворения» («Poèmes», 1948), куда включает и некоторые прежние сборники, например «Седой револьвер» («Le revolver à cheveux blancs», 1932). Одним из самых выдающихся произведений Бретона была книга его статей и заметок — «Выход на волю» (буквально: «Ключ полей»), 1953, за которой последовало посмертное издание не менее блестящей книги эссе «Молодецкая перспектива» (1970). Среди поздних стихов заслуженно известны поэма «Развернутые маргиналии» («Pleine marge», 1940; затем подпольные издания), поэма «Фата Моргана» (1940, отвергнутая вишистской цензурой, опубликованная вначале в английском переводе в
Цензурой Виши, подобно гитлеровцам очень не расположенной к сюрреализму, была запрещена к изданию помимо поэмы «Фата Моргана» книга Бретона «Антология черного юмора» (1940), или, скорее «Цветник черного юмора», что подразумевало перекличку с Бодлером, после чего Бретон не пытался издавать свои произведения в оккупированной Франции.
В размышлениях о позднесюрреалистичсской деятельности Бретона должны быть упомянуты еще некоторые факты. Бретон активно участвовал в противодействии попытке фашистского путча в Париже 6 февраля
Когда сведения об изничтожении крестьянства и неслыханном в истории размахе репрессий в СССР 30-х годов проникли на Запад, Бретон и близкие ему сюрреалисты не потупили стыдливо очи, как Роллан, Барбюс, Уэллс, Шоу, Драйзер, но открыто выступили в печати против Сталина. Выступления сюрреалистов были тем более значительными, что они шли не от «буржуазии», а изнутри революционного движения, при политической защите сподвижников Ленина от сталинского террора. Слово «stalinien» становится под пером сюрреалистов клеймом, схожим по замыслу со словом «hitlerien». В
Разрыв с практикой и доктринами сталинизма после «московских процессов» 1930-х годов натолкнул Бретона на мысль использовать предложенную ему поездку в Мексику, чтобы увидеться с Троцким, — не из какого-либо особого предпочтения троцкизма и без понимания того, что и Троцкий нес немалую долю ответственности в установлении тоталитаризма, — а потому, что сюрреалисты видели в нем ближайшего сотрудника Ленина. На фоне прокламации в защиту революционного искусства, поддержанной Троцким по просьбе Бретона и знаменитого мексиканского левого художника-монументалиста Диего Риверы, всякий разговор о заслугах сюрреалистов, об их марксизме и революционности стал в СССР невозможен. Иностранные коммунисты тоже больше не осмеливались заикнуться об антифашизме сюрреалистов, об их наиболее шумном на всю Францию осуждении империализма и колониализма, об их истошном богохульном безбожии, о постоянном их обращении к диалектике и к диалектическому материализму. Обо всем этом будто и не слыхивали. Бретона объявили троцкистом, и этим было все сказано.
В 1930-е годы продолжается волна организованных Бретоном сюрреалистических выставок антиколониального, антимещанского, антирационалистического характера. Волна таких выставок, затухая, длится лет 15 и после кончины Бретона.
Параллельно с общественными событиями в
С начала народно-освободительной войны в Испании
Осенью
В 1939-1940 гг. Бретон был мобилизован и вскоре почувствовал ложную, двусмысленную обстановку в армии времен так называемой «странной войны», которая будто понарошку велась с нацистской Германией. После коварного удара фашистов и поражения демобилизованный недалеко от демаркационной линии Бретон спасся от фашистского плена. Поэта приютил марсельский «Комитет американской помощи интеллигентам», который интересовал вишистскую полицию, но наводил на нее страх. В марте
В
Бретон продолжает организовывать множество эфемерных журналов, для позиции которых характерно «оборонительное» заглавие начавшего выходить с
Бретон в
В спектре поэтической образности позднего Бретона появляются новые линии, но не такие четкие, как у Элюара или Арагона 40-х - 50-х годов, а продолжающие темную манеру сюрреалистического письма 20-х — начала 30-х годов. Для понимания их волнующей, но «дисформированной», вывернутой, фрагментарной, «пульверизированной» квазиизобразительности, для понимания хотя бы того, что они могут выразить, нужен ключ к бессознательному у поэта, едва означенный в его сознании и могущий в дальнейшем быть с трудом (и нередко произвольно) реконструированным с помощью комментария, способного порой парализовать удовольствие от чтения. Но все же стихи Бретона времени войны местами бывают несколько яснее. Это относится, например, к некоторым стихотворениям сборника «Генеральные Штаты», датированным: Нью-Йорк,
Да, чернорабочий
Не менее велик в глазах поэта, чем ученый.
Энергию надо лишь выразить в чистом виде,
И все становится ясным.
И следы человека заблестят бахромой кристаллов соли.
Надо, чтобы народ осознал себя всем, и он им станет,
И войдет в систему взаимозависимостей гармонии,
А разнообразие по всей земле цвета кожи и черт Покажет ему, что секрет его могущества В свободном обращении к коренному духу всякой расы.
Прежде всего обратись к расе черной и красной,
Так как долгое время они были унижены больше всех.
И, чтобы близко глаза в глаза посмотрели мужчина и женщина,
Она не должна принимать ярмо, а он — не видеть в этом своей погибели.
Стройка, которая бьется, которая высекает первые искры.
Решение загадки в том, чтобы не думать, ломают или строят.
Есть у Бретона и такие стихотворения в прозе, которые аналогичны не любимой Бретоном абстрактной живописи и состоят из одних «звуковых мазков» — географических наименований — и занимательны только звучностью, а заинтересовать могут редкого читателя, поскольку тот подробно знаком с топонимией того или иного кусочка земли, например, на Мартинике («Карта острова»). Не понятный другим словесный набор расцветет у такого читателя яркими ассоциациями, как у человека зацветает одно только перечисление знакомых старых названий улиц и даже номеров трамвая, которые уже не вернутся в город, или, наоборот, новых, которых, может быть, никогда и не будет.
Иные стихотворения Бретона последнего периода построены как сюрреалистическая живопись, преимущественно на выразительности, и не поддаются декодированию на язык какой-либо определенности, хотя, очевидно, содержат отрицание классической средиземноморской основы идеалов европейской культуры двух с половиной тысячелетий — таково стихотворение, посвященное островам Океании:
Как мир хорош:
Греции никогда не существовало!
Они не пройдут.
Мерой овса моей лошади послужит кратер вулкана.
Кривые пловцы — люди-птички
Пролетели вокруг меня. Так как
Я тоже там,
Засосанный тиной на три четверти,
Высмеивающий этнологов
В благостной ночи юга.
Они не пройдут.
Плоскогорье необъятно,
И те, кто идет сюда, смешны.
Возвышенные образы низверглись.
(«Рано Рараку», 1948)
Когда подобная система письма применяется в поэме, названной «Ода Шарлю Фурье», объемом в 16 убористых страниц, расхождения в толковании неизбежны. Тут деконструктивистом может стать не только Ж. Деррида или Ж.-Ф. Лиотар, но любой ошарашенный читатель. Но ошарашить, это — по-сюрреалистически — очень хорошо.
Положительное обращение к славному утописту в 1940-е годы можно рассматривать и как уход от так называемого «научного» социализма, и как углубление в его истоки, наконец, как попытку возвысить маниакальный хаос XX в. до того высокого хаоса, который просвечивал в трудах страстного мечтателя века прошедшего о всеобщем счастье, основанном на «притяжении по страсти», — чем не сюрреализм, поставивший «принцип желания» в основу как общественного прогресса, так и искусства?
[Быть] Как ты, Фурье,
Высоко поднявшийся среди великих провидцев,
Ты, что был уверен, что покончишь со всякой рутиной и несчастьем,
Или еще, как ты, в бессмертной позе
Извлекающего колючку.
Пусть говорят, что ты был в плену глубоких заблуждений
О возможности решить спор полюбовно.
Пришли другие, действовавшие не одним убеждением,
Выращивавшие барана сокрушения...
Все равно, если у него насилие ютилось близ рогов,
Вдруг в глубине его глаз раскрывалась голубая весна...
В числе последних поэтических произведений Бретона, изданных посмертно в
Анализ некоторых поздних стихов Бретона невольно заставляет чуть иронически вспомнить одну из рассудительных строк его «Оды Шарлю Фурье» — Теперь я даю обратный ход пару поэзии — и перейти к прозаическим книгам-исповедям то ли в любви, то ли в философии.
«Сообщающиеся сосуды» — книга, названная точно: она с каким-то упрямым, будто наигранным вульгарно-материалистическим перегибом трактует вопрос прямой связи снов и реальности близкого к ней времени. С помощью нагромождаемых не всегда кстати цитат из Энгельса и Ленина и собственных выпрямленных рассуждений Бретон упрощает толкование значения снов Фрейдом. Все это далеко не всегда гармонирует с манифестами сюрреализма и с другими произведениями Бретона, в которых бессознательное может выступать не в качестве затерянного сознанием прошлого или как подавленное желание, но в качестве прямого пророчества не мерещившихся, реальных событий, а сюрреалистическое слово наделяется магической силой предварения. В таком плане, например, в книге «Неистовая любовь» трактуется посвященное поэту Пьеру Реверди стихотворение «Подсолнух» («Tournesol»), будто содержавшее прозрение на 10 лет вперед счастливой любви к Жаклине, а самим именем Реверди намекающее на значащую этимологию: «вновь зеленеющий».
Бретон так увлекся в «Сообщающихся сосудах» философствованием, что в его свете бледнеют характерные для него и чарующие в книге «Надя» эскизы блужданий по Парижу, стечения случайного и закономерного во встречах с таинственными незнакомками, контрапункт поиска большого спасительного чувства и встречающихся на пути огорчительных или смешных несообразностей. Хотя «Сообщающиеся сосуды» написаны относительно понятно, книга воспринимается с трудом и скорее как трактат, чем как художественное произведение или запоздалое объяснение в любви к X*** (к Сюзанне Мюзар).
Между тем рассказчик-автор, оставленный своей подругой, которую он (по ее просьбе) не упоминает по имени, «погружался в совершенный и явственный ужас жизни», — «не зная ни как я еще мог жить, ни как я смог бы жить еще. Я никогда так не страдал, и это лишь посредственное описание страдания от ее отсутствия и от одиночества, вызванного ее присутствием там, где меня не было...». Это излияние негармонично направляло героя к публицистике и пропаганде — к тяжеловесным суждениям, что «только коренное общественное изменение, следствием которого станет устранение вместе с капиталистическим производством отношений собственности, свойственных ему, привело бы на уровне действительной жизни к взаимности в любви...». Рассуждение вдобавок завершается цитатой из Энгельса. Бретон, правда, спохватывается и рассказывает о своем отвращении к легкомысленным развлечениям и о презрении к «попыткам вытеснить образ любимого существа образом одного или многих нелюбимых».
Удивительно, что у читателей волосы не вставали дыбом от вытекающего из всего этого философского обобщения, будто «ни в какой другой области закон отрицания отрицания не подтверждается с более поразительной силой...». К счастью, затем Бретон живо рассказывает о неудачных попытках вручить записку-предложение незнакомке, встреченной в кафе; а затем о том, как, прогуливаясь со своей собакой Мельмотом, поэт увидел совсем молоденькую девушку, поразившую его сходством с Далилой на одноименной акварели символистского художника Гюстава Моро. Мельмот вдруг сюрреалистически исчезает, как в сновидении, но топография Парижа представлена с точностью, позволяющей повторить маршрут поэта, а акварель Моро воспроизведена в книге.
Как бы в прямое подтверждение пророческих упований Бретона на «объективный случай» действие происходит вокруг больницы Ларибуазьер, как это не странно — той самой, куда спустя тридцать лет с лишним его, внезапно тяжело заболевшего, привезли и где ему было суждено закончить свои дни.
Девушка с простодушной невинностью не отвергла уличное знакомство, но предложила своему спутнику проводить ее в колбасную лавку, где собиралась купить корнишоны, что сразу позволяет ученому поэту вспомнить писателей-натуралистов и даже Фейербаха, однако, прочитав половину книги, никто больше этому не удивится. Герой ждет решения своей судьбы, а его бесхитростная собеседница, когда корнишоны уже завернуты в бумагу, рассказывает, что она танцовщица и живет с родителями близ площади де ла Шапель, на улице Пажоль, т. е. на окраинной улице, идущей вдоль стен товарной станции за Северным вокзалом (Гар дю Нор). Так сюрреалист ведет читателя в такие закоулки Парижа, куда и реалисты не водили, и представляет трущобы без испуга или увлечения «живописными лохмотьями» и без той героизации, которая проглядывала в картинах Зоны (рабочего пояса) Парижа у Сандрара. Обшарпанный фасад дома, бедный и сомнительный квартал запоминаются спутнику, но нисколько не пугают его, и сквозь бытописательные страницы временами вспыхивает образ поэта, способного возвысить в своей душе неприглядную Дульсинею. Ухаживание за этой Дульсинеей впрямь напоминает мечтания ламанчского рыцаря. Как Дон Кихот после рассказа Санчо о встрече с Дульсинеей, сюрреалист XX в. тоже опомнился, когда понял, что его героине не 20, как ему показалось вначале, а всего 16 лет.
Поэта вновь одолевает склонность рассуждать, и он, походя, дает неплохое, человечное определение сюрреализма, может быть, более ясное, чем в манифестах и листовках 5. Задача сюрреализма «протянуть путеводную нить между слишком уже разделенными мирами бдения и сна, реальности внешней и внутренней, разумности и безумия, спокойного познания и любовной страсти, жизни ради жизни и ради революции и т. д. Во всяком случае сюрреалисты готовы были, может быть плохо, но готовы искать ответ на любой вопрос и достигали какой-то согласованности в ответах. Если предположить, что это было действительно наше поле действия, то стоило ли его забрасывать? Революционер мечтает, как и другие люди, иногда и он занят самим собой, он знает, что из здравомыслящего может стать одержимым, что красивая женщина не менее красива для него, чем для кого-нибудь другого, и он может быть несчастен из-за нее и любить ее...». Впрочем, человеческое лицо поэта вновь суровеет, и поэт догматически сыплет цитатами, но снова возвращается к поискам большой любви, и по страницам скользит женщина по имени Ольга...
Сообщающиеся сосуды распадаются, уступают место привычным после Лотреамона, после Реверди и художников-сюрреалистов мыслям, будто поэтичность рождается от неожиданного сопоставления наиболее несопоставимых предметов (эта мысль отразилась еще в бретоновской «Растворимой рыбе», 1924). Помянув голос Маяковского, Бретон возвращается к рассуждениям о необходимости вымести прочь капиталистический мир и воссоздать любовь заново.
Эстетически собственно сюрреализм в области поэзии с 30-40-х годов продвигался не вперед, а вширь: французская литература не стала сюрреалистической, но манера письма, в которой в той или иной степени не отразилось бы сюрреалистическое «переливание за край» прежних возможностей литературы, больше не воспринималась серьезным читателем-ценителем. Особо важным центром сюрреализма стала не поэзия, а живопись. Но в этой области Бретон, как много он ни сделал для ее утверждения, не мог угнаться за «безумием» ее сюрреалистической наглядности и держался на позициях активной обороны от «угрожавшего» с Востока соцреализма, а из Америки — абстракционизма..В XV радиобеседе на вопрос Андре Парино, какова ситуация в области изобразительных искусств, Бретон отвечал, имея в виду рубеж 40-50-х годов, что здесь строятся всякого рода козни против сюрреализма: «Со стороны одних — задача состояла в том, чтобы, согласно приказам Москвы, покончить раз и навсегда с искусством воображения таким образом, чтобы заменить его живописью и скульптурой так называемого „социалистического реализма“, который ограничивается тем, что ставит некоторые элементарные школьные навыки на службу государственной пропаганде и агитаций. Со стороны других — и здесь речь идет прежде всего об американских интересах — нужно было обесценить изобразительный сюрреализм перед так называемым нефигуративным (абстрактным. — Н. Б.) искусством, которое по мере постоянного повторения делается все менее подлежащим оценке подлинности своей художественности».
Следующая за «Сообщающимися сосудами» книга — «Неистовая любовь», вероятно, после «Нади» самое удачное поэтическое произведение в прозе Бретона. В нем больше живого пафоса и юмора, больше живой жизни. Его наименование высказало то, что с самого начала объединяло и продолжало объединять трех главных поэтов сюрреализма: Бретона с Арагоном и с Элюаром. Мысль об исключительном значении в настоящем и в будущем, в жизненном поведении и в творчестве поэта всепоглощающей любви осталась дорога всем троим.
Философии в книге не так много, как в «Сообщающихся сосудах», может потому, что в основе книги было реально значимое в жизни поэта событие — знакомство с Жаклиной Ламба, вскоре завершившееся браком. В книге причудливо отразились метаморфозы жизненной любовной истории — случай, закономерность, юмор, пророчество, месяцы счастья на Канарских островах, у подножия вздымающегося над самым океаном 3710-метрового вулкана Тейде, приступы меланхолии и отчуждения, посвящение восьмимесячной дочери со страстным пожеланием ей счастья и любви.
Стиль речи напоминает об общем еще для поэтической прозы 20-х годов воздействии «Озарений» Рембо: «Так река бушует, хватает ногтями, обнажается и течет, очарованная гладкими камешками, тенью, травами. Вода радостно безумна от своих завихрений, будто подлинная копна огненных волос. Скользить, как воды, в чистом сверкании — для этого ведь надо утратить ощущение времени. Но как нам укрыться от времени? Кто нам даст возможность профильтровать радость воспоминаний?»
Встречаются, и нередко, тут же рядом и философские сентенции: «Независимо от средств, которых требует переделка мира и тем самым особенно снятие общественных препятствий, быть может небесполезно убедиться, что сама идея единственной любви проистекает из мистической позиции...» и т. п. «В наше время заводить речь об откровении — это жалким образом навлекать на себя обвинение в ретроградности. Я должен здесь уточнить, что никоим образом я не беру это слово (откровение) в его метафизическом смысле, но что только оно кажется мне достаточно сильным, чтобы передать несравненное чувство, которое я испытываю и которое в таком понимании мне дано было испытать. Предельной слабостью современной мысли мне представляется экстравагантная переоценка известного по отношению к тому, что остается познать... Обращусь к свидетельству Гегеля: „Ум никогда так не возбужден стремлением к развитию в присутствии предметов, как тогда, когда в них остается нечто таинственное, еще не открытое».
А через строку стиль меняется: «Молодая женщина, которая вошла, была как бы окутана паром — одета в пламя?».
Начинается знакомство с нею восклицанием поэта: «Здесь, Ундина!» (Ici, l’Ondine!), которое официантка ресторанчика с мюзик-холлом, расположенного близ кладбищенских ворот, понимает как вопрос: «Можно ли здесь пообедать?» — и отвечает: «Да, да, здесь обедают» (Ah, oui, on le fait ici, l’on dine!). Эта игра «объективного случая» и созвучий создает сюрреалистический ключ ко всей книге.
«Ундина» то выступает в мюзик-холле, порою плавая обнаженной в прозрачном бассейне, в качестве Ундины (и не только ради заработка, но из «сюрреалистического» утверждения свободы женщины, что подтвердилось характером фотографий, которыми она украсила квартиру Бретона (ул. Фонтэн, 42) после их свадьбы. То Ундина сидит за столиком и, не поднимая глаз на поэта, строчит изо дня в день какое-то длинное письмо (как потом оказывается, к нему).
«С чувством никогда не удается покончить. Все рационалистические системы однажды окажутся нежизнеспособными в той степени, в какой они стараются свести чувственное до самого минимума или во всяком случае не рассматривать его в его так называемых крайностях. Но именно эти крайности — это то, что в наибольшей степени интересует поэта». «Величайшая надежда», в которой, согласно Бретону, сливаются все другие, это взаимная абсолютная самоотдача, если она станет свойственной всем и для всех будет длиться все время: «Пусть абсолютная самоотдача одного существа другому, которая возможна только при взаимности, — это должно быть ясно всем — будет единственным мостиком, естественным и сверхъестественным, по которому можно пройти по жизни».
После риторического сравнения Полония, искательно перед принцем Гамлетом видящего в облаках то, что тому угодно, с... Леонардо да Винчи, воображение которого, как известно, готово было интерпретировать случайное пятно на стене, и рассуждений о Фрейде по поводу его исследования «Одно детское воспоминание Леонардо да Винчи» Бретон приводит все это к сюрреализму: «техника воображения» «вобрала тут сюрреализм». Это поясняется тем, что «желание — единственная пружина мира, желание — единственная вещь, неукоснительно известная человеку». В чем это желание можно обожествить лучше, чем в формах облаков,— возглашает Бретон и вольно ссылается на «Путешествие» (или «Плавание») Бодлера, где желания истинного странника дважды сопоставляются с игрой облаков, странника,
Чьи думы и мечты имеют очертанья Летучих облаков, кто грезит в тишине О наслаждениях, которым нет названья,
О жизни, полной тайн в неведомой стране
Нет, мы не встретили ландшафтов грандиозней Тех замков сказочных, тех чудных городов,
Что видишь иногда порой заката поздней В причудливой игре нарядных облаков
(Перевод П. Якубовича-Мельшина)
Вспоминая жертвенное приношение огненному кратеру в «Новой Жюстине» маркиза де Сада, Бретон у дымящихся фумарол пика Тейде на Тенерифе восторженно восклицает: «У обрыва пропасти, построенной как философский камень, разверзается сверкающий звездами дворец...». Этим и заканчивается главка о счастье в книге «Неистовая любовь».
А счастье подвинулось на героя с такой силой, как на путешественника или исследователя, — «в момент открытия, с мига, когда перед ранними мореплавателями возникала новая земля, на берег которой они вступают первыми, с мига, когда тот или иной ученый мог увериться, что стал свидетелем дотоле неизвестного явления, с мига, когда начинает вырисовываться значительность его наблюдения...».
Однако лирик либо от смятения чувств, либо подобно опытному драматургу или романисту развлекательного романа применяет ретардацию, задержку развития сюжета. Еще в третьей и четвертой главках речь идет о том, как Бретон и Альберто Джакометти ходили на толкучку и приобрели будто ненужные предметы, но оказавшиеся провиденциальными поэту — для жизненного счастья, художнику — для творческого завершения скульптурного замысла.
Только в конце главки V, заполненной комментарием к собственному, написанному в манере автоматического письма стихотворению
Авторские примечания обнаруживают, что речь идет не о герметичности или иносмысленности стихотворения, но о смысловой незаполненности его матриц. Раннесюрреалистическое стихотворение существует как пустые соты, оживающие и обращающиеся в поэзию лишь постольку, поскольку жив и удачен комментарий, на долю которого собственно и выпадает функция не только оживления, но и порождения поэтического смысла.
Первый, самый простой стих, упрощенно транскрибируемый: La voyageuse marchant sur la pointe des pieds (т. e. «странница, идущая на цыпочках») — комментируется автором сногсшибательно сюрреалистически; возможно ли было в этом стихе (
«Стих „Курящая Собака, куда идут туда и обратно...” (Le chien qui fume...) — это для меня,— поясняет поэт читателю,— характерное название какого-нибудь ресторана в «Чреве Парижа».
«Почтовые голуби, поцелуи помощи...» — здесь уже связь образов переходит в какое-то невозможное будущее время условного наклонения, в ту область «дисформированной и личной мистики», которая могла быть пояснена только авторским комментарием, а иначе осталась бы непонятой навек: «Она узнала обо мне от своего кузена, от которого я когда-то получил письмо с печатью общества любителей голубей». Дальше, чтобы все стало совсем «понятным», приводится перевод поясняющего комментария: «Поцелуи помощи, полностью ассимилирующиеся с почтовыми голубями, они наименее фигурально показывают необходимость, испытываемую мною в действии, в котором, однако, я себе отказываю... Поцелуи помещены здесь также в плане возможности, открываемой их положением между почтовыми голубями (идея благосклонного лица) и грудями, о которых в ходе рассказа я должен был сказать, что они меня напрочь лишали смелости отказаться».
Десять-двенадцать страниц таких «пояснений», окончательно сбивающих читателя, лишают его ориентации в структуре стихотворения, но способствуют вероятной — сознательной или неосознанной — цели Бретона, гипнотически втягивая в манящее очарование загадочного сюрреалистического чтения.
«Любовь, единственная, которая мыслима, плотская любовь, я обожаю, я никогда не переставал обожать твою ядовитую сень, твою убийственную сень. Наступят дни, когда человек признает тебя своим единственным господином и станет почитать тебя даже в таинственных извращениях, которыми ты окружаешь себя». Настроило ли на эту восторженную исповедь Бретона признание власти секса, которой поклонялись и на которой основывали свои произведения многие из окружавших поэта живописцев-сюрреалистов, вроде горемыки-эротомана Ганса Белльмара (1902-1975), с его дразнящими воображение куклами, или просто упоение Ундиной в заколдовывающем зное природы Тенерифа? Но поэт страстно выступает против идеи «христианского греха» и пишет: «Не бывает недозволенного плода. Только искушение божественно». Тут должно напомнить, что Бретон и сюрреалисты от начала до конца были атеистами, готовыми и на равнодушное, и на злое богохульство. Поэтому, если они последовательно сюрреалистичны, в их творчестве прокрадывается ощущение безнадежно пустынного, холодного мироздания. Для Бретона
Бретон в книге «Неистовая любовь» придерживается общей для крупнейших поэтов-сюрреалистов концепции единственной безумной или неистовой любви, стоящей над временем: «Испытывать потребность менять объект своего искушения, заменять его другим, это означает, что ты стоишь на грани того, чтобы стать не достойным любви, уже несомненно не заслуживаешь право на невинность. На невинность — в смысле полного отсутствия виновности. Если на самом деле выбор был свободен, то нет более повода ни по какой причине его оспорить. Вина начинается именно здесь, а не где-нибудь еще. Я отвергаю всякое извинение привычкой, усталостью. Взаимная любовь, такая, какой я ее понимаю, есть такое зеркальное устройство, которое отражает для меня под тысячью углов, возможных для неизведанного, истинный образ той, кого я люблю, все более удивительный под влиянием волшебства моего собственного желания и все более золотящийся жизнью».
В последней главе автор заверяет дочь, что она родилась «вне всякого соприкосновения с той, к несчастью, не стерильно чистой почвой, которую принято именовать ’’человеческими интересами". Вы, — пишет он младенцу,— вышли только из сверканья того, что стало довольно поздно завершением поэзии, которой я посвятил себя с юности и которой служил вопреки всему тому, что не было этой поэзией».
Несюрреалистически продумано композиционное расположение трех последних главок. Пятая говорит о счастье на Тенерифе; VI — о том, как гнетущая обстановка может создать моменты отчуждения влюбленных; VII является посланием в будущее к годовалой дочери Обе, которой поэт желает через 16 лет быть страстно любимой и счастливой.
Наиболее сюжетна глава VI, напоминающая, что уже Гомер изобразил смертного Диомеда, который в яростном преследовании троянца Энея нанес рану богине любви Афродите. В главе рассказывается о полной сюрреалистических предчувствий печальной прогулке влюбленных по берегу близ заклятых мест, где незадолго до этого было совершено взволновавшее прессу убийство. Удаляются порой любящие не то по сюрреалистически ощущаемой фатальности, не то просто потому, что она идет по берегу обутой, а он босиком по кромке волн, и время от времени они далеко расходятся; так нагнетается обстановка. Зловещий рассказ об убийстве мужем богатой калеки-жены в одиноком доме на берегу оттеняется воспроизведением в книге написанной на полвека раньше и по другому поводу картины Сезанна «Дом повешенного»...
Весной
Там и был создан «Арканум 17» — книга
Бретону, как и другим знаменитым французским поэтам той поры, вспоминается идея Рембо и гуманистический стих Аполлинера: «Мы хотим исследовать область добра, бесконечную область, где пока все безмолвно». То перед Бретоном возникают неопределенные картины от некоего счастливого XV в. Венеции и Сиенны, то елизаветинской Англии времен Шекспира, и так — до того нового угла зрения, который был раскрыт российским XX в. Затем возникают призывы покончить с такой культурой, которую насаждают учебники и современное Бретону воспитание. А дальше — то красное видение свалки, на которой выделяется слово SADE, то непогасший факел Коммуны, то противостоящие утилитарному обществу Паскаль, Ницше, Стриндберг, то алые буквы «Интернационала» — «ни Бог, ни царь...», то стройные девушки Ватто, то страшные скалы мысов огибаемого против ветра острова Бонавантюр наводят его на неожиданное упоминание Генделя и Баха, а в конце концов сосредоточивают на поисках истины у любимых поздним Бретоном бескровных социалистов XIX в.— у Шарля Фурье, у Флоры Тристан, у автора книги «Рабочее единство» сен-симониста отца Анфантена. Тема миролюбивого утопического социализма вступает в модернистическую симфонию Бретона как тема мира и безусловной справедливости. Возвращается знакомая по предыдущим книгам поэтическая идея «земного спасения любовью женщины». Женщина может стать между воюющими, чудом остановить войну в условиях, когда банкротство мужчины с грохотом осуществляется в настоящее время.
Все это хорошо, но выглядит несколько отрешенным на фоне борьбы и поэзии Сопротивления в обстановке гибели от немцев 80-летнего патриарха новой французской поэзии Сен-Поля-Ру, выглядит странно среди вдохновлявших французов голосов Элюара, Арагона, Рене Шара, Пьера Эммануэля, даже далекого от фронтовых действий Сен-Жон Перса и поэтов, творивших под непосредственной угрозой пыток и казни.
Правда, Бретон горько жалуется на отсутствие единства, на разделение мысли. Он ставит вопрос о том, что освободившийся Париж
Бретон то отвергает отступление перед жизнью, то поддается ему: «Я закрыл глаза, чтобы всем существом вспомнить свои чаяния подлинной ночи, ночи без пугающей маски, той ночи, которая свыше все регулирует и всех утешает, великой девственной ночи „Гимнов к Ночи”» (Новалиса. — Н. Б.).
С ночью поэзии связан взгляд Бретона на влияние оккультных наук на поэтов, разворачивающийся в монологе к Элизе, героине книги. У Гюго Бретон видит связь со школой французско-провансальского поэта-мистика XVIII-XIX вв. Антуана Фабра д’Оливе, в сонетах Нерваля — опору на пифагорейцев, на Сведенборга; Бодлер, мол, «заведомо заимствует у оккультистов свою теорию “соответствий”», чтобы составить мнение об интересах Рембо, будто достаточно познакомиться со списком книг, которые гениальный подросток читал в библиотеке Шарлевиля, «и так вплоть до Аполлинера, у которого чередуется влияние иудейской Каббалы с влиянием романов артуровского цикла. Пусть не обижаются те, кто умеет наслаждаться только покоем полного прилива и ясностью, но в искусстве иной (сумеречный. — Я. Б.) контакт не прекращался и в ближайшее время не прекратится»: если поэзия не связана с высокой магией, то все остальное — нищета, невыносимая и возмущающая плоскость: рекламные щиты и буриме [15, с. 114]. Вершиной поэзии для Бретона — книги «Арканум 17», взятого с «темной стороны», были слова — напутствие элевсинского жреца тому, кто посвящался в таинство: «Озирис — это черный бог», т. е. Бретон, как Фрейд, как люди XX в., как Матисс времен первой мировой войны, с черной краской его «Пеллерена II» и других вещей этого времени, как русский дионисиец, поэт Вячеслав Иванов, понимал единство антиномичных понятий, скрытое в формуле: воскресающий Озирис и черный бог: неразрывность стихии производительной силы, весны, обновления и мрака смерти.
В то же время бретоновским ходом мыслей формула «Озирис — это черный бог» связывается с размышлением, что освобождение — еще не свобода, связывается с 40-ми годами как со временем, когда из мрака готовилась обновленная жизнь, свобода — с великими годами борьбы и Сопротивления: «Никакая другая эпоха, никогда, действительно, не придавала большую величину, не поднимала так высоко содержание слова Сопротивление».
Если нужно определить позицию, взвесить лирическую искренность Бретона — а они у поэта, как видим, были,— нужно также вспомнить лирико-политическое отступление в «Арканум 17», где Бретон объясняет, хочет оправдать навеянную горьким опытом и пораженческими декларациями левых социал-демократов времен первой мировой войны «антифранцузскую» поэзию сюрреалистов в 20-30-е годы.
Ведь тогда, между войнами, «представление о свободе, которое с блеском и необыкновенным престижем сияло в дни Французской революции, во Франции становилось неузнаваемым, терялось». Во время же антифашистской борьбы за освобождение Родины все представилось Бретону в ином свете. Хотя потом он вновь предостерегал против французского национализма, патриотическое веяние крыл Сопротивления коснулось и его. Он раскрывает позицию далеких лет первой мировой войны как антиимпериалистическую и антивоенную по отношению к империалистическим войнам, но как не исключающую деятельной любви к своей стране и к своему народу.
«Я использую это отступление, чтобы немного пояснить чувства моих друзей и мои собственные по отношению к тому, что является французским. Известный поворот наших прошлых заявлений, которым мы не боялись придать провокационный характер, вел к тому, что нас считали совершенно отмежевавшимися... Конечно, с XIX века французские поэты и писатели — Бодлер, Рембо, Гюисманс — начали саркастически писать о “французском духе” или о том, что навязывалось в качестве такового в их время. Прежде чем продолжать, можно заметить, что вклад этих писателей в культуру французского языка с избытком возмещал тот ущерб, который они могли принести во Франции и за ее пределами упоминавшемуся “французскому духу”, бывшему лишь пеной на этой культуре. ...Крайняя язвительность нападений на “французский дух”, свойственная молодым писателям и достигшая пароксизмального предела между 1920 и
Читатель должен почувствовать, что Бретон «Арканума 17» был в данном случае тоже по-своему поэтом Сопротивления: «Все, что происходит наиболее воодушевляющего и наиболее благородного, — пишет он, сказав о той высоте, на которую поднялось понятие Сопротивление, — воодушевляющего потому, что оно не подчиняется никакой внешней воле, никакому принуждению (àucune contrainte) и не отступает перед готовностью жертвовать жизнью — а только в этом случае можно быть уверенным, что жертва совершается по свободной воле, — это понятие вдохновлено духом сопротивления таким, как он проявляется в оккупированных странах Европы. Все дает право говорить здесь о героизме, восстанавливает всю полноту ценности этому опошленному понятию...». И Бретон говорит о людях в борьбе с оккупантами, умевших умирать, как они умели жить.
Из сказанного нельзя делать слишком однозначные выводы — не поэтичность, а собственно поэзия Сопротивления, эстетически не сюрреалистическая, «ангажированная», казалась Бретону банальностью. В «Пролегоменах к третьему манифесту сюрреализма, или нет» (1942) Бретон предпочитал и в этот год поэзии ту, которая порвала бы «со всеми банальностями, с элюардовской или с другими». В «Беседах» (о сюрреализме) с Андре Парино (1913-1952) Бретон предпослал последней, XVI, радиобеседе свои стихи — «Поэтическое объятие как плотское объятие, /Пока оно длится,/ Возбраняет всякий выход к горестям жизни». Сюрреализм, гордившийся тем, что его нельзя свести к поэтической школе, что он знаменует всеобщее дело, дело во изменение мира, не мог из-за оскомины, набитой идеологичностью литературы XX в., выйти за пределы особого рода замкнутости — за границы опасения выйти как искусство к собственно общественному действию, даже в самые ответственные годы. Однако при этом сюрреалисты старались «во многом способствовать оформлению современного мироощущения (...à modeler la sensibilité moderne)». Эту миссию сюрреализм выполнил, и не только во Франции.
Сюрреализм не проиграл, но и не выиграл бой. Он оставил за собой измененное художественное пространство, притягивающее и отталкивающее, «как мертвый цвет в расцвете», согласно стихам Артюра Рембо об Алмее в переводе Федора Сологуба. Алмея сюрреализма — Бретон достойным образом ушел — «исчез на голубом рассвете» новых направлений французской поэзии, оставив на них неизгладимый след.
Л-ра: Известия АН. Серия литературы и языка. – 1994. – № 6. – С. 3-25.
Произведения
Критика