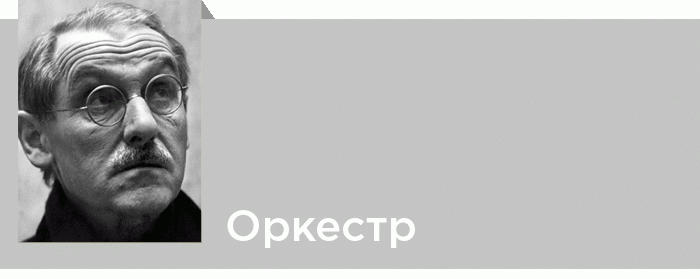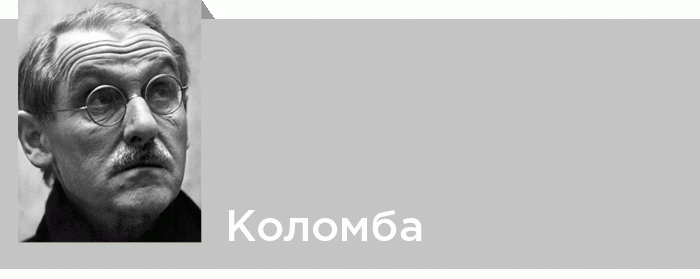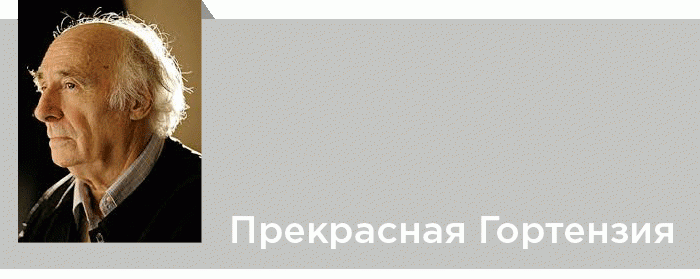Жак Рубо. Похищение Гортензии
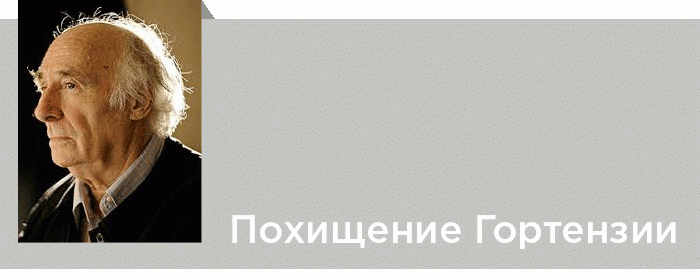
(Отрывок)
Часть первая
Убийство в Святой Гудуле
Глава 1
Тридцать три удара в полночь
Стояла ясная, теплая погода, но дело было не в Бельгии. В тот вечер вокруг церкви Святой Гудулы все дышало покоем. В огороде у Польдевской капеллы улитки мирно жевали салат. Напротив, в «Гудула-баре», последнего пьяницу выставили за дверь, а горшки с цветами — на окна. В булочной Груашана, напротив бокового входа в церковь, дремали в витрине пирожные. В сквере Отцов-Скоромников также царил покой. Песочница была пуста. Во всех шести подъездах дома 53, в домах, выходящих на сквер, в домах на углу Староархивной улицы — ни одного освещенного окна. Светили только звезды и полная весенняя луна, делая посмешище из городских фонарей. Листья фикусов на окнах «Гудула-бара» и листва деревьев в сквере казались черными, описанный песок в песочнице — бело-желтым, усеянное звездами небо — темно-синим. Ни один автомобиль, ни один автобус «Т» (остановка по требованию) не нарушали задумчивой тишины улиц (как, впрочем, и тихой уличной задумчивости). Кругом — ни души, ни даже кошки. В общем, ни одной кошачьей души. Городской шум доносился едва слышно, словно издалека, словно из другого мира: мира тревожного, изменчивого, обманчивого; мира жестокого, свирепого, кровожадного; мира лихорадочного, припадочного, упадочного; мира злобы, нищеты и преступлений; мира пневмонии, эмболии, энтропии; мира зависти, корысти, напасти; ликантропии, пиромании, сизигии, — нужное подчеркнуть… проще говоря, реального мира. То была минута невыразимого умиротворения (которое нам, однако, удалось выразить: что-то, а выражаться мы умеем).
Но не будем слишком увлекаться описанием этой идиллической местности (недолго ей еще такою оставаться) и перенесемся мысленно на угол улицы Отцов-Скоромников и улицы Закавычек: правый угол, если встать спиной к скверу, как мы стоим сейчас.
Что значит «мы»?
Под «мы» я подразумеваю:
а) Вас, дорогой мой Читатель: там есть место только для одного из огромной массы моих дорогих будущих читателей. Извините, что я выбрал лишь одного из вас, но разве вы могли бы все одновременно поместиться на углу улицы Закавычек? Она же такая узенькая! Во времена моей шальной юности (имеется в виду моя юность как Автора, сам я к тому времени уже достиг весьма солидного возраста), когда я делал первые шаги на славном, но нелегком пути романиста, я взвалил на себя обузу — Рассказчика. Это было сделано не оригинальности ради, не из любви к модернизму — поверьте, мне чужды такие пристрастия. Мною руководили щепетильность и скромность. Я хотел сделаться незаметным, скрыться за спинами моих персонажей, чтобы не смущать их, чтобы они чувствовали себя свободными. Пусть события развиваются сами собой, во всей их подлинности. Я всегда рассказываю только о подлинных событиях, потому что ужасно не люблю выдумывать, а врать не умею. Но в моем первом романе случилось вот что: Рассказчик, которому я неосмотрительно позволил говорить от первого лица, как делают все рассказчики, вошел во вкус. Сначала он сказал «я», потом стал говорить «Я», затем «Я, я, я» и наконец «Я!» А мне даже слово вставить не давал. По мере того как роман продвигался к блистательно неожиданному финалу, выяснилось, что это человек невиданной наглости и непомерных претензий. Он то и дело вмешивался и опровергал сказанное мной, утверждая, будто ему лучше знать, что происходит. Он изменял ход событий, чтобы играть в них эффектную роль. И в итоге даже опубликовал собственную версию этой истории, а меня обвинил в ошибках, пропусках, искажении фактов и плагиате! Я решил обойтись без его услуг и избавиться от него как от Рассказчика. Но только как от Рассказчика. На этих страницах вы увидите его в качестве персонажа, и, уверяю вас, он получит по заслугам;
б) Себя. Вот почему в начале этой леденящей душу истории мы стоим на углу улицы Закавычек вдвоем, а не втроем (кстати, как говорят англичане, two is company, three is a crowd: двое — это компания, а трое — это уже толпа).
Итак, перенесемся мысленно на разогретый за день тротуар. Замрем на мгновение, недвижные, невидимые и неслышные в необъятной ночной тишине под весенней луной. Невидимые, молчаливые, но зоркие и объединенные общей целью. (Если «я» — это некто Иной, то это не кто Иной, как ты, Читатель, ближний мой, брат мой.) Перенесемся мысленно на тротуар улицы Закавычек, пройдем по этой узкой улице метров десять, наберем (мысленно) код ПЛ 317. Толкнем тяжелую дверь. Пройдем через двор, проникнем в сад. Остановимся на минуту и посмотрим на маленький трехэтажный домик, стоящий в глубине сада. Здесь проживает с семьей отец Синуль, органист в церкви Святой Гудулы. Но в данный момент семья отсутствует. С началом весенних каникул мадам Синуль уехала к родителям; Арманс и Жюли развлекаются, каждая в своей цветовой гамме. Сын Синуля, Марк, играет на виоле да гамба в Японии. Дома только отец Синуль. Он храпит.
В глубокой ночной тиши в доме Синулей кто-то пошевелился. (Внимание: речь идет не об отце Синуле. Отец Синуль спит и храпит — в отличие от экс-президента Соединенных Штатов Джералда Форда, он может делать эти два дела одновременно.) Тем не менее некто в доме Синулей все же проснулся, потянулся, встряхнулся, поднялся, открыл дверь и вышел в сад. Прогуливаясь по залитому лунным светом саду, некто обнюхал розовые кусты, прошелся взад-вперед, зевнул, пукнул и опять зевнул. В листве липы запел соловей. Патруль из шести муравьев (под командованием пятиногого лейтенанта-инвалида, личный номер 615243) пересек обсаженную гелиотропами дорожку в направлении малинника. Некто (тот, о ком мы говорим) обошел кругом весь сад. Калитка была открыта. На минуту он задумался (в дальнейшем, кроме особо оговоренных случаев, до конца главы некто будет обозначен словом «он»), затем, пожав плечами (как бы желая сказать: «а почему бы и нет, собственно?»), прошел через двор. Дверь на улицу тоже оказалась открытой.
(Но кто же оставил ее открытой, кто так дерзко пренебрег важнейшими правилами поведения в большом городе, не говоря уж об элементарной осторожности? Кто, я вас спрашиваю? Это сделали вы, дорогой Читатель, когда я шел впереди, показывая вам дорогу. И вы же оставили открытой калитку в сад. Это вы, Читатель, совершили поступки, которые привели к ужасным, роковым последствиям, не забывайте, это были вы!)
Перед большой, тяжелой дверью, отделявшей двор от улицы, он снова задумался, на сей раз подольше. Он не ожидал, что дверь будет открыта. Он зашел так далеко, не рассчитывая на это. Улица с ее манящими тайнами была совсем рядом: запахи улицы, сквер, кусты — все это неудержимо влекло его. Но в то же время он боялся. Смешно сказать, но он боялся кота. Не всех котов вообще, а одного-единственного, совершенно конкретного кота. Этот кот был властелином сквера в истории, которая предшествует нашей (вы, конечно, уже заметили, что всякой истории обязательно предшествует какая-нибудь другая история, вот почему истории так трудно рассказывать); а наша история, соответственно, является продолжением предыдущей. Звали кота Александр Владимирович. Правда, грозный Александр Владимирович уже много месяцев как не появлялся в здешних краях. Он исчез после церемонии в честь переименования улицы — когда отрезку улицы Закавычек, огибавшему сквер Отцов-Скоромников, присвоили имя аббата Миня, и новая улица глядела на старую, как воплощенное в асфальте угрызение совести. Он знал, что кот исчез, и все же боялся. Но искушение оказалось сильнее страха. Он вышел на улицу и скоро очутился в сквере: он был один, он был свободен.
В это мгновение зазвонил колокол Святой Гудулы. Он остановился и стал считать на пальцах долгие и величавые удары колокола, которые пронизывали тишину, луну и ночь. В прошлый раз колокол звонил в одиннадцать часов. Он насчитал тогда одиннадцать ударов (он любил и замечательно умел считать удары колокола). А теперь он с легкой дрожью удовольствия (страха он уже не чувствовал) ждал двенадцатого удара, возвещавшего наступление полуночи, чтобы продолжить свою тайную прогулку. Колокол пробил девятый раз (до этого был восьмой, а до него — седьмой, а еще раньше шестой, но я о них не упоминаю, чтобы не растягивать абзац), затем десятый, одиннадцатый. Потом, разумеется, последовал двенадцатый удар и он застыл на месте, охваченный невыразимым ужасом, — раздался тринадцатый полночный удар.
Я написал: раздался тринадцатый полночный удар, и тут же спросил себя: а можно ли называть это полночью? Если двенадцать ударов означают полночь, то что может быть причиной тринадцати? В какой мир перенеслись мы с этим сверхкомплектным ударом колокола? В какое неведомое измерение пространства и времени? Это чрезвычайно серьезные вопросы, и не мне их решать, но поставить их — мой долг перед читателем.
Он застыл на месте, охваченный невыразимым ужасом. Но после тринадцатого удара, прозвучавшего в полночный час вопреки всякому правдоподобию, вопреки всем распространенным обычаям, сразу же раздался четырнадцатый, пятнадцатый. И с каждым новым ударом дьявольского колокола его цепенящий, леденящий, слепящий ужас становился вдвое сильнее. Все новые полночные удары раскалывали тишину, удваивая его ужас. Он машинально продолжал считать удары. Не веря своим ушам, как зачарованный, он считал их на пальцах: пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать… Колокол прозвонил тридцать три раза, потом умолк. Ужас сковал его по рукам и ногам, он словно окаменел. Ведь ужас этот был громаден с самого начала, с тринадцатого удара, а затем удваивался с каждым новым ударом, то есть теперь первоначальную величину ужаса следовало возвести в двадцатую степень. Стало быть, если первоначальный ужас принять за N, то теперь его величина составляла Nʼ, a Nʼ равнялось 2057152 N, если наши расчеты верны.
Мы воспользуемся его временной неподвижностью, чтобы дать очень простое и совершенно естественное объяснение случившемуся: несколько месяцев назад настоятель Святой Гудулы, с негласного разрешения епископа Фюстиже, решил для привлечения туристов нанять настоящих звонарей, виртуозов в своем деле. По рекомендации отца Синуля он выписал из Бургундии двух местных знаменитостей, достигших подлинных высот в несравненном искусстве колокольного звона: Молине Жана и Кретена Гийома. И вот в эту самую ночь, первую ночь нашего романа, Молине Жан и Кретен Гийом захотели выспаться и подарить себе семь часов вполне заслуженного отдыха. Но, как настоящие профессионалы, связанные контрактом, не сочли возможным пропустить ни одного удара. Они отзвонили положенное число ударов без перерыва, в полночь, сразу после обычного двенадцатого. А затем пошли спать. Таким образом, прозвучало 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 12, итого 33 удара.
(Поскольку вам пришлось самому произвести этот несложный расчет, дабы убедиться, что я вас не обманываю, позвольте рассказать вам одну забавную историю: однажды в Восточной Пруссии, в конце XVIII века (точную дату можно определить по содержанию рассказа), учитель в школе, где учился юный Гаусс… но нет, хватит: мне сделали замечание, что мы тут не историю математики пишем, а РОМАН.)
Колокол умолк, и он (согласно нашему с вами уговору, словом «он» обозначается тот, за кем мы следуем с четвертого абзаца, а вовсе не юный Гаусс) долго еще не мог оправиться от ужаса. Когда он снова смог пошевелиться, первой его мыслью было поскорее вернуться туда, откуда он не должен был уходить: к себе домой. Но в эту самую минуту он услышал в кустах какое-то зловещее шуршание. Источник звука находился где-то между ним и улицей Закавычек. Это означало, что путь к спасению отрезан. Он пулей вылетел на улицу аббата Миня. Все еще бегом (а мы бежим следом, но это не нас он услышал в кустах, ведь мы столь же тихи, сколь и невидимы) он повернул налево, мимо церкви, на улицу Вольных Граждан.
Он бежал, бежал, пока совсем не обессилел, и, запыхавшись, остановился.
Он огляделся вокруг: никого. Немного успокоившись, он направился домой, — окольным путем, чтобы не проходить через сквер.
Наконец он увидел дверь родного дома и устремился к ней, трепеща от облегчения и нетерпения. Внезапно перед ним выросла чья-то фигура. Он знал, кто это, это был друг. Радостно двинулся он вперед, чтобы приветствовать друга. Но что-то его остановило: то ли сомнение, то ли предчувствие. Подняв глаза, он узрел перед собою ужасающее, адское видение смерти. Страшный крик замер в его сдавленном страхом горле. Он бросился бежать к Польдевской капелле, мирной обители, последнему убежищу.
Поздно!
Послышался удар, затем предсмертный хрип.
И вновь все затихло в лунном свете, льющемся с ночного небосвода. Вновь воцарился покой вокруг Святой Гудулы: ни души, ни даже кошки.
(?)
Глава 2
Набережная Нивелиров
Инспектор Блоньяр сидел за столом у себя в кабинете, на набережной Нивелиров. Когда вы прочли «сидел за столом», то сразу же представили себе инспектора сидящим перед столом в кресле и занимающимся рутинными инспекторскими делами. Но вы ошибаетесь.
Инспектор Блоньяр сидел по другую сторону стола. И важно объяснить, по какой причине, ибо это позволит нам пролить яркий и сфокусированный свет на нестандартные методы работы инспектора, этого непревзойденного мастера по решению криминальных загадок.
Письменный стол инспектора стоит напротив двери, между двумя окнами, выходящими на набережную. У стола есть передняя и задняя сторона: передняя сторона обращена к двери.
Находясь по другую сторону стола, инспектор может видеть набережную, реку и плывущие по ней баржи, а вдобавок, и это самое главное, он сидит спиной к двери.
Всякого, кто входил в кабинет, Блоньяр вначале видел в зеркале, стоящем перед ним на столе. «Если хочешь разгадывать загадки, — объяснял он своему помощнику Арапеду, — сумей увидеть истину с изнанки, в мире Зазеркалья». «Да, шеф», — отвечал Арапед, оставаясь, однако, при своем мнении: он исповедовал философию скептицизма и пытался придерживаться этой философии в повседневной жизни, что весьма и весьма непросто. Идея истины вызывала у него ощущение, похожее на морскую болезнь. Но он не подавал виду.
Этим утром, всего несколько часов спустя после трагических событий, описанных в первой главе, набережная Нивелиров являла собой великолепное зрелище:
слева от инспектора на небе пылал рассвет;
на берегах реки начиналось ровное, непрерывное гудение автомобильных моторов;
какая-то баржа, груженная углем, лениво двигалась по течению неизвестно куда — ведь сейчас уголь никому не нужен;
у моста было очень оживленно: бригада пожарных пыталась вытащить вполне созревшего утопленника, который застрял под одной из опор.
Утренний свет с присущей ему пылкостью зажег ослепительным огнем овальное зеркало, стоявшее на столе инспектора чуть-чуть набок.
В зеркале отражалось с одной стороны ослепительно красное солнце, а с другой — лицо инспектора. Нижнюю часть лица покрывал крем для бритья. Перед зеркалом стояла миска с очень горячей водой, от которой в утреннем воздухе поднимался пар, и блюдце с холмиками густой пены, откуда выглядывали бесчисленные темные с проседью волоски.
В руке инспектор держал старомодную опасную бритву, принадлежавшую когда-то брадобрею лорда Бертрана Рассела (подарок от старого друга, суперинтенданта Беджера из Скотланд-Ярда), и брился по раз и навсегда установленному распорядку:
а) подбородок,
б) нижняя губа,
в) правая щека,
г) левая щека,
д) верхняя губа,
е) шея
Именно во время процедуры бритья, разделенной на шесть операций (или тактов), на инспектора обычно находило дедуктивное озарение, после чего успех расследования был предрешен; свидетельством этих частых озарений были шрамы, оставленные протестующей бритвой.
Слева от Блоньяра, по другую сторону стола, почти незаметный за компьютерным дисплеем, сидел инспектор Арапед. Он ждал завершения процедуры бритья, а также окончания разговора, который Блоньяр вел со своей женой Луизой по телефону, стоявшему справа от него.
Луиза Блоньяр решала для себя философский вопрос: что приготовить на обед — жареных жаворонков, баранью ногу или запеканку по-деревенски. Она последовательно рассматривала различные гипотезы, а когда она умолкала, Блоньяр заполнял паузы привычными замечаниями: «ты так думаешь?», «хм», «да», «нет», «это точно», «однако», «в самом деле», «ты права». Это был разговор влюбленных и, как все разговоры влюбленных, он, как правило, не приводил к сколько-нибудь определенному результату.
Из вышеприведенного описания становится совершенно очевидно, что инспектор Блоньяр:
1) был мужчиной средних лет,
2) был, скорее всего, левшой, если исключить, что он: а) преждевременно постарел; б) выделывал несолидные выкрутасы руками и телефонным проводом.
В дальнейшем вам придется проявлять к моему тексту усиленное внимание, дабы не упустить из виду подобные вещи, потому что в следующих главах мне не всегда будет хватать времени и терпения указывать вам на них.
Инспектор находился у себя в кабинете в столь ранний час потому, что они с Арапедом провели всю ночь за работой. Это с ними бывало часто.
Благодаря признаниям обвиняемого, который еще накануне был просто подозреваемым номер один, им удалось завершить расследование важного и необычного дела.
В прославленном на весь мир соборе чьей-то преступной рукой был разбит драгоценный нефритовый сосуд, по форме напоминающий турецкий боб. Очень скоро подозрения Арапеда сосредоточились на одном свидетеле, с виду самом безобидном из всех: торговце гвоздями из города С., пользовавшемся превосходной репутацией.
Всю ночь Блоньяр с Арапедом попеременно бдели над этой черной душой, стремясь направить ее на путь истинный с помощью признания. Проще говоря, они допрашивали подозреваемого.
Допросы проводились в маленькой комнате без окна, которая освещалась единственной голой лампочкой в шестьдесят свечей, свисавшей с белого потолка среди белых стен. На полу лежал желтый линолеум, всегда чистый, прямо-таки сверкающий чистотой (за этим следил Арапед, пользовавшийся, как и я (у меня тоже желтый линолеум, белые стены и голая лампочка под потолком) замечательным средством «Блеск», — производство компании «Зельцер»).
Подозреваемый сидел на пластиковом стуле, также желтом, но отвратительного, грязно-желтого оттенка; цвет и форма стула вызывали такое отвращение, что у подозреваемого к горлу подступала тошнота и оставалось только одно желание: убежать со всех ног, лишь бы не сидеть на столь уродливой мебели. Ночь близилась к утру, и уродство стула, его грязная желтизна, резко контрастирующая с теплым цветом линолеума, все сильнее подрывали моральный дух подозреваемого, внушали ему неуверенность в себе, и он страстно мечтал поскорее выбраться отсюда.
А в это время Блоньяр и Арапед мерили шагами комнату, описывая бесконечные спирали. Блоньяр, как бы не обращаясь напрямую к подозреваемому, произносил монолог о Деле. Он вновь и вновь рассматривал происшедшее со всех сторон, во всех подробностях, выдвигал все мыслимые гипотезы, цитировал показания свидетелей, перечислял улики и доказательства. Он не лгал подозреваемому. Он применял то, что у него называлось «Стратегией Истины».
В эту ночь, последнюю ночь расследования, — он знал, что на сей раз преступник должен сломаться, да и сам преступник в глубине души знал это, — Блоньяр, неуклонно идя к цели, избрал оружием не хитрость, а абсолютную искренность. Он не скрывал ни одного слабого места в своей версии, в восстановленной им картине событий, но слабость превращалась в силу. Ибо становилось очевидно, что он знает, и рано или поздно, так или этак, сумеет доказать. Так стоит ли продолжать борьбу? — благодушно спрашивал он время от времени.
Когда инспектор, задумавшись, умолкал, раздавался голос Арапеда.
Арапед негромко, монотонно читал весьма трудные отрывки из одного философского сочинения, сопровождая чтение резкими критическими замечаниями. В эту ночь, когда должно было решиться Дело о Разбитом Сосуде, он долгие часы подряд читал «Этюмологию» профессора Орсэллса, но, хотя подозреваемый не сводил с него умоляющего взгляда, так и не прочел главу, в которой объяснялась причина замены «и» на «ю»: хотя подозреваемый торговал гвоздями, он был человеком образованным, занял третье место в чемпионате Уазы по орфографии и знал, как пишется слово «этимология».
И наконец в шесть утра было сделано признание: «Да, это я разбил сосуд». Преступника, испытавшего неимоверное облегчение, увели, чтобы отдать в руки суассонских жандармов.
Повесив трубку и тщательно вытерев лицо, Блоньяр сказал Арапеду: «Думаю, с утра работы не будет. Пойдем спать».
В эту минуту зазвонил телефон!
Это был сам Шеф.
— Блоньяр, вы?
— Да, это я.
— Надеюсь, не помешал?
— Ну что вы.
— Вам поручается особо важное дело, чрезвычайно ответственное и деликатное. Мне позвонил монсиньор Фюстиже, собственной персоной, представляете? Та-та-та-та…та-та-та-та-та…
Блоньяр уже не слушал, только машинально запоминал некоторые полезные подробности, выхватывая их из выспренного, любезного и невразумительного потока слов Шефа, который, грубо выражаясь, спихнул на него свою работу, а сам умыл руки.
Под сахарной пудрой намеков и марципаном государственных интересов скрывалась примитивная начинка: если вы справитесь с делом, все почести достанутся мне, если вы его провалите — позор ляжет на вас.
Повесив трубку, Блоньяр на минуту задумался, глядя на сияющий шар солнца в зеркале. Затем покачал головой и сказал: «Убийство в Святой Гудуле. Едем туда».
И они поехали.
Глава 3
Место преступления
Тело жертвы было обнаружено в шесть часов четырнадцать минут (по местному времени) мадам Эсеб, бакалейщицей из дома 53 по улице Вольных Граждан.
Как всегда по утрам в течение сорока одного года, встав и умывшись, она сразу же направилась в Святую Гудулу на утреннюю молитву. Все эти годы, каждый Божий день, она испрашивала прощения за свой Грех. Грех мадам Эсеб относится к Отдаленным Причинам Непосредственных Причин описываемых здесь событий, то есть принадлежит Пред-Предыстории нашего романа, но мы не можем ничего сказать о нем (к моему большому сожалению). Кроме того, последние несколько месяцев она молилась о том, чтобы вернулся ее кот, любимый и потерянный ею Александр Владимирович.
Этим утром она проснулась в хорошем настроении, с каким-то необъяснимым предчувствием (а можно ли вообще объяснить предчувствия? Это еще труднее, чем объяснить чувства — то есть трудно до чрезвычайности); вскоре она вновь увидит Александра Владимировича. Воздух на улице был чистым и свежим, как мех Александра Владимировича весенним утром. Да, воздух был чистым и свежим, — неоспоримое доказательство того, что дело было не в Бельгии; и мадам Эсеб, торопясь в церковь, не ощущала бремени своего греха.
Она двинулась в сторону алтаря, к шестой скамье в девятом ряду. В этот ранний час в церкви еще было полутемно, и ей показалось, что она различает там, на скамье, на ее привычном месте, какую-то темную массу. Сердце в ее старой груди застучало. Она подошла ближе.
И обнаружила труп.
Испустив душераздирающий крик, она лишилась чувств и рухнула на пол, как бесформенная масса (итого две массы).
Крик мадам Эсеб, лишившейся чувств при виде мертвого тела и крови, встревожил настоятеля церкви, который сочинял проповедь в ризнице.
От этого крика кровь застыла у него в жилах.
Он бросился в церковь. Вначале ему показалось, что перед ним два трупа, ибо мадам Эсеб упала к ногам покойника (подчеркиваю: покойника), и на ней была кровь. Однако он заметил, что она еще дышит. Первой его мыслью было позвонить в полицию. И вдруг в том же девятом ряду, недалеко от головы убитого, он увидел нечто такое, что заставило его передумать.
Это был рисунок, сделанный синим мелком. Он состоял из спиралевидных линий (см. таблицу на рис. 3 гл. 21) и с поразительной точностью воспроизводил портрет священной улитки, который украшает фронтон Польдевской капеллы (как и все храмы шести основных конфессий Польдевии). Как известно, улитка — тотемическое животное польдевцев; она спасла их от голодной смерти во время последнего ледникового периода, о чем свидетельствуют огромные залежи раковин, обнаруженные археологами при раскопках (в научных кругах идет ожесточенная полемика: доисторические польдевцы питались улитками, но как они их готовили? Тушили с маслом, чесноком и зеленью? Запекали в корзиночках из слоеного теста? Или пользовались каким-то древним, утраченным рецептом? Науке неизвестно). А улитка Польдевской капеллы священна вдвойне, поскольку во время церемонии была освящена самим архиепископом, монсиньором Фюстиже.
Долг предписывал настоятелю известить монсиньора о случившемся. Промедление было недопустимо.
Когда Блоньяр с Арапедом вошли в церковь, там было очень оживленно.
С одной стороны, вокруг мадам Эсеб собрался кружок соседок и лавочниц: они успокаивали ее и высказывали жуткие догадки, от которых можно было снова упасть в обморок.
С другой стороны, озабоченный кюре беседовал с представителем архиепископства, личным советником монсиньора Фюстиже; у советника вид был тоже озабоченный, но вместе с тем дипломатично непроницаемый.
В углу два профессиональных звонаря, Молине Жан и Кретен Гийом терпеливо ждали наступления следующего часа, не подозревая о роли, какую они сыграли в происшедшей драме. Чтобы скоротать время, они повторяли тихонько и с каждым разом все быстрее: «Сшит колпак не по-колпаковски, надо колпак переколпаковать», а затем «Сшит колпак не по-колпаковски, дили-дон, надо колпак переколпаковать, дили-дили дон». Это чрезвычайно увлекательное занятие.
Несколько любопытных, в том числе группа туристов, наполовину японская, наполовину польдевская, пытались разглядеть убитого, который, несмотря на природную скромность, вынужден был позировать фотографам во всех ракурсах. Появление инспекторов вызвало прилив интереса среди собравшихся. Блоньяра узнали в лицо.
Возле трупа кто-то стоял на коленях: это был судебный медик, доктор Петио. Увидев Блоньяра, он встал и протянул инспектору руку, всю в пятнах и ссадинах от кислотных ожогов (в свободные минуты он проводил опыты по растворению тканей животных в различных кислотах: азотной, серной, соляной, а также лимонной и муравьиной, намереваясь написать фундаментальный научный труд по этому вопросу). Не утруждая себя любезностями, доктор сказал:
— Время смерти: за два часа до или через два часа после полуночи.
Причина смерти: удар тупым предметом в основание черепа; продавливание черепной коробки, и так далее.
Пол жертвы: мужской.
Возраст: вроде бы средний, точнее сказать не могу, это не совсем моя область.
Послеоперационный шрам от удаления аппендикса отсутствует.
Результаты вскрытия: через двое суток после того, как он поступит в мое распоряжение.
Вопросы есть?
У меня все, приступайте.
Блоньяр смотрел на убитого. Он сверлил его пронизывающим взглядом, со всей пытливостью и зоркостью, на какие был способен. Это была первая минута их встречи, имевшая для Блоньяра такое же значение, как первый взгляд для влюбленных. Между ним и жертвой устанавливалась связь, целью которой было раскрытие тайны убитого, выяснение имени соперника Блоньяра, — убийцы. Необходимо было как можно ближе познакомиться с жертвой. Жертва будет уклоняться от расспросов, скрытничать, всячески оберегать свою тайну: тайну своей жизни. Но Блоньяру надо преодолеть ее сопротивление. Прошлое жертвы должно стать будущим их знакомства, и в этом прошлом когда-то, где-то произошло некое событие, которое, как говорят компьютерщики, запустило программу, неизбежно приведшую к смерти, к убийству. В жизни жертвы, как на видеопленке, прокрученной в обратную сторону, появится незнакомое лицо — лицо убийцы.
Вот почему Блоньяр так пристально смотрел на убитого. Он сразу понял, что задача его на сей раз будет чрезвычайно трудна.
Этот убитый был не такой, как другие. Он и инспектор говорили, в общем-то, на разных языках. И хотя он принадлежал к близкому, знакомому миру, инспектор не был подготовлен к тому, чтобы войти в этот мир. В данном расследовании ему придется совершать огромные усилия, чтобы думать, как жертва, рассуждать, как она. (В этом заключалось своеобразие блоньяровского метода: большинство великих сыщиков пытаются рассуждать, как преступник, ставят себя на его место — глубокое заблуждение! Решающей фигурой в преступлении является жертва; преступник — лишь ее тень.) На мгновение его охватила паника: а что если преступник — тоже… Однако он сразу же взял себя в руки: должно быть, на нем сказалась усталость, бессонница, реакция после успешного завершения Дела о Разбитом Сосуде.
Отведя глаза от трупа, отныне четко запечатленного в его памяти (а также на негативах полицейского фотографа), он медленно обвел взглядом место преступления. Как сюда попал убитый? Сам пришел? Что ему здесь понадобилось? Вопросов была уйма.
Когда он смотрел на толпу, взгляд его встретился со взглядом старой женщины, сидевшей на скамье среди других женщин, которые утешали ее, расспрашивали, ловили каждое ее слово, жадно и с восхищением смотрели на нее. (Как мы знаем, это была мадам Эсеб.) И вдруг вспыхнула и погасла какая-то искра, словно между ними пробежал электрический ток. Эта старая женщина что-то знала. Или скорее боялась чего-то, подумал Блоньяр. Она боялась чего-то такого, о чем не хотела знать.
Попробуем чуточку опередить инспектора. Этот непостижимый человек продвигается с такой быстротой. К счастью, у нас есть свои источники сведений. Мы ведь присутствовали, или почти присутствовали при убийстве.
Мы-то совершенно точно знаем, что жертва боялась Александра Владимировича. Мы знаем это с первой главы, которую пока еще не забыли. А еще мы знаем, что у мадам Эсеб было предчувствие: вскоре она вновь увидит своего любимого и потерянного кота Александра Владимировича. Поэтому мы, используя безошибочную интуицию Блоньяра, можем угадать, чего опасается мадам Эсеб: что Александр Владимирович вернулся в Город и замешан в убийстве. Эта мысль не дает ей покоя. Она даже забывает о своем Грехе, сегодня она так и не успела помолиться.
Блоньяру не пришлось долго прислушиваться к своей интуиции или выяснять, насколько она верна. В церкви послышался шум; все взгляды обратились к двери.
Пришел отец Синуль, сопровождаемый болезненным любопытством и поверхностным сочувствием окружающих. Он шел, согнувшись пополам от душевной боли, усугубленной болью физической (физическая боль была вызвана подагрой: у него как раз был острейший приступ подагры, — от неухоженности и от злоупотребления пивом); опираясь на двух молодых женщин, которые поддерживали его с обеих сторон, он пришел опознать жертву.
Мадам Ивонн, его соседка и хозяйка «Гудула-бара», разбудила его и со всей возможной осторожностью сообщила страшное известие. Перед этим ему снился часто повторявшийся тяжелый сон: маэстро Андре Изуар нещадно ругает его за исполнение чаконы Пахельбеля, которую, как ему казалось, он знал назубок.
Он не хотел идти один и, поскольку дочери его были в отъезде, попросил двух молодых женщин сопровождать его. У той, что поддерживала его справа, были рыжие волосы. Ее звали Лори. Вскоре мы с ней еще встретимся.
Та, что поддерживала отца Синуля слева, была Героиня нашего романа: Прекрасная Гортензия. Сейчас не время описывать ее внешность, — отец Синуль дошел до девятого ряда скамей. Арапед и Блоньяр отошли в сторону. Отец Синуль один идет к шестой скамье. И смотрит на убитого.
Его черты еще искажены ужасом, но в то же время они словно смягчились, проникнутые величавой безмятежностью, которая предшествует распаду. Он успокоился навсегда. Он больше не будет страдать, не испытает ни голода, ни жажды, забудет о муках любви.
В последней, отчаянной попытке самозащиты, перед роковым ударом, он зажал хвост межу задними лапами. Его шерсть слиплась от крови.
— Бедный ты мой старикан! — говорит Синуль.
Жертва — его собака Бальбастр.
Глава 4
Гортензия
Гортензия — это героиня; и не просто героиня, а Героиня с большой буквы. И это Прекрасная Героиня: Прекрасная Гортензия.
Кроме того, это Моя Героиня. Меня, Автора этих строк, радует и ободряет тот факт, что я могу предложить читателям такую прекрасную героиню. Мне кажется (впрочем, возможно, я ошибаюсь), что если у тебя перед глазами, по крайней мере, на время, необходимое для чтения книги, будет красивая, милая и неглупая героиня, это доставит тебе удовольствие и отвлечет от жизненных тягот. В вечном споре, который ведется в литературе с самого ее возникновения: что лучше — молодая, красивая, милая и абсолютно здоровая героиня, или же старый, уродливый, противный и больной герой, — я решительно придерживаюсь первого мнения.
Итак, Гортензия — это Героиня. И все же я не могу, здесь и сейчас, дать вам ее портрет.
Причина проста: это мне запретил Издатель.
А почему Издатель запретил мне давать портрет Гортензии, моей героини, обладающей всеми моральными и физическими свойствами, какие положены молодой и красивой героине? Именно из-за ее физических свойств, о которых я без конца распространялся в первом, машинописном варианте моего произведения.
Дело в том, что в данный момент мой Издатель занимается самоцензурой. В окружающем мире, с которым я стараюсь не иметь ничего общего, поскольку недоволен тем, как обстоят в нем дела и хочу наказать его за это моим невмешательством, в окружающем мире, говорю я, у издателей есть в данный момент два непримиримых врага: как пробурчал мне по телефону мой издатель («пробурчать» — редкое старинное слово, обозначающее тон, каким издатель разговаривает с автором, требуя сделать купюры), некто Правонезнайский и некто Квипрокво (по крайней мере, так я расслышал сквозь бурчание и дипломатичное покашливание) не желают читать о физических свойствах героинь (а тем более героев).
Я сказал Издателю: «Если господа Правонезнайский и Квипрокво поражены вирусом сморщивания томата, вирусом перемежающегося некроза табачного листа, а также, вероятно, вирусом скукоживания репы (такие вирусы действительно существуют, их названия были мне любезно предоставлены Жюли Синуль), это не объясняет, почему я не могу подробно остановиться на физических свойствах моей героини, как того хотелось бы читателям, и особенно на некоей выступающей части тела, находящейся позади, которая так гармонична и вызывает столько эмоций».
Но Издатель ничего не желал знать.
Однако я отлично знаю Гортензию. Я ее знаю вдоль и поперек, спереди и сзади, сверху донизу, но не подумайте ничего такого: я ее знаю, потому что я ее Автор. Часто мне приходилось по настоятельной необходимости, для подготовки и стимуляции творческого процесса, следовать за нею в постель, или в ванну, где она любит подолгу нежиться в ароматной пене, или под живительный холодный душ, от которого заостряются кончики двух округлостей, расположенных ниже шеи. Я видел ее под дождем, в теплом море в полночь, среди прохладной травы в летний зной; и в каждом случае одежда находилась на некотором расстоянии от нее, но не на ней.
Все это я сказал моему Издателю, но он был непоколебим.
Я встретил Гортензию в автобусе «Т», когда она, юная, серьезная и старательная студентка философского факультета, ученица нашего великого философа Орсэллса, направлялась в Библиотеку нашего Города, чтобы предаться там оргии чтения, необходимой для написания диссертации (которую она потом благополучно дописала): «О некоторых парадоксальных, но закономерных случаях применения основного принципа онтэтики». В то время я тоже регулярно посещал Библиотеку. И мы с ней часто встречались. То есть мы часто оказывались в одном автобусе: тесные, но целомудренные отношения Автора с Героиней допускают лишь незримые встречи, ведь роман — это не автобиография.
Я был почти рядом в тот день, когда напротив нее сел молодой человек и произнес фразу, с которой у них началась захватывающая любовная история.
Как видите, мои отношения с Гортензией начались не вчера.
Вот резюме того, что нам сейчас нужно знать о былых приключениях Гортензии:
1) встреча с молодым человеком.
2) Гортензия влюбилась, у Гортензии возникли подозрения, Гортензию обманули (но не в любовном смысле), Гортензия разлюбила, ибо молодой человек обманул и разочаровал ее.
3) Тем не менее она не перестала ездить на автобусе «Т» в Библиотеку и нашла в себе силы дописать диссертацию.
4) Но был еще кот по имени Александр Владимирович. Это был кот необычайной красоты, настоящий герой. Красивый героический кот. Его любила мадам Эсеб. А он влюбился в очаровательную рыжую кошечку по имени Чуча.
5) А еще был преступник, преследуемый инспектором Блоньяром и его верным помощником, инспектором Арапедом.
6) Все эти события, все эти детективные или/и любовные истории происходили вокруг церкви Святой Гудулы с ее Польдевской капеллой и расположенного рядом с ней сквера Отцов-Скоромников (см. План места действия рис. 2 гл.21).
7) Инспектор Блоньяр довел расследование до победного конца, нашел и арестовал преступника.
8) Александр Владимирович и один из князей Польдевских, князь Горманской, исчезли в один и тот же день.
9) Мадам Эсеб была безутешна; Бальбастр, пес отца Синуля, вздохнул с облегчением.
10) Прошло время.
11) Прошло время, и настала весенняя ночь, когда несчастный Бальбастр был зверски убит.
Мы с вами не раз замечали, что в жизни все безнадежно перепуталось. Настоящее купается в прошлом, как муха в варенье. Вот почему экскурсы в прошлое Гортензии необходимы, чтобы понять ее настоящее, то есть настоящее время нашего повествования.
Заметим, однако, что Гортензия, поддерживающая отца Синуля с левой стороны, выглядит озабоченной.
Лори тоже это замечает.
Вряд ли можно объяснить эту озабоченность смертью собаки Бальбастра, сколь бы трагична она ни была, и горем отца Синуля. Отец Синуль справится со своим горем. Гортензия никогда не была в близких отношениях с Бальбастром, хоть тот и принимался иногда обследовать носом те части тела Гортензии, которые мне запрещено описывать.
Мы уверены, причина в чем-то другом.
Лори тоже так думает. Пойдем за ними.
Проводив отца Синуля до его садика и немного утешив его с помощью ласковых слов и холодного пива, Гортензия и Лори пошли в «Гудула-бар». Лори заказала кофе и стакан воды у Красивого Молодого Человека, который был новым официантом у мадам Ивонн. Гортензия заказала кофе без воды, но с тартинкой.
— Ну как у тебя, получше? — спросила Лори.
— Нет, — ответила Гортензия.
Надо вам сказать, что Гортензия была замужем.
Случилось это так: после того, как Гортензия полюбила, а затем разлюбила, ей стало грустно; а поскольку ей было грустно, она немножко влюбилась в того, кто решил оказать ей утешение и поддержку.
Она с головой ушла в занятия философией.
Ее утешителя и опору звали Жорж Морнасье; он был журналист и рассказчик. Как журналист он публиковал в «Газете» нашего Города отчеты о расследованиях инспектора Блоньяра, чьим секретарем и биографом он стал. Как рассказчик (персонаж, который говорит «я» и рассказывает о происходящем) он действовал в моем романе, повествующем о приключениях Гортензии, о том, как она влюбилась в Красивого Молодого Человека, как и почему она перестала его любить, и как она встретила месье Морнасье, журналиста и Рассказчика в романе о том, как Гортензия… вы поняли, что к чему?
Они поженились.
Вначале все шло неплохо. Муж Гортензии был сильно влюблен в нее, она отвечала на его чувства симпатией и благодарностью, хоть и не испытывала таких конкретно-телесных восторгов (точнее сказать не могу: самоцензура Издателя), как в первое время. Но что поделаешь? Брак есть брак!
Но постепенно ситуация стала ухудшаться. С одной стороны, гимнастическое рвение Гортензии все более ослабевало; все менее хотелось ей изображать куклу… С другой стороны, внимание и предупредительность мужа, вначале казавшиеся ей приятным проявлением его привязанности, стали ее утомлять: «Куда ты идешь, дорогая?» — спрашивал он. «Когда ты вернешься, дорогая?» — интересовался он. «Радость моя, с кем ты говорила в одиннадцать тридцать четыре в автобусе „В“ между остановками „Казакова“ и „Клео де Мерод“?»
В самом деле, если из предыдущих фраз убрать слова «дорогая» и «радость моя», то получится приблизительно следующее: «Куда ты идешь? С кем ты говоришь? В котором часу ты вернешься?»
Позже Гортензия заметила, что муж стал часто поглядывать на нее с каким-то странным выражением лица. Казалось, мыслями он где-то далеко. Казалось, что-то его гнетет, портит ему настроение. Он стал мало есть. За едой нервничал, скатывал шарики из хлебных крошек, нарезал мандариновую кожуру на триста шестьдесят пять кусочков (а иногда даже на триста шестьдесят шесть). Вдруг приходил с работы после обеда, хотя утром говорил, что будет допоздна сидеть в редакции. Уехав в провинцию, чтобы сделать репортаж об очередном расследовании Блоньяра, в полночь звонил домой. Гортензия не понимала, что с ним происходит.
Познакомившись с Лори — они мгновенно стали подругами, и между ними не было тайн, — Гортензия вскоре поделилась с ней своими заботами.
Это было в «Гудула-баре», Лори заказала две чашки кофе с двумя стаканами воды (был полдень, и она уже почти проснулась). Гортензия взяла горячее молоко с тартинкой. Лори разом выпила остывший кофе из второй чашки, запила глотком холодной воды, закурила сигарету от спички (и положила обгорелую спичку обратно в коробок), посмотрела на Гортензию и сказала: «Так ты не понимаешь, что это значит?»
Гортензия: Нет.
Лори: Ты правда хочешь, чтобы я тебе объяснила?
Гортензия: Само собой, тут что-то неладно, но я теряюсь в догадках, что именно.
Лори: Ну так вот, у твоего мужика сдвиг по фазе.
Гортензия широко открыла глаза (очень красивые, кроткие, с поволокой, большие и удивленные), полные простодушия и неискушенности глаза студентки философского факультета.
Гортензия: Что?
Лори: Ревнует он тебя, вот что!
К утру, когда стало известно об убийстве, дела вовсе не наладились, а наоборот, усложнились.
Произведения
Критика