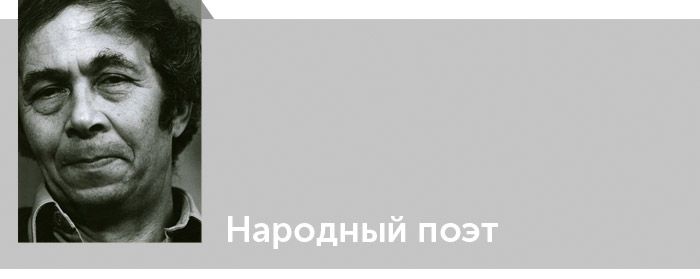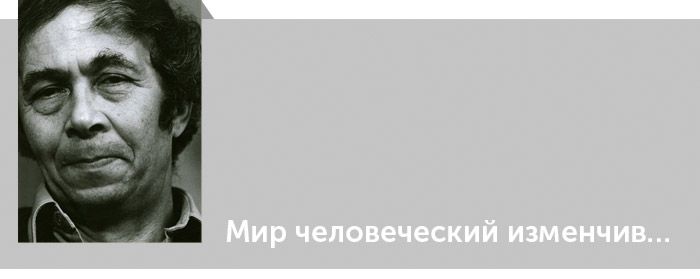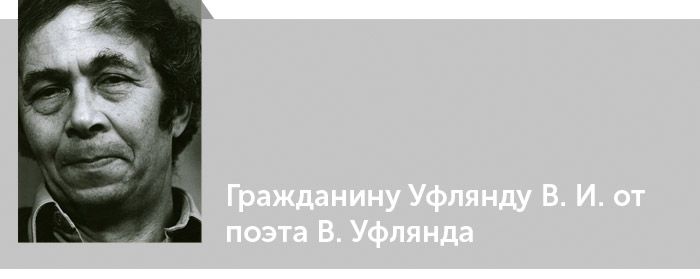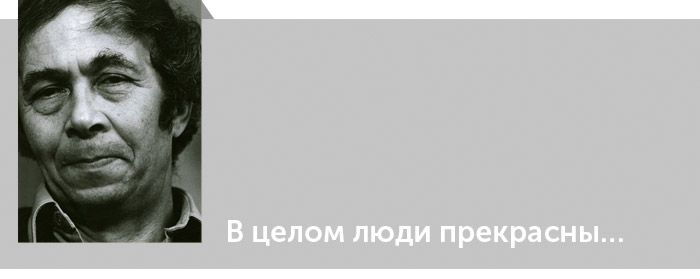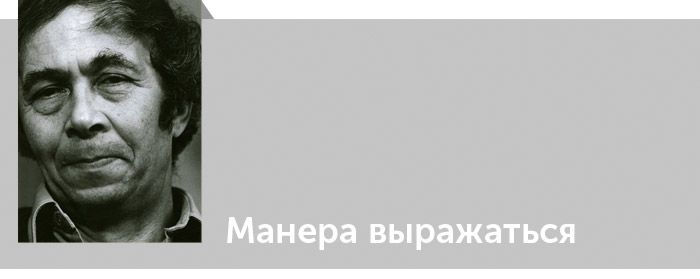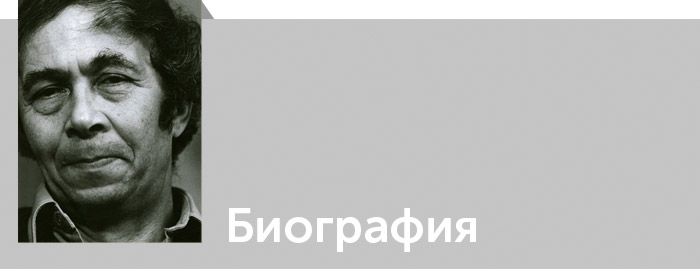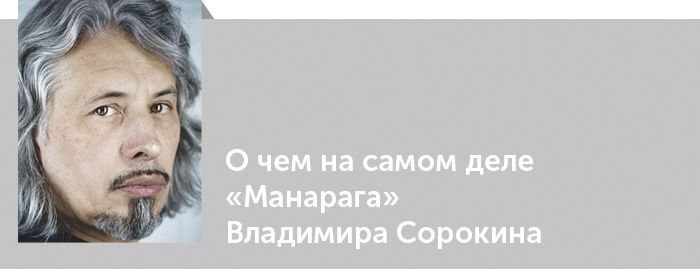Игорь Булатовский о книге Владимира Уфлянда «Мир человеческий изменчив»

Игорь Булатовский
Уфлянд В.И. Мир человеческий изменчив: Собрание рифмов. текстов и рисунков пером / Сост. и примеч. А.Ю.Арьева; Предисл. и послесл. Л.В.Лосева. – СПб.: Журн. «Звезда», 2011. – 384 с., [12] л. ил., портр.: ил. 600 экз.
Умереть поскорее сто́ит хотя бы для того, чтобы твою «могилу» не занял другой «труп». Из чего это следует? А не из чего — из ничего! Вынесло к мысли — на повороте стиха, на рифме — накренившемся, но снова, и снова, и снова встающем прямо колесе. Ведь русские стихи, и те, которые строил Владимир Уфлянд, и вообще все русские стихи, пишутся ради рифмы, ради этого поворота, этого накренившегося и страшно и весело скрипнувшего колеса. Ради околесицы! Ради ничего! И ради Всего. Ради всего мира, его «эпоса», то есть в прямом значении — «слова», ради эпической пространности мира, спрессованной в плотный брикетик, кирпичик, сухарик эпиграммы, который каждому может свалиться на голову и не всякому по зубам, а кому-то и — «по зубам»! Бывает и другое: эпиграмму, ее навык, возводят в бесконечную степень пространства и времени, получая «эпос» мира, его «слово», как это делал Бродский, выше всего ценивший в Уфлянде умение колесить на рифме, разгоняясь до такой скорости, что иногда невозможно уже повернуть и некогда ставить запятые и точки. И всё идет в ход, всё в ходу, всё пускается в путь, как сам автор — путем всея земли — за «окоченелым трупом», каким-то чертом попавшим под руку, подвернувшимся на язык, на «язык», на его «приятный магнетизм». Всё как всегда начинается «культурно», по Данте («Представь, что я Вергилий, / а ты зовешься Дант»), хоть и катится к черту. Но горемычному, големичному трупу (не жуковскому покойнику, не гоголевскому мертвецу, не блокадному призраку и — нет, не введенскому «крем-брюле», а чему-то среднему между Федей Протасовым и святочным «умраном») тоскливо и холодно, он же «труп» и «окоченелый»! И надо выпить. Как же это — труп и без тризны, он ведь, «славянки, ваш поклонник»! Как же это — без жертвенных возлияний, без омовений «живой водой», «аквавитом», водкой — чтоб «этот мир вторично / сменить на мир иной»! И выпивают, и добавляют, и вот уж «захотелось петь». Тогда, как из-под земли (а откуда же еще!), появляется Эмпедокл — адресат «Баллады и плача об окоченелом трупе». Кому-то ведь надо ее (их) слушать. Почему бы и не Эмпедоклу? Как хорошо ложится это имя на размякший, развязавшийся язык («язык»). «Любезный Эм-пе-до-кл!» Может быть, он попал сюда как фигура застольно-анекдотическая: боги-то приняли его, бросившегося в Этну, а его сандалий не приняли!.. Не важно. Удачный адресат, чистое обращение, форменное ничто, которое повторяется тем чаще, чем быстрее вертится колесо рифмы: эмпедокл-знаток, эмпедокл-толк, эмпедокл-белок, эмпедокл-поток, эмпедокл-долг, эмпедокл-предлог, эмпедокл-срок, эпмедокл-эпилог. А уж сколько рифмической радости доставляет автору «труп» — и не перечесть! Столько же, похоже, сколько в «Рифмованной околесице» («раешном рифмованном тексте») доставляют матюги Еруслана в рифму, развивающие, собственно, всего две темы — «елки зеленые» и «мать перемать», от «елкины шишечки» и «мать моя отцова невеста» до «еловый собор японской богоматери» и «мать нашу рокенролл бибоп и бигбит». Скоморох? Конечно, скоморох («Мой дед был клоуном по имени Пиф-Паф»)! И морда скоморошья — мудрая и хитрая, а если на эту морду еще надевается маска, да пусть хоть из папье-маше — пережеванной советской газеты («Я вылеплен не из такого теста, / чтоб понимать мелодию без текста. / Почем узнаю без канвы словесной я: / враждебная она / или советская?»)… В Москве хоть юродствуй, хоть скоморошествуй. В Петербурге, Ленинграде, а Уфлянд точно жил в «Ленинграде», можно (было) только скоморошествовать (в этом смысле, к примеру, «гени(т)альничанье» Кузьминского Петербургу несоприродно). «Юрод и похаб» — нарочито безумен. Скоморох — откровенно и зло умен. Юрод асоциален. Скоморох внесоциален. Юрод — не от мира сего. Скоморох — от мира того, «кромешного». Как сам Петербург, город (проверено), для жизни непригодный, — адский «парадиз». Но ведь и «парадиз»! Особенно, когда ты молод и голоден, и немного серьезен, и день грозит тебе «одними облаками». Низкими ленинградскими тревожными облаками, прижимающими солнечный свет к земле («от верха белого / до низа медного / от солнца»). И тебя волнуют такие важные вопросы, как, например: «Что пароходам помогает / борта и днища в океан макать? <…> Конечно же, любовь. Любовь и голод». И тебе хочется достать из пиджака последнюю монету и отдать ее нищим («чтоб они не хромали»), но в кармане оказывается только «вечер, нежно-сиреневым цветом». А если ты молод, голоден и немного несерьезен, то ты садишься в автобус, едешь за город и становишься там «скворешником». «И на разного рода мелодии / из груди моей льются пародии». Этот юношеский инфантильный лиризм и скоморошья одержимость рифмоплетством сошлись у Владимира Уфлянда в его культовом, «пушкинском», разумеется, жанре — дружеской эпиграммы. Среди этих почти мгновенных словесных искр, горстью брошенных Лёше и Нине, Машеньке, Володе, Сереже (Кулле — на тот свет), Лёне, Славе, Нинуле, Юзу, Оле, Осе и иже с ними, есть одна, очень простая и прозрачная, — себе, в которой он, рифмач, не решился на рифму: «Только один клад живет в человеке — / вера в небесную силу Творца. / Тот лишь блажен, кто небесной опеке / всем существом подчиняет себя».