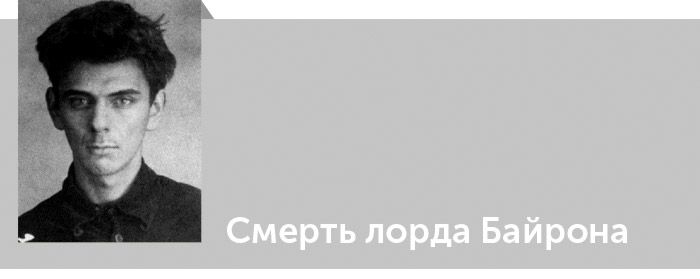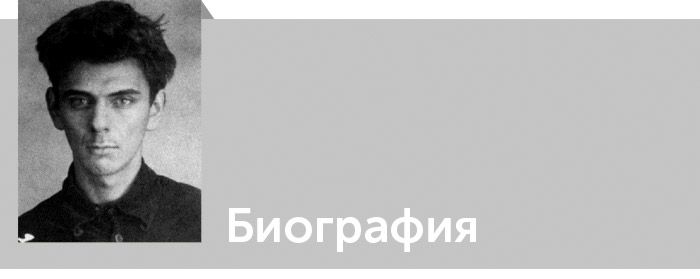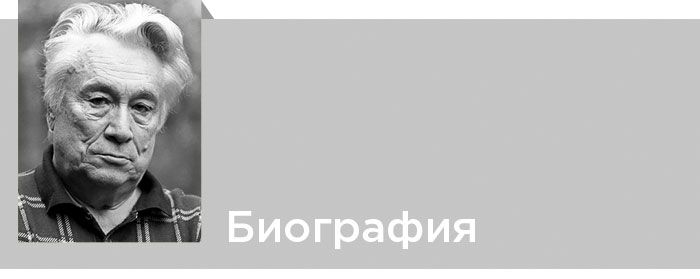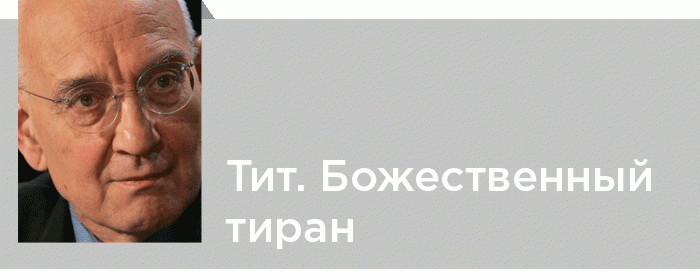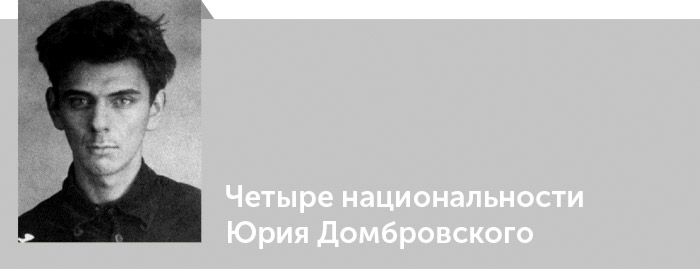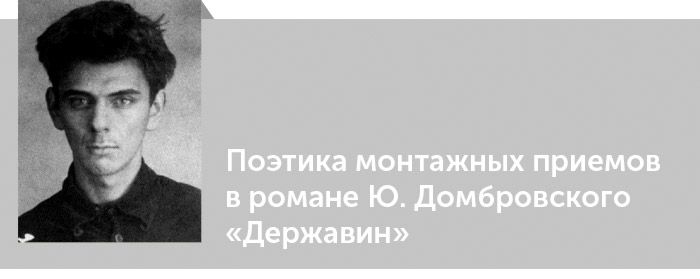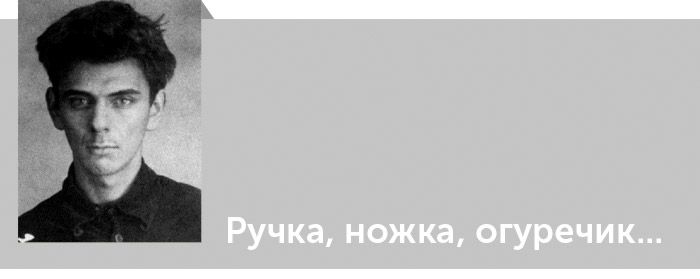Основной конфликт романа «Факультет ненужных вещей»
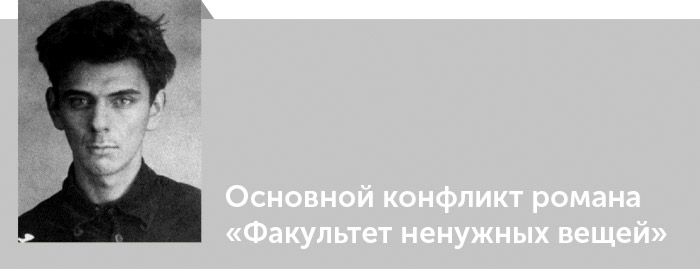
Н Лейдерман, М Липовецкий. Современная русская литература - 1950-1990-е годы (Том 2, 1968-1990)
Первая часть ФНВ под названием "Хранитель древностей" была опубликована в "Новом мире" на самом излете хрущевской "оттепели" - в июле - августе 1964 года1. Эта часть была написана от первого лица, насыщена культурно-историческими экскурсами и заканчивалась вполне угадываемым, хотя прямо не изображенным, арестом Зыбина. Хотя роман и произвел сильнейшее впечатление на читателей того времени (о триумфальном обсуждении романа в ЦДЛ вспоминают В. Непомнящий, А. Битов, Ф. Искандер, Ю. Давыдов), произошедший политический переворот сделал невозможным появление каких бы то ни было критических работ о романе в печати2. Вторая часть дилогии, собственно ФНВ писалась Домбровским уже без всякой надежды на публикацию в СССР. Может быть, поэтому Домбровский начинает здесь повествование не с того момента, где закончился "Хранитель", а несколько раньше - проясняя те обстоятельства ареста Зыбина, которые в первой части были оставлены за кадром или обозначены глухими намеками. Кроме того, Домбровский во второй части дилогии меняет форму повествования с первого лица на третье: замысел романа явно вышел за пределы точки зрения одного, пусть даже и очень значительного персонажа - масштабная концепция потребовала более раскованной повествовательной организации. ФНВ (вторая часть дилогии) был впервые опубликован в 1978 году в Париже, в издательстве YMCA-Press, и Домбровский еще успел подержать в руках новенький томик "тамиздата".
ФНВ представляет собой интереснейший сплав различных эстетических традиций: рационалистической, романтической и реалистической. Рационалистический анализ фантастической логики тиранических режимов, от Тиберия до Сталина, составляет "идею-страсть" романтического вольного гуляки, живой манифестации свободы - Георгия Зыбина, "хранителя древностей". Романтическая фантасмагория нежити, призраков и вурдалаков, едва ли не буквально питающихся кровью своих жертв (проект врача-"березки" переливать живым кровь расстрелянных "ввиду ее легкодоступности"), накладывается на исторически конкретный, нередко с прототипами (Штерн Шейнин), коллективный образ "слуг режима", палачей, знающих (но пытающихся забыть) и о своей собственной обреченности. А все вместе складывается в картину, одновременно осязаемо реалистическую и надвременную. Последний аспект особенно усилен фигурой и картинами художника Калмыкова, способного преобразить обыденный пейзаж в "Землю вообще". "...Здесь на крохотном кусочке картона, в изображении десятка метров речонки бушует такой же космос, как и там наверху в звездах, в галактиках, метагалактиках, еще Бог знает где. ". Недаром именно Калмыков в финале романа запечатлит сидящих на скамейке Зыбина, Корнилова и Неймана: "Так на веки вечные на квадратном кусочке картона и остались эти трое - выгнанный следователь, пьяный осведомитель...и тот третий, без кого эти двое существовать не могли". С. Пискунова и В. Пискунов, опираясь также на наблюдения над символическими мани фестациями темы вечной красоты/свободы (Лина, девушка-самоубийца, древняя царевна), делают вывод о том, что созданная Домбровским "открытая романная структура" в финале как бы сжимается "в одну вынесенную за пределы времени точку, то есть по сути трансформируется в миф, в притчу о предателе, палаче у их жертве"3. А ирландский исследователь творчества Домбровского Дж. Вудворд считает, что ФНВ представляет собой "проницательный анализ исторического зла, пережитого советскими людьми, которое изображается Домбровским как беспрецедентное по масштабу и в то же время отражающее конфликт, вневременной и "космический" по своей природе"4. Эта двойственность перспективы подчеркнута Домбровским в последней фразе романа: "А случилась эта невеселая история в лето от рождения вождя народов Иосифа Виссарионовича Сталина пятьдесят восьмое, а от рождества Христова в тысяча девятьсот тридцать седьмой недобрый, жаркий и чреватый страшным будущим год".
Но эта последняя фраза лишь обнажает прием, на котором строится ФНВ: да, организованный Домбровским философский спор органично включает в себя аргументы из римского права и римской истории, из Евангелия и русской литературы, в качестве "свидетельских показаний" звучат голоса Сенеки и Светония, Овидия и Тацита, Сафо и Горация, Плиния Младшего и Эсхила, Шекспира и Пушкина, Аввакума и Достоевского, Гоголя и Мандельштама, Державина и Маяковского, Толстого и Сталина - ибо этот спор надысторичен по своей сути. Но это не абстрактный спор, потому что все доводы проверяются здесь болью и кровью, психологически дотошным анализом поведения конкретных характеров, втянутых в шестеренки машины тотального уничтожения, в свою очередь созданной совершенно определенными историческими обстоятельствами. Историософские проблемы здесь упираются в вопросы иного порядка: почему кто-то из героев романа становится палачом (Нейман, Штерн, Долидзе), кто-то, незаметно для себя подчас, превращается в предателя (Корнилов, Куторга), а кто-то сохраняет человеческое достоинство и свободу под мертвящим прессом истории и даже в застенках НКВД (Зыбин, Калмыков)? Каждая интеллектуальная ошибка здесь обязательно подтверждается драмой экзистенциальной и исторической, и наоборот, каждая житейская подлость или оплошность восходит к недомыслию, нежеланию или страху додумывать до конца.
А центральная интеллектуальная тема романа обращена на осмысление исторического взаимодействия таких категорий, как тирания, закон и свобода. В критике роман Домбровского нередко сравнивается с "Мастером и Маргаритой" Булгакова и с "Доктором Живаго" Пастернака, и не случайно. Вся третья часть ФНВ, в которой Зыбин не принимает сюжетного участия, посвящена обсуждению суда синедриона над Иисусом. Поп-расстрига и секретный осведомитель НКВД Андрей Куторга написал целый трактат на эту тему, а ссыльный археолог Владимир Корнилов, не зная о тайных делах отца Андрея, но тоже по заданию НКВД, ведет с ним пространные беседы на опасные темы5. В этой части, как и в написанном самим Домбровским исследовании "Суд над Христом", почти полностью вынесен за скобки вопрос о религиозном смысле христианства6 и совершенно полностью исключен план вечности, зато колоссальное внимание уделено нарушениям существовавших тогда законов, принципов недвусмысленно жестокого судопроизводства, тем не менее предполагавшего "точность обвинения, гласность, свободу подсудимого и гарантию против всего, что может исказить процесс, в том числе и против ошибочных свидетельств". Важнейший тезис трактата Куторги - мысль о том, что помимо Иуды существовал еще один предатель, избежавший суда истории, - с этой точки зрения имеет другой важный смысл: само наличие тайного свидетеля резко противоречит нормам судопроизводства в Иерусалиме времен Христа. А значит? Значит, если бы эти нормы были соблюдены, то Христос не бьл бы распят? Не произошла бы трагедия, определившая содержа ние целой эры в истории человечества? В этом контексте элементарные, но точные юридические нормы приобретают почти сакральное значение: их смысл в том, чтобы защищать божественное от дьявольского, человеческое от зверского, добро от зла.
Этот философский мотив приобретает осязаемый исторический смысл в сценах допросов Зыбина Тамарой Долидзе. Именно она, следователь НКВД, не по нужде, а, так сказать, по зову души (перешла в "органы" из театрального института), собственно, и произносит слова, вынесенные в заглавие романа: "Вы ведь тоже кончали юридический? Да? По истории права. Так вот, ваш факультет был в то время факультетом ненужных вещей - наукой о формальностях, бумажках и процедурах. А нас учили устанавливать истину". Ответ Зыбина отодвинут почти на триста страниц, но тем значительнее он звучит:
Вот вы, например, безусловно не с улицы сюда пришли, а кончили какой-то особый юридический институт. Конечно, самый лучший в нашей стране. Ведь у нас все самое лучшее. И, очевидно, там преподавали самые лучшие учителя, профессора, доктора наук, это значит, что вам четыре или пять лет вдалбливалась наука о праве и о правде, наука о путях познания истины. А ведь она очень древняя, эта наука. Ее вырабатывали, проверяли, шлифовали в течение тысячелетий. <...> И вот, все познав, поняв и уразумев, вы приходите сюда, садитесь на это кресло и кричите:
"Если не подпишешь сейчас же на себя то-то и то-то, то я из тебя лягушку сделаю!" Это еще вы. А ваш мощный предшественник - тот сразу матом и кулаком по столу: "Рассказывай, проститутка, пока я из тебя лепешку дерьма не сделал! Ты что, к теще в гости пришел, курва!" Ну а наука-то, наука ваша куда девалась? Та самая, что вам пять лет вкладывали в голову? Не нужна она вам, значит - мат и кулак нужен! Так что ж, вы и наука несовместимы? Так кто же вы на самом-то деле? <...> Воровская хаза? Шайка червонных валетов? Просто бандиты?
В отличие от Гроссмана, Домбровский не воспринимает всякое государство как враждебное человеческой свободе. Напротив, он видит в законах, охраняемых государством, гарантию осуществления тех или иных человеческих свобод. То, что Гроссман называет "сверхнасилием тоталитарных систем", по логике романа Домбровского возникает только тогда, когда само государство пренебрегает своей святыней - законом - и тем самым отвергает колоссальный опыт цивилизации, отложившийся в сухих юридических формулах. Однако, по мысли Андрея Куторги, Христос сознательно не воспользовался нарушениями законности и сознательно принял казнь. Иначе бы
...в мире ничего не состоялось. История прошла мимо. А он знал, что такое искушение когда-нибудь наступит и надо его преодолеть смертью, но умереть осмысленно и свободно...Иисус и так всю жизнь чувствовал себя совершенно свободным, свободным, как ветер, как Бог. <...> Жизнь для него была радостью, подвигом, а не мученьем. И вот именно поэтому на вопрос председателя он не пожелал ответить "нет", он ответил "да".
Опять-таки в измерении конкретно-историческом этот "тезис" непосредственно разворачивается в сюжете самого Зыбина. "Ферт...из этаких, из свободных художников...с выкидончиками тип", как характеризует его Роман Штерн. "Хранитель древностей", как называют его в музее. "Морально разложившийся", "враг народа", как определяют его справки НКВД. А в целом, человек абсолютной и исключительной внутренней свободы ("свободен, как ветер, как Бог"), которую он не может скрыть, как ни пытается. Поэтому он органически несовместим с системой беззакония и несвободы, он органически опровергает ее всесилие. Это хорошо понимает и сам Зыбин, и его враги. Недаром в конце романа Нейман признается самому себе: "Если я, мой брат драматург Роман Штерн, Тамара и даже этот скользкий прохвост Корнилов должны существовать, то его [Зыбина] не должно быть! Или тогда уж наоборот!"6 За то Зыбин и под подозрением. За то и арестован. Но даже в тюрьме, измученный "будильниками", он испытывает "великую силу освобождающего презрения! И сразу же отлетели все страхи, и все стало легким. "Так неужели же я в самом деле боялся этих ширмачей?"" Зыбинское инстинктивное сопротивление попыткам унизить и растоптать его свободу не могут сломить ни хам Хрипущин, ни, казалось бы, "тонкий психолог" Тамара Долидзе, ни иезуит Нейман:
Просто когда Хрипушин с руганью бросался на него, как бы сами собой включались ответные силы: верно, это вставал на дыбы и рычал древний пещерный медведь - инстинкт. Этот зверь понимал, что нельзя, чтобы его тут били. Раз ударят, и еще ударят, и тысячу раз ударят, и совсем забьют. Потому что сейчас это не удар даже, а вопрос: "А скажи, нельзя с тобой вот так?" - и ревел в ответ: "Попробуй!"
Он и НКВДешному начальству пишет из камеры записки оскорбительной вежливостью: "Барин пишет дворнику!" - реагирует на тон зыбинских реляций начальник следственного отдела Нейман. Но когда Зыбин понимает, что его могут просто физически раздавить, замучить, запытать, то он - подобно Христу в интерпретации Куторги - сам назначает себе "высшую меру" смертельную сухую голодовку, и тем обретает настолько невозможную свободу, что даже солдат-охранник понимает, "что здесь его власть, и даже не его, а всей системы, - кончилась. Потому что ничего более страшного для этого зэка выдумать она не в состоянии". И в конечном счете, в соединении с мистической логикой системы, последовательно пожирающей самое себя, он побеждает - выходит на волю не сломленным.
Однако, помимо закона и свободы, разворачивается в романе Домбровского и образ третьей силы, силы тиранического режима, "системы", поставившей себя выше и закона, и личной свободы. Домбровский и его alter ego, Зыбин, отлично понимают, что ничего нового в сталинском терроре нет. Зыбин на протяжении всего романа встраивает сталинский режим в контекст подобных ему периодов беззакония - от римских диктаторов до испанской инквизиции и французской революции. Уже в первой части ФНВ, "Хранителе древностей", содержалась красноречивая характеристика забытого римского императора Аврелиана, который, с одной стороны, "вернул мир снова под власть Рима", "был великим государем и полководцем", а с другой - "отличался такой жестокостью, что выдвигал против многих вымышленные обвинения в заговоре, чтоб получить легкую возможность их казнить...был не только жесток, он был еще и суеверно жесток". Но что же остается от него по истечении веков, какой приговор оседает в анналах истории? ""Ловкое и счастливое чудовище", человек без веры, стыда и чести" (Вольтер).
...Я беру в руки монету. На ней погрудное изображение зрелого, сильного воина восточного типа с пышными и, наверное, очень жесткими усами. Черты лица четкие и резкие. На голове шлем. Царь и воин...("Царь Ирод", - сказал дед. ) Зачем он только приказал именовать себя еще и "Деосом"? Ну пускай бы заставлял петь, а то "бог и хозяин"!
"Взвешен и найден слишком легким, - скажет старая весовщица Фемида своей сестре музе Клио. - Возьми, коллега, его себе - его вполне хватит на десяток кандидатских работ".
И это все? Так мало? История сбрасывает со счета тех, кто ничему у нее не учится. "Плеть, начинающая воображать, что она гениальна" (эпиграф из Маркса, взятый к первой части ФНВ), не оставляет в конечном счете ничего, кроме кровавых следов.
Интеллектуальная поэтика романа
Мысль о циклической повторяемости исторически бесплодных периодов тирании звучала бы абстрактно, если бы Домбровский опять-таки не воплотил ее в совершенно уникальном художественном образе сталинского террора, который под его пером приобрел откровенно сюрреальные черты при почти документальной точности изображения.
Это были те самые годы, когда по самым скромным подсчетам число заключенных превысило десять миллионов.
Когда впервые в науке о праве появилось понятие "активное следствие", а спецпрокурорам была спущена шифровка - в пытки не верить, жалобы на них не принимать.
Когда по северным лагерям Востока и Запада пронесся ураган массовых бессудных расстрелов. Обреченных набивали в камеру, но их было столько, что иные, не дождавшись легкой смерти, умирали стоя, и трупы их тоже стояли.
В эти самые годы особенно пышно расцветали парки культуры, особенно часто запускались фейерверки, особенно много строилось каруселей, аттракционов и танцплощадок. И никогда в стране столько не танцевали и не пели, как в те годы. И никогда витрины не были так прекрасны, цены так тверды, а заработки так легки.
Это абсурдистское сочетание кошмара и ликования передает фантомный, иллюзорный характер всей "системы". Фантомность проявляется в том, как реальную психологическую и политическую силу приобретают нелепые слухи: о сбежавшем гигантском удаве (легенда о котором возникла из сочетания жульничества бродячего цирка, с одной стороны, и появления обычного полоза - с другой), о "мече Ильи Муромца" (им оказывается бутафорская шпага), о несметных золотых кладах (формальный повод для дела против Зыбина - а на самом деле речь идет о коробке из-под леденцов с несколькими золотыми бляшками), о вредительском заражении клещом или смертоносной бактерией, равной по своей разрушительной силе библейской саранче, о близкой амнистии (уже в лагерях)...В равной мере, жертвы системы и ее слуги ощущают жуткую, иррациональную мистику эпохи. в обычной фольклорной колыбельной Зыбину слышится "пафос пустоты...непроглядная тьма, и из этой тьмы раздаются разные звериные голоса". Корнилов ловит себя на ощущении, что "все показалось ему смутным, как сон. Он даже вздрогнул". И Тамара Долидзе, оказавшись на месте своей работы, к которой она четыре года готовилась, бывала на практике и т. п. , "несмотря на это что она увидела за эти два дня, поразило ее своей фантастичностью, неправдоподобностью, привкусом какого-то кошмара".
Вообще именно "специалисты", от имени режима верщащие суд и расправу, острее всего чувствуют миражную, фиктивную природу своей необозримой власти. "Здесь люди быстро пропадали. Был - и нет. И никто не вспомнит. И было в этом что-то совершенно мистическое, никогда не постижимое до конца или неотвратимое, как рок..." Недаром в глазах Неймана, этого "мясника с лицом младенца", не переносящего вида крови "безвредного еврея", застряло "выражение хорошо устоявшегося ужаса" (этот оборот несколько раз повторяется на страницах романа). А лицо другого НКВД-шного начальника Гуляева "было совершенно пусто и черно". И даже кузен Неймана, преуспевающий московский писатель от НКВД Роман Штерн, "Ромка-фомка ласковая смерть", как называют его "покойнички", по-своему блестящий циник, исповедуется перед братцем, пытаясь выговорить все то же - сосущую, изматывающую пустоту и заведомо несбыточную мечту об "освобождении от всего моего!" И в зоне сумеречного сознания, между сном и явью, разумом и безумием, побывает не только измученный допросами и голодовкой Зыбин, но и следователи Тамара Долидзе, Нейман, завербованный НКВД в осведомители Корнилов.
Домбровский придает этой псевдореальности отчетливо мифологические черты. Дважды, с ритуальной обязательностью, повторится, в сущности, один и тот же эпизод: неофит, невозвратимо втянутый в этот мир, обнаруживает свое исчезновение. "Он умер и сейчас же открыл глаза. Но он был уже мертвец и глядел как мертвец" (курсив автора) - этой цитатой из гоголевской "Страшной мести" (эпиграф ко второй части романа) обозначено превращение умного и независимого Владимира Корнилова в штатного осведомителя НКВД по кличке "Овод". "Она подошла к зеркалу, взглянула на себя и, отойдя, сразу забыла свое лицо" (курсив автора) - этот перифраз цитаты из Послания Иакова, вынесенной в эпиграф к четвертой части романа ("Он посмотрел на себя [в зеркало], отошел и тотчас забыл, каков он") возникает в тексте романа в тот момент, когда Тамара Долидзе после разговора с Каландарашвили понимает, что именно скрывается за романтикой "борьбы с шпионами", приведшей ее из ГИТИСа в ряды НКВД.
Есть в романе и образы-символы, воплощающие ирреальную мертвенную силу "системы". Машинистка из канцелярии НКВД "мадам Смерть" и тонкая, ботичеллевской красоты, врач-"березка", прославившаяся рацпредложением переливать трупную кровь живым, символизируют какую-то извращенную выморочную форму существования, сюрреальную антижизнь. Не случайно эти женщины - в мире ФНВ именно женщины воплощают непобедимое могущество жизни - даже убитые, униженные, изнасилованные, они продолжают поражать сияющей, такой "ясной смертной красотой, такой спокойной ясностью преодоленной жизни и всей легчайшей шелухи, что он почувствовал, как холодная дрожь пробежала и шевельнула его волосы"7.
Почему же так ирреален этот мир, несмотря на всю мощь, всю власть, весь страх? По Домбровскому, он не может не быть фиктивным и иллюзорным, ибо тоталитарная система отрицает две главные ценности человеческой цивилизации: закон (государство) я свободу (личность). Это мир без почвы под ногами, это регулярно повторяющееся безумие цивилизации ("плеть начинает воображать, что она гениальна"), и потому он обречен на самоуничтожение и историческую бесплодность. Это хорошо понимает Зыбин. Нейман вспоминает, что когда Хрипушин на допросе начал что-то говорить Зыбину о Родине, об Отчизне, тот вспылил:
Родина, Отчизна! Что вы мне толкуете о них? Не было у вас ни Родины, ни Отчизны и быть не может. Помните, Пушкин написал о Мазепе, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу и нет Отчизны для него. Вот! Кто свободу презирает, тому и Отчизны не надо. Потому что Отчизна без свободы та же тюрьма или следственный корпус.
А о том, во что превращается Отчизна-тюрьма, если в ней нет закона, говорит старик Каландарашвили, познавший все бездны лагерного ада:
...приказ? Закон? Пункт сторожевого устава? Или сумасшедший из смирительной рубашки выскочил да и начал рубить направо и налево? Не знаю да и знать не хочу. Знаю только, что такого быть не может, а оно есть. Значит, бред, белая горячка. Только не человека, а чего-то более сложного. Может быть, всего человечества.
Философия закона и свободы. Стоицизм
Вся философия романа строится на глубочайшей вере в нераздельность закона и свободы. Причем закон понимается Домбровским вне какого-то бы ни было религиозного значения, а как наиболее рациональные и гибкие формы контроля над свободой индивидуальностей (в том числе и властителей), отложившиеся в структуре различных государственных систем, истории права, юриспруденции как науки. Но что делать, если государство ставит себя вне закона? В данном случае Домбровский следует за Сенекой8. Андрей Куторга так излагает суть его учения: "Сенека понимал: раз так, надо опираться не на народ - его нет, не на государя - его тоже нет, не на государство - оно только понятие, а на человека, на своего ближнего, потому что вот он-то и есть, и он всегда рядом с тобой: плебей, вольноотпущенник, раб, жена раба. Не поэт, не герой, а голый человек на голой земле". В этом случае человек сам себе становится государством и добровольно следует законам, воспринятым им из опыта человеческой цивилизации. Так на первый план выходит нравственный закон. В камере, перед допросами, споря с опытным лагерником, убеждающим Зыбина что нет смысла сопротивляться, все равно сломают, лучше сразу подписать все, что потребуют, Зыбин отвечает так:
...Я - боюсь больше всего потерять покой. Все остальное я так или этак переживу, а тут уж мне, верно, каюк, карачун! Я совершенно не уверен, выйду ли я отсюда, но если уж выйду, то плюну на все, что я здесь пережил и видел, и забуду их, чертей, на веки вечные, потому что буду жить спокойно, сам по себе, не боясь, что у них в руках осталось что-то такое, что каждую минуту может меня прихлопнуть железкой, как крысу. Ну а если я не выйду...Что ж? "Потомство - строгий судья!" И вот этого-то судью я боюсь по-настоящему! Понимаете!
Именно благодаря этим внутренним (рациональным) ограничителям - закону для себя! - Зыбину удается отстоять свою свободу. Однако Зыбин не "голый человек на голой земле". Эта характеристика скорее подходит его палачам, причем оказывается, что "голый человек на голой земле" не в состоянии сохранить свою человечность, а превращается в монстра, контролируемого безумной машиной (само)уничтожения. Еще в "Хранителе древностей" Зыбин размышлял о том, что "главное свойство любого деспота, очевидно, и есть его страшная близорукость. Неисторичность его сознания, что ли? Он весь тютелька в тютельку умещается в рамку своей жизни. Видеть дальше своей могилы ему не дано". Зыбина, напротив, отличает повышенная историчность сознания, он хранитель интеллектуального опыта цивилизации - ее опыта, знаний, горьких и радостных уроков. Именно отсюда он черпает материал для своего "закона". Именно на этой почве зиждется его понимание онтологической пустоты и бесплодности буйствующего вокруг него кошмара истории. Именно на фундаменте этого знания строится его свобода. И именно в этом историческое значение его личного противостояния системе, противостояния, казалось бы, ничего в "большом мире" не изменившего.
Как отмечает Дж. Вудворд, восприятие истории Зыбиным со-падает со стоической философией, представляющей историю как цепь циклически повторяющихся событий, среди которых немалое место занимают "пожарища" (ecpyrosis), возникающие в результате торжества иррациональных сил вселенной над силами разума. Однако стоики верили и в то, что "людям разума суждено пережить "пожарища" как хранителям тех божественных творческих сил, которые воздвигнут заново разрушенный мир и тем самым начнут новый исторический цикл"9. В этом смысле Зыбин подобен не только другому "хранителю древностей" Кастанье, скромному учителю французского в кадетском корпусе, воссоздавшему историю Семиречья, но и архитектору Зенкову, отстроившему заново Алма-Ату после великого (десять баллов!) землетрясения 1911 года. Об этих людях рассказывается в самом начале "Хранителя древностей", но символический смысл этих, казалось бы, посторонних романному сюжету жизнеописаний становится ясным только в масштабе всей романной конструкции.
Система характеров
Философская, фатальная неразделимость свободы (вольной, иррациональной) и закона (разумного, памятливого, цивилизованного) доказывается Домбровским не только позитивно - через Зыбина, но и негативно - через историю Корнилова. Корнилов чрезвычайно близок Зыбину, настолько, что иногда кажется его двойником: у них общее детство, общая судьба (ссыльные в Алма-Ате), общая органическая несовместимость с режимом. У Корнилова, как и у Зыбина, есть острое чувство истории. В "Хранителе древностей" Зыбин поражен тем, как под пальцами Корнилова археологическая бляшка "заговорила формой, весом, глифом поверхности, своим химическим составом. <…> Я не мог отделаться от впечатления (и потом, когда я вспоминал, оно становилось все сильнее и сильнее), что Корнилов чувствует незримую радиацию, звучание, разность температур, исходящую от этой крохотной пластинки". Да, у него есть чувство истории, но нет присущего Зыбину осознания исторической эпохи. Поэтому он переоценивает свою свободу. Ему кажется, что он, умный и талантливый человек, может переиграть, перехитрить эту свору облеченных властью подонков и недоучек. Он не догадывается, что нельзя перехитрить дьявола и невозможно торговаться с бездной. Он не видит иррациональной природы происходящей истории ской катастрофы и пытается выстроить с ней более или менр разумные отношения: он жертвует малой толикой своей свободы (соглашается один только раз побыть тайным осведомителем и не против, а в пользу Куторги), а НКВД в ответ отпускает его на все четыре стороны как лояльного советского гражданина. Однако, согласившись поступиться своей свободой, он тут же попадает в примитивную ловушку, превращающую его в один из инструментов тотального беззакония.
Вообще система характеров ФНВ строится так, что все центральные персонажи окружены более или менее подобными или, наоборот, контрастными "двойниками", подчеркивающими непредрешенность совершаемого выбора и в пределе очерчивающими максимально широкий спектр философских и исторических вариантов поведения в "предлагаемых обстоятельствах". Так, Зыбин, помимо Корнилова, оттенен художником Калмыковым, который в свою очередь "запараллелен" с Куторгой. Если Корнилов проигрывает свою жизнь и свободу, потому что пытается сторговаться с системой тотального беззакония, то Калмыков демонстрирует восхищающий Зыбина пример абсолютной духовной независимости: "Положительно только к нему одному из всех известных Зыбину художников, поэтов, философов, больших и малых, удачливых и нет, он мог с таким полным правом отнести пушкинское: "Ты царь - живи один"". Причем если свобода самого Зыбина укоренена в истории, то духовная независимость Калмыкова нашла опору непосредственно в вечности. Он даже одет в яркие, фантастической расцветки, одежды "не для людей, а для Галактики". На его картинах исчезает время, и трактор ЧТЗ прямиком въезжает в арку Млечного пути. Оборотная сторона этой абсолютной свободы, "прописанной" в вечности поверх страшного времени, обнажается в позиции Куторги: с жаром и тонким проникновением рассуждая о страданиях Христа, он тем не менее без колебаний пишет требуемые от него доносы: "Богу - богово, а кесарю - кесарево". Оказывается, с высоты вечности (и абсолютной свободы) можно безразлично соучаствовать в беззакониях дня сегодняшнего? Для Зыбина, понятно, эта позиция неприемлема, и его вовлеченность в историю оборачивается мерой его нравственной ответственности, мерой его внутреннего закона.
Аналогичным образом, характер Неймана окружен двумя двойниками: с одной стороны, тупым палачом Хрипушиным, который в разгар террора чувствует себя нужным и успешливым, как никогда; и Романом Штерном, с другой стороны, умным циником, не строящим иллюзий относительно собственной устойчивости и возможности избежать судьбы своих теперешних жертв. Лина "запараллелена" с девушкой "с кудряшечками" из рассказа Штерна, женой арестованного журналиста, которая сначала в ответ на добродушное предложение следователя поскорей опять выходить замуж отвечает: "А что вы с моим вторым мужем сделаете?" а потом бросается под поезд. Мраморный памятник "утопленнице" на кладбище в Крыму, окруженный романтической легендой, которая не имеет ничего общего с прозаической действительностью (не утопилась от большой любви, а умерла от стрептококковой ангины), отзовется в образе появляющейся в конце романа безымянной утопленницы, покончившей с собой в ответ на насилие (политическое или какое другое, неизвестно). Даже опытный лагерник Буддо, поучающий Зыбина не выбирать средств в борьбе за выживание, контрастно сопоставлен с таким же старым лагерником Каландрашвили, напротив, так и не согнувшимся: даже после своего чудесного освобождения (по личному приказу товарища Сталина) он продолжает бесстрашно говорить о том, что он и видел, и понял, да так что Тамара только мысленно охает: "Так как же его освобождать?. . Ведь он так будет ходить и рассказывать. Тут и расписка о неразглашении ни к чему".
Такая система образов стягивает контрастными связками или соотносит по принципу дополнительности далеко отстоящие друг от друга эпизоды дилогии, придавая пространному романному сюжету, насыщенному деталями и лицами, четкость этической теоремы. В то же время эти контрастные и подобные варианты человеческого поведения в сходных обстоятельствах придают предельно локальной истории несостоявшегося периферийного процесса против врагов народа значение философской метафоры, универсальной по охвату явлений притчи, современного мифа о свободе, законе и тирании10.
Примечания
1 С. Пискунова и В. Пискунов отмечают, что первый вариант "Хранителя" был написан еще в 1939 году (Пискунова С. , Пискунов В. Эстетика свободы // Звезда. - 1990. - No 1. - С. 172).
2 Единственную рецензию "Говорящая древность", написанную Игорем Золотусским, высоко оценившую роман и напечатанную в далеком от центра журнале "Сибирские огни" (1965. - No 10), можно также считать фактом историческим" (Непомнящий В. Homo Liber (Юрий Домбровский) // Домбровский Ю. Хранитель древностей: Роман. Новеллы. Эссе. - М. , 1991. - С. 3).
3 Пискунова С. , Пискунов В. Эстетика свободы. - С. 180.
4 Woodward James. The "Cosmic" Vision of Iurii Dombrovskii: His Novel "Fakul tet nenuzhnykh veshchei" // The Modern Language Review. Belfast. - Vol. 87. - No. 4. -" 1992, October. - P. 899.
5 А. Зверев считает, что анализирующие новозаветную историю Куторга и Корнилов "пытаются найти оправдание тому, что сделали. Не об Иуде у них речь, а о самих себе" (Зверев А. "Глубокий колодец свободы...": Над страницами Юрия Домбровского // Лит. обозрение. - 1989. - No 4. - С. 14). Однако, думается, правы С. Пискунова и В. Пискунов, оспаривающие эту точку зрения: "Совсем иное дело - Домбровский, не только не утративший связи с традициями русской полифонической прозы XIX - начала XX столетия, но и прошедший - в период работы над "Державиным" - отличную выучку у барочных авторов, которые прекрасно знали, что устами дьявола, случается, говорит и Бог. Для них был важен процесс рождения истины, открывающейся - по закону благодати - грешнику, который достиг самого дна своего падения. Таков и Куторга Домбровского, как никто знающий, что значит быть в шкуре "тайного осведомителя" (положение Иуды, с его точки зрения, было проще и определеннее!)" (Пискунова С. , Пискунов В. Эстетика свободы. - С. 175).
6 Предлагаемая Куторгой интерпретация христианства, по сути дела, антирелигиозна, так как строится на подчеркнутом отрицании божественного знания Христа: "...Даже бог не посмел - слышите, не посмел простить людей с неба. Потому что цена такому прощению была бы грош. Нет, ты сойди со своих синайских высот, влезь в подлую рабскую шкуру, проживи и проработай тридцать три года плотником в маленьком грязном городишке, испытай все, что жет только человек испытать от людей, и когда они, поизмывавшись над тобой вволю, исхлещут тебя бичами и скорпионами - а знаете, как били? Цепочками с шариками на концах! Били так, что обнажались внутренности. Так вот, когда тебя эдак изорвут бичами, а потом подтянут на канате да и приколотят - голого-голого! - к столбу на срам и потеху, вот тогда с этого проклятого дерева и спроси себя: а теперь любишь ты людей по-прежнему или нет? И если и тогда скажешь: "Да, люблю и сейчас! И таких! Все равно люблю!" - то тогда и прости!"
7 Женскую параллель к характеру Зыбина образует в романе красавица Полина, в которую Зыбин влюблен и которая Зыбина не предает. Показательно такое описание: Нейман "ее сейчас по-настоящему ненавидел! За все: за то, что она сидела слишком вольно, что сейчас же воспользовалась разрешением курить и курила так, как в этом кабинете, кажется, еще никто до нее не курил - откинув легкий локоть и легко стряхивая пепел в панцирь черепахи его ей поднес прокурор, за взгляд, который она бросила на него, за прямую и открытую несовместимость с этой комнатой".
8 Созданный Домбровским сюрреальный образ "системы" напрямую перекликается с постмодернистской мифологемой агрессивной пустоты: "Она [пустота] прилипла, срослась, сосет бытие, ее могучая, липкая тошнотворная антиэнергия взята из переведения в себя, подобно вампиризму, энергии, которая пустоту отнимает, вынимает из окружающего ее бытия" (Кабаков И. О пустоте // Кабаков Илья. Жизнь мух / Kabakov flya. Das Leben der Fliegen. Edition Cantz, 2- - S. 84). В сущности, постмодернистская мифология пустоты/смерти (см. далее главы о "Пушкинском доме" А. Битова, "Москве Петушках" Вен. Ерофеев, романах Саши Соколова, а также о Пригове, Пелевине, Сорокине, Садур) представляется прямым развитием сюрреализма террора, лишь освобожденным от чсторической конкретики.
9 Близость нравственной философии Домбровского стоицизму Сенеки убедительно доказана Дж. Вудвордом в статье: Woodward James. A Russian Stoic:A Note on the Religious Faith in Jurij Dombrovskij // Scando-Slavica. - 1992. - Т. 38. - Р. 33-45.
10 Woodward James. Op. cit. - Р. 44.
11 Это мифологическое измерение романа служит органичной мотивировкой для "чуда" спасения, которое повторяется по крайней мере дважды. Спасается Зыбин, потому что, пока он борется со следствием, снимают Ежова, а вместе с ним и все республиканское начальство НКВД. Чудесно спасается и Нейман: зная о том, что его должны арестовать, он проводит ночь где-то в степи, далеко от города, рядом с трупом девушки-самоубийцы, где он переживает внутреннее потрясение, впервые в жизни чувствуя раскаяние, за что чудесно вознагражден: буфетчица, у которой он ночует, вручает ему жестянку с археологическим золотом, вокруг которого