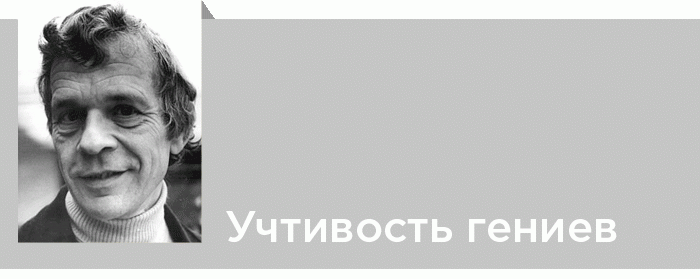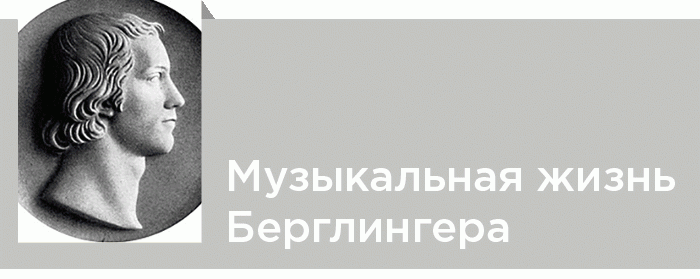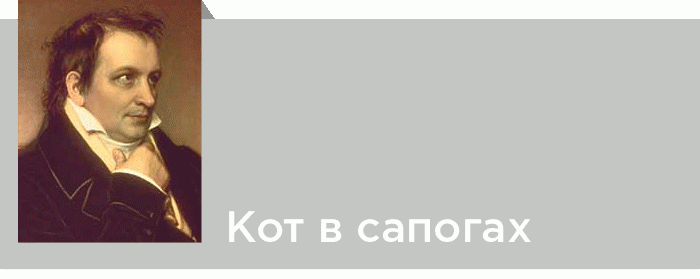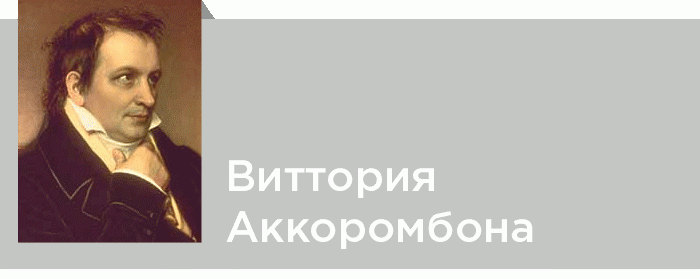Романтическая ирония в комедии Л. Тика «Кот в сапогах»

К. Р. Матинян
Наиболее удачной из всех созданных Тиком пьес является комедия «Кот в сапогах» — «один из самых свежих цветков юмора Тика». Написанная в
Когда в критике заходит речь о влиянии на Тика-комедиографа: европейских классиков, обычно называют имена Аристофана, У. Шекспира, Б. Джонсона, К. Гоцци. Однако уместно вспомнить в этой связи слова видной исследовательницы творчества Тика М. Тальман, которая, говоря об очевидности этого влияния, все же подчеркивает, что пьесы Тика не столь ординарны, чтобы рассматривать их всего лишь как сумму двух-трех источников.
Задача данной статьи — выявить специфику художественного функционирования принципа романтической иронии в комедии Тика.
В основе комедии «Кот в сапогах» лежит известная одноименная сказка Ш. Перро, но цель Тика — не инсценировка этой сказки, а сатирическое представление ее на сцене одного из берлинских театров. В структуре пьесы прослеживаются две основные линии: первая — так называемая «игра с игрой», вторая — последовательное нарушение иллюзии театрального правдоподобия.
Игру Тик провозглашает суверенным делом поэта. В разговорах «Фантазуса», обосновывая принцип «игры с игрой», Тик описывает его как «циркульную линию, которая ведет не к чему иному, как к себе самой». Именно на этом принципе построена вся пьеса.
Действующих лиц комедии можно разделить на три группы: а) актеры на сцене; б) зрители в партере; в) закулисные персонажи. Но такая классификация в то же время и условна, так как по ходу пьесы мы постоянно становимся свидетелями то смешения ролей, то выпадения отдельных героев из роли, а то и полного хаоса, где трудна разобраться, «кто есть кто».
При открытии занавеса перед нами предстает «вторая» сцена с расположенным напротив нее партером. Развитие основного действия пьесы — сказочного сюжета, разыгрываемого на этой «второй» или, скажем для большей рельефности, «внутренней» сцене, почти беспрерывно сопровождается непосредственной зрительской реакцией. Определение «основное» здесь очень условно, так как «действие» в партере несет на себе не только равную, но, пожалуй, даже большую смысловую и композиционную нагрузку. Поэтому неудивительно, что в прологе первыми в «действие» вступают зрители партера. Еще будучи незнакомыми с содержанием предстоящей пьесы, они уже только в одном ее названии усматривают угрозу «хорошему вкусу», ради которого и пришли в театр. Требование «хорошего вкуса» остается ведущим мотивом в течение всего спектакля.
Перед нами — как «настоящими» зрителями — идет сплошная игра: на сцене, за сценой, в партере, между сценой и партером. В игру вовлечены буквально все: зритель и поэт, шут и машинист, актеры и суфлер. При этом действующие лица внутренней сцены и мнимая публика, сидящая в партере, не только реагируют друг на друга, но и вступают в активный контакт. Оба эти плача так переплетены, что представляется невозможным провести четкие грани между ними. Это можно проследить на примере такого приема, как дублирование вопросительных реплик. Дабы подчеркнуть неспособность филистеров к восприятию сказочной фантастики, Тик показывает их замедленную реакцию на перипетии сказочного сюжета. Стоит Готлибу выразить свое удивление по поводу того, что кот Гинце говорит человеческим голосом, как один из ревностных почитателей «настоящего искусства» сразу вторит ему из партера: «Кот говорит? Что же это такое?». Почти то же самое повторяется в королевском дворце, где приехавший из чужой страны принц Натанаэль свободно изъясняется на местном языке, чем приводит в изумление короля. После настоятельных просьб принца не поднимать из-за этого шума король, наконец, смиряется, но подобную «неестественность» уже успела заметить публика! Один из зрителей партера негодует по поводу того, что король пошел на компромисс с принцем, другой требует немедленно исправить допущенную ошибку и приставить к принцу переводчика.
Западногерманская исследовательница И. Штрошнайдер-Корс пишет: «Этот осознанно предложенный принцип игры... и очень своеобразное обращение с иллюзией бесспорно относятся к области романтической иронии».
Большинство немецких исследователей (Г. Геттнер, Р. Гайм, Г. Фогт и другие) вполне справедливо считают комедию «Кот в сапогах» практическим художественным воплощением шлегелевской теории романтической иронии. У Ф. Шлегеля, а именно в его 42-м ликейском фрагменте, читаем: «Существуют древние и новые произведения, во всей своей сути проникнутые духом иронии. В них живет дух подлинной трансцендентальной буффонады». Или в другом месте: «Ирония есть ясное осознание вечной изменчивости, бесконечно полного хаоса». Эти идеи очень созвучны духу и атмосфере тиковской комедии. Однако здесь требуется некоторое уточнение. Многогранность понятия «романтическая ирония», невозможность его однозначной дефиниции (даже в отдельно взятых философско-эстетической и литературной областях) создают определенные сложности для прямого проецирования теории Ф. Шлигеля на художественную практику Тика.
Дело в том, что Ф. Шлегель, как и К. В. Зольгер, видел иронию прежде всего в трагических произведениях или, во всяком случае, в произведениях, которые романтики называли «возвышенными». Поэтому неудивительно, что, касаясь в своем 307-м атенейском фрагменте комедии «Кот в сапогах», он ни слова не говорит об иронии. Более того, Ф. Шлегель никогда не применяет термин «ирония» к комедиям вообще и к таковским в частности. Интересно, что и сам Тик «выбирает совершенно другие свои произведения для иллюстрации концепции иронии Ф. Шлегеля».
Л. Тик обращал внимание на то, что «бесконечно трудно выразить понятие иронии в одной определенной формуле» и что «в большинстве случаев ирония трактуется очень односторонне». Что касается иронии, которая воплотилась в «Коте в сапогах», автор пишет о ней так: «Ирония, о которой я говорю, это не издевка, не глумление, не насмешка или еще что-то в этом роде, как некоторые склонны считать, а скорее глубочайшая серьезность, которая в то же время связана с истинной веселостью. Она не есть нечто отрицательное, наоборот, — это нечто вполне положительное».
Объектом такого «серьезного смеха» в комедии Тика являются, с одной стороны, авторы тривиальных «семейных» драм А. В. Ифланд и А. фон Коцебу, а с другой — их горячие поклонники, берлинская филистерская публика.
Принципы творчества Ифланда и Коцебу и подобных им эпигонов Просвещения восходят к драматургии Г.-Э. Лессинга («Эмилия Галотти»), И.-Ф. Шиллера («Коварство и любовь»), И.-В. Гёте («Клавиго», «Стелла»), Но Коцебу и Ифланд сузили рамки драмы, почти полностью лишив ее социального звучания и сделав основной акцент на проповеди бюргерской морали, семейной добродетели.
Уже в прологе тиковской комедии «просвещенная» публика недвусмысленно дает понять, чего она, собственно, ждет от театра и что ей необходимо «для сердца, для воображения». Один из зрителей громогласно и претенциозно заявляет: «Мы хотим видеть настоящую пьесу со вкусом». Автор пьесы (по всей видимости, романтик) в недоумении, он пытается выяснить, что же подразумевают зрители под хорошим вкусом. И тут второй голос из партера растолковывает ему: «Семейные истории... обольщения... крестьянин и крестьянка — что-нибудь в этом духе».
Тик лично был знаком с Ифландом, даже состоял с ним в переписке. И хотя он немало ценил его как талантливого актера, все же не мог не отметить, что Ифланд значительно уступает своему предшественнику Ф.-Л. Шредеру. Ему не хватало того эмоционального огня и той глубины проникновения в роль, которые были свойственны Шредеру. Главным коньком Ифланда были виртуозное владение актерской техникой, тщательная обработка самых мелких деталей игры. Он любил создавать эффект или оригинальным костюмом, или прекрасно отшлифованной жестикуляцией. Все это не оставалось вне поля зрения Тика, найдя свое отражение в комедии. В выведенном им образе одного из зрителей партера Беттигера берлинской театральной публике нетрудно было узнать К. А. Беттигера — автора нашумевшего в то время опуса об Ифланде. В своих дифирамбах в адрес Ифланда Беттигер основной акцент ставил на самых малозначительных, не имеющих прямого отношения к искусству деталях. Именно это становится предметом пародии у Тика. «Критик» из партера — Беттихер — по ходу развития действия на «внутренней» сцене пытается делать кое-какие замечания по поводу постановки. «Наблюдения» его крайне глупы и нелепы. Ему кажется весьма существенным, что сапоги коту очень к лицу, зато пьеса много теряет оттого, что король неправильно держит в руках кролика и т. п. Таким образом, Ифланд дважды становится объектом пародии Тика: и как драматург, и как актер.
Ирония, которая в данном случае выражена в форме литературной пародии, тяготеет у Тика к сатире. Но какой бы ни была его сатира — социально-политической или литературной, — Тик везде играет и с ней. В кажущуюся на первый взгляд острой сатирическую ситуацию внезапно врывается озорная веселость молодого поэта, превращая сатиру в некий род забавы либо отодвигая ее на задний план.
Тем не менее существует очевидное противоречие между таковскими автокомментариями к комедии и ее объективным сатирическим смыслом. Тик наслаивал, что его пьеса является всего лишь безобидной поэтической шуткой. Он утверждал, что ставил целью не «унизить кого-либо», а всего лишь посмеяться над глупостью, пошлостью и безвкусицей. В другом месте Тик писал о своей комедии: «Это веселая комедия, вся из пены и легкой шутки, к которой не надо относиться серьезнее, чем того хотел автор; это нечто истинно веселое и странное, напоминающее «Итальянский театр» Герарди, в котором, по моему мнению, в шутливой форме весь мир как бы становится предметом прелестной пародии». Однако не таким уж «безобидным» было пародийное и сатирическое звучание комедии в свое время, если Г. Гейне написал о ней: «Литературная полемика, которую господин Тик в драматической форме вел с противниками школы, относится к исключительным явлениям нашей литературы».
Тик отмечает, что приемом «разрушения иллюзий» пользовались еще Аристофан, Шекспир, Гёте. Действительно, европейская драматургия знает немало авторов — от Аристофана до Гоцца, — которые еще до Тика прибегали к этому приему. Но почти во всех случаях он не носил целенаправленного характера, являясь как бы «лирическим отступлением», частным случаем, никогда не нарушавшим общий ход драматического действия. И сами эти эпизоды, будучи частицами одного целого, не выпадали из него и были подчинены основной драматической линии.
У Тика дело обстоит совершенно иначе. Развенчивание иллюзия сценического действия вырастает у него в целую систему, причем он часто «изолирует эти моменты и возводит их в абсолют». Такое постоянное и преднамеренное нарушение сценической иллюзии, конечно, не могло не повлиять на всю структуру комедии. В одном из писем К.-В. Зольгеру Тик признавался, что его целью было превратить этот прием в «сквозной принцип».
С элементами разрушения сценической иллюзии мы сталкиваемся уже в прологе комедии. Ламповщик, первым вышедший на шум зрителей, спрашивает, есть ли необходимость вызвать охрану. Вслед за ним, не выходя из-за кулис, в диалог с партером вступает сам автор пьесы, заверяющий публику в том, что действие ее начнется с минуты на минуту. После долгих пререканий с публикой автор добивается разрешения начать действие. Таким образом, мы становимся свидетелями игры, которая, по всей видимости, не имеет вообще никаких правил. Здесь находит свое практическое воплощение постулированный иенскими романтиками тезис о полной творческой свободе художника, ломке всяких канонов и правил, условностей и границ. «Даже самое незначительное ограничение, — отмечал Ф. Шлегель, — лишает настоящую радость ее высокого значения и вместе с тем ее красоты».
С самого начала пьесы выявляется буффонство всего происходящего на внутренней сцене. Актеры, исполняющие роли сказочных героев Перро, выглядят как настоящие марионетки. Им не хватает самоуверенности и того «знания дела», которое присуще сидящим в партере — фиктивным зрителям. Напряженность актеров на внутренней сцене обратно пропорциональна «раскрепощенности» публики, сидящей в партере.
К концу второго акта некоторые актеры не выдерживают этого напряжения. Король бесповоротно сбивается со своей роли и в паническом замешательстве почти без остановок, одну за другой, произносит цитаты то из Шиллера, то из Шекспира и в конце концов отчаянно ударяется в слезы, упрекая себя в провале пьесы. Исследовательница творчества Гофмана H. М. Берновская точно подметила, что «роль иронического заключается в том, чтобы, взорвав ситуацию изнутри, снять напряжение, прервать нарастание в тот момент, когда достигнут предел, резко изменить атмосферу и все происходящее поставить под сомнение».
Стихия разрушения правдоподобия всего, что происходит на сцене, достигает своего апогея в начале третьего акта, когда Тик раскрывает перед зрителями внутренний механизм сцены. Автор пьесы на коленях просит машиниста сцены пустить в ход всю театральную машинерию, если публика, выражая свое недовольство, вновь поднимет шум. В пылу разговора они даже не замечают, что кто-то раньше времени поднял занавес и публика стала свидетелем этой «сцены». Тик подчеркивает тем самым ненадежность не только игры актеров, но и всей театральной техники.
Не успевает третье действие начаться, как Готлиб опять «выпадает» из роли; на сей раз это уже грозит вылиться в полный хаос. Кот Гинце, забыв на время о своей роли кота, призывает Готлиба, как актер актера, взять себя в руки, не то пьеса «разлетится на тысячу мелких частей». Единство драматического действия с этого момента окончательно нарушено. Под сомнение ставится не только сам эпизод, но и вся пьеса. Если в данном случае еще может идти речь о драматическом действии как о чем-то целом, то лишь как о сумме действия (актеров на сцене) и противодействия (публики партера), включая и действия закулисных персонажей, ибо в конечном счете и они способствуют разрушению сценических иллюзий. В этой связи В. Беньямин отмечает: «Иронизирование формы заключается в ее добровольном разрушении, которое среди романтических произведений, да и вообще во всей литературе, в комедиях Тика представлено в самой крайней форме».
Но подобное разрушение не противоречит романтическим установкам Тика. Хаотичность, разорванность, фрагментарность — все это входит в творческий арсенал романтиков. Новалис пишет: «Если в сказку привносить элементы фабульности, то это уже чужеродное тело». И далее: «Ничего не может быть противнее духу сказки, чем нравственный фатум, закономерная связь. В сказке царит подлинная природная анархия. Абстрактный мир, мир сна». И хотя в данном случае мы имеем дело не с «чистой» романтической сказкой, а сказочной драмой, все же это определение вполне подходит и к ней.
Ирония Тика отрицает всякую завершенность и тем самым оказывается внутренним движущим механизмом пьесы. Что касается схематичности образов актеров внутренней сцены и расплывчатости действия, то здесь Тик дает волю игре зрительской фантазии: он приглашает зрителей принять участие в этой веселой игре, где, как и в любой сказке, все неестественное естественно. Продолжая в этом аспекте традиции комедии дель арте, Тик дает полный простор для импровизации.
Однако на этом автор не останавливается. Он добивается того, что действующие лица сказки своими устами подтверждают осознание ими всей условности той игры, в которой они участвуют. Так, Гинце, вмешиваясь в разговор между придворным ученым Леандром и шутом Гансвурстом, помогает последнему выйти победителем в этой полемике. Но, узнав, о чем был спор, Гинце негодует: «Я весь в меланхолии. Я помог глупцу одержать победу над пьесой, в которой я исполняю главную роль».
Сценический гротеск, унаследованный Тиком от Гоцци и возведенный им в абсолют, порой доходит до абсурда. Это в большей степени касается двух следующих его комедий: «Шиворот-навыворот» (1799) и «Принц Цербино, или Путешествие за хорошим вкусом» (1799).
В вопросе о полной творческой свободе художника выявляется явное противоречие в художественной практике Тика. Ф. Шлегель постулировал романтическую иронию как свидетельство свободы художника, но на деле эта ирония оказалась скорее подрывом данной свободы. Об этом наглядно свидетельствуют образы поэтов в тиковских комедиях. В «Коте в сапогах» автор находится в жалком положении. Он вынужден идти на поводу у филистерской публики, подстраиваться под нее. В комедии «Принц Цербино...» герой объявлен сумасшедшим и посажен в тюрьму. Лишь после отречения от всякой поэзии его выпускают на свободу. Не менее драматично положение бога поэзии Аполлона в комедии «Шиворот-навыворот». Скарамуш — явное олицетворение немецкого филистера — сгоняет его с Парнаса, а Пегаса заменяет ослом. Такой иллюзорной оказалась и «свобода» художника. Подобные противоречия в теории и практике весьма характерны для ранних романтиков. Не составляет здесь исключения и творчество Тика, особенно иенского периода.
Таким образом, романтическая ирония в данной комедии Тика находит свою специфику в том, что наряду с утверждением в художественной практике некоторых основных романтических установок (хаотичность, фрагментарность, буффонность и т. д.) она ставит себе целью последовательное и нарочитое разрушение иллюзии театрального правдоподобия. При этом иронизируется не только содержание, но и сама форма, структура произведения. И хотя комедия «Кот в сапогах», содержащая в себе некоторые элементы сатиры, в целом не выходит за рамки литературной пародии, она остается лучшим образцом комедийного жанра в рамках немецкого романтизма, занимая особое место в истории немецкой драматургии.
Л-ра: Вестник МГУ. Серия 9. Филология. – 1985. – № 3. – С. 62-68.
Произведения
Критика