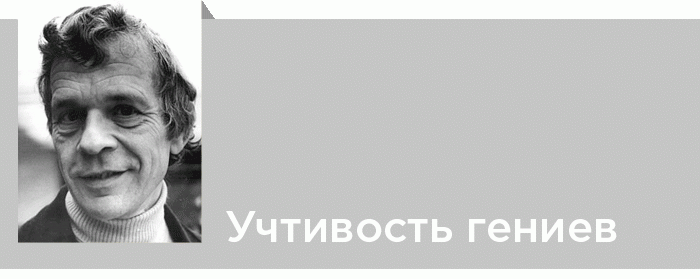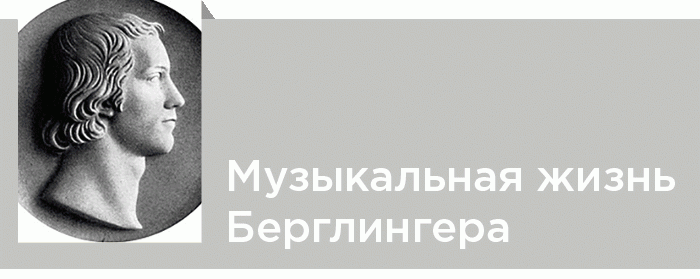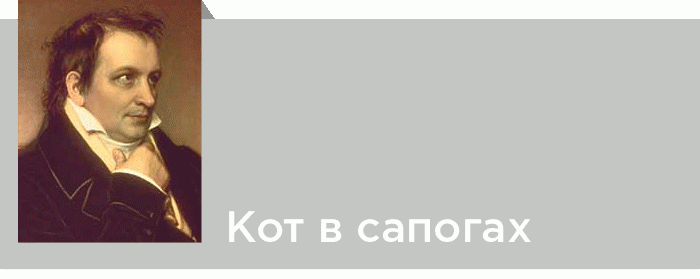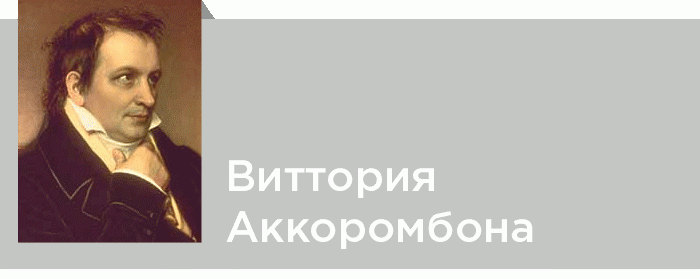Поздняя новеллистика Людвига Тика. Проблема метода и жанра

М. И. Бент
Творчество Л. Тика (1773-1853), одного из главных представителей первого этапа немецкого романтизма (иенский кружок), фигурирует во многих историях литературы в виде «фрагмента». Известен именно «ранний» Тик, автор эксцентрических комедий, а также сказочных новелл «Белокурый Экберт» и «Руненберг». Поздняя новеллистика вспоминается неохотно и вне общей картины художественного развития писателя. Даже в тех редких случаях, когда внимание привлекает более широкий круг произведений, творческий облик Тика-повествователя не обретает цельности, поскольку между ранними и поздними новеллами проводится резкая «цезура». Нередко последние вообще выводятся за рамки романтизма и рассматриваются как образец литературного «бидермайера» (такова точка зрения Н. Я. Берковского).
Между тем поздняя новеллистика Тика может быть правильно понята и оценена именно в контексте общеромантической эволюции. Движение Тика от «Страусовых перьев» к «Фантазусу», а затем к новеллам 20-30-х годов соответствовало фазам становления национальной литературы. Оно демонстрирует тот, теперь уже мало кем оспариваемый факт, что романтизм многими нитями связан с Просвещением и, в свою очередь, вынашивал в своих недрах принципы и приемы грядущего реализма.
Пауза в художественном творчестве Тика (она началась после
Романтизм при своем зарождении характеризовался обостренным интересом к эмансипирующейся личности и одновременно тоской по исчезающей гармонии с миром. Это отразила раннеромантическая теория новеллы, согласно которой «наибольшее повышение субъективности оказывается и наиболее полным выражением универсальности». Романтики следующих поколений в той или иной мере тоже прошли через личностное самоутверждение. Мировоззренческие возможности новеллистической формы, столь важные для иенских теоретиков жанра (Ф. Шлегель и др.), сохраняют свое значение и в дальнейшем. Но мировоззрение романтиков, «творческое» по своей сути, избегавшее всякого догматизма, способствовало развитию и постоянному обновлению жанров — новеллы в том числе.
Вместе с остававшимися в живых соратниками по романтизму, вместе с новым поколением романтических писателей, вместе с философией и эстетикой классико-романтической эпохи (Шеллинг, Зольгер, Гегель) Тик пришел к примирению с действительностью. Этот этап в творчестве писателя открывается в начале 20-х годов, т. е. в разгар Реставрации, в период стабилизации феодально-буржуазных структур в германских государствах. Немецкая романтическая новелла к этому времени уже прошла значительнейшие периоды своей эволюции, которые формировали в повествовательных жанрах черты «открытости», «незавершенности», «непредсказуемости». Теперь как раз эти черты оказываются «несвоевременными», неадекватными романтическому мироощущению. Форма новеллы вновь устремляется к завершению.
Однако не следует думать, что происходит простое совпадение с моделью, вырабатывавшейся тогда же Гёте («Новелла»). Как будет показано в дальнейшем, новеллистическое «ядро», присутствуя во всех новеллах Тика в 20-е годы, сохраняя свои жанрообразующие свойства, конструируя фабулу, утрачивает в то же время значительность, интерес перемещается в сферу характеров, психологии, обстоятельств, что, в свою очередь, сказывается на таких элементарных внешних признаках, как объем. Разрастание новеллы отразило процесс освоения действительности, как это происходило и с другими жанровыми признаками в творчестве разных писателей-романтиков.
Сходство намерений Гёте и Тика, создавших в конце 20-х годов свои «канонические» образцы новеллы, на самом деле было мнимым. «Образцовая» новелла Тика «Дикая англичанка» включена в более обширное и аморфное повествование («Заколдованный замок»), причем именно тривиальное содержание этого последнего как раз и выражает существо современности, тогда как новелла об идеальной героине — всего лишь объект эстетического гурманства для просвещенных мещан.
Гёте в «Новелле» (и других итоговых произведениях) стремился создать упорядоченную картину мира, включая природу, человека, историю. Тик может предложить лишь воспитательный «пример». И дело не в различии масштабов дарования. Новая, послереволюционная эпоха не поддавалась схематизации. Гёте пытался охватить ее средствами своего «просветительского универсализма». Но предложенная им жанровая модель оказалась бесперспективной. Что касается Тика, то созданный им образец резюмировал идейные и творческие позиции автора в 20-е годы. Тик считал, что новелла призвана «разрешать жизненные противоречия, разъяснять капризы судьбы, вышучивать одержимость страстью», сглаживать, гармонизировать неизбежные в жизни аномалии. В то же время притязания действительности размывают этот «образец».
Обращаясь к новеллистике Тика 20-30-х годов, мы оказываемся в атмосфере «бидермайера», литературную продукцию которого Б. фон Визе характеризовал как «немецкую поэзию в двенадцатую долю листа». Тон задают альманахи карманного формата, в компактном виде содержащие разнообразную, пеструю информацию, чувствительную поэзию, назидательную и развлекательную беллетристику. Среди жанров последней исключительное, важнейшее место принадлежит новелле. Появилось множество ее разновидностей: салонная, пейзажная, путевая, историческая, бытовая и мн. др. Все пишут новеллы, жалуется Грильпарцер, новелла становится немецким «домашним животным», «и в качестве такового призвана играть роль высшей формы искусства», констатирует Т. Мундт. Тривиальный в прошлом жанр, артистически «возвышенный» Гёте, наполнившийся глубоким философским, социальным, историческим содержанием у романтиков, вновь тривиализируется в ходе самой романтической эволюции, деградирует порой до уровня коммерческой продукции.
Жанр новеллы, естественно, трансформировался в соответствии с потребностями содержания. Ф. Зенгле, полемически утверждая, что подъем немецкой новеллы следует датировать не «Разговорами немецких беженцев» Гёте, а поздними новеллами Тика, подчеркивает: «Кто хочет понять новеллу бидермайера, должен сначала забыть все, что ему известно о сущности новеллы». В самом деле, уже объем колеблется в громадном диапазоне, видоизменяются или утрачиваются считавшиеся каноническими признаки. Но никакой внезапности здесь не было. Нельзя, например, сказать, что Тик «открыл» новую разновидность новеллы. Она подготавливалась всем прежним развитием жанра — теми возможностями, которые содержала новелла XVIII в. (в том числе и новелла «Страусовых перьев»); опытом Гёте-новеллиста; проблемами, которые были поставлены романтиками второго поколения; их же увлечением сенсационно-авантюрными сюжетами в конце 10-х — начале 20-х годов и т. п.
Не приходится сомневаться, однако, в том, что немецкая литература (новеллистика — в наибольшей степени) проникается теперь тем пониманием связи личности и общества, вниманием к деталям быта и психологии, которые свидетельствовали о «прорастании» сквозь романтическую поэтику реалистических тенденций. И этот процесс был глубоко закономерным, он отражал типологию европейского литературного развития. В Германии «прозаической формой, изображавшей действительность», оказалась новелла, противостоявшая романтическому роману. В других странах Европы такой формой стал реалистический роман, для появления которого немецкая литература этого времени не имела условий.
Стремясь выявить тенденции развития жанра и у самого Тика и в немецкой прозе 20-30-х годов вообще, мы обратимся к произведениям, которые не только наглядно демонстрируют обновленные поэтические средства тогдашней новеллистики, но и позволяют увидеть обусловленность этих средств изменившимся мироощущением, иным характером самой действительности, закономерным движением к реализму.
Целесообразно начать с большой новеллы «Таинственный» (1821), примыкающей к той традиции, которая заявила о себе в некоторых произведениях конца 10-х годов («Странная встреча и последнее свидание» Арнима, «Взаимозависимость событий» Гофмана). Бурные перемены, связанные с наполеоновскими войнами, способствовали возникновению «новеллистических» ситуаций; типичными становятся эпизоды разлуки, встречи, узнавания, роковые повороты судьбы. Одновременно чисто количественный рост подобных событий в рамках биографии одних и тех же действующих лиц ведет к разрастанию новеллы, к ревизии сложившихся композиционных приемов. Новелла перестает быть только эпизодом, имеющим свою кульминацию, хотя и остается эпизодом, частью более обширной — за пределами сюжета — биографии. Все новые и новые обстоятельства, лица, пересекающиеся сюжетные линии, разговоры и т. п. тормозят развитие действия и одновременно обогащают его жизнеподобием, устраняя обнаженную фабульность. Возникает необходимость обращаться к приемам и средствам романного повествования. При этом (как то одновременно имело место у В. Скотта) используются самые разные образцы: Сервантес и «плутовской роман», «комические эпопеи» Филдинга и «Вильгельм Мейстер», «готический», разбойничий роман и др.
Рассматривая «Таинственного», мы обнаруживаем указанное сочетание новеллистического и романного начал. В произведении две части, первая из которых — не более как разросшаяся предыстория. Финал, по видимости объясняющий фабульное «зияние» в середине, фактически этой роли уже не выполняет, поскольку множество новых обстоятельств успело заслонить и главного героя, и его тайну. Происходит иное, мыслимое как раз в романе. Различные сюжетные линии связываются в единый сюжет, но это единство зачастую держится на натяжках и совпадениях. Реалистический тип романа, в основе которого лежит внутренняя история героя, находящаяся в сложных отношениях с развивающейся действительностью, еще не существовал, несмотря на предшествующий опыт европейской и немецкой (Гёте, Жан Поль) литературы. Объективно в творчестве позднего Тика происходит становление современного (пока еще с оттенком авантюрности) романа, как это имело место в произведениях английских (В. Скотт, Э. Бульвер-Литтон, Ч. Диккенс) или русских (Нарежный, Загоскин, Вельтман, Пушкин) писателей.
Развитие сюжета резко разграничивает две части произведения. В первой сюжетная схема достаточно проста и носит «линейный» характер. Речь идет о путешествии молодого барона Кроненберга, отдельные главки показывают его пространственное перемещение: на постоялом дворе, в замке барона Вильдхаузена, в замке Нойхаус, в поместье графа, куда герой попадает в результате падения с лошади и других непредвиденных случайностей. В соответствии с такой фрагментарностью каждый из эпизодов относительно самостоятелен, обладает своим кругом персонажей.
Посещение поместий дает автору возможность нарисовать характерные типы на фоне бытовой и исторической обстановки. Средства типизации, которыми он пользуется, во многом связаны с эстетикой XVIII в., в персонажах преобладает «характерное», типовое, а не индивидуальное. Но есть в этих характеристиках и новое. Действие происходит в среде разоряющегося барства, неспособность руководить своим хозяйством и неспособность к государственным делам прямо связываются с развалом Германии под ударами Наполеона, т. е. налицо те самые «типические обстоятельства», без которых нет классического реализма.
Название новеллы имеет в виду главного героя, и в его облике действительно многое неясно. Есть определенное противоречие в той симпатии, которую он внушает окружающим и читателю, и в том, что он мот, тщеславный самозванец, приписывающий себе авторство «опасной» книги и видную роль в тайном патриотическом движении, ловелас. Но автор сделал попытку создать развивающийся (причем не «имманентно», а в связи с «обстоятельствами») характер. Это позволяет соотнести «Таинственного» с опытом Гёте (как автора «воспитательного романа»), указать на перспективную тенденцию в немецкой романтической прозе.
Вся вторая половина произведения пространственно прикреплена; темпорально она очерчена эпохой нашествия французов и национально-освободительной войны. Изображение типов эпохи дополняется теперь политическими дебатами, выявляющими разные исторически сложившиеся позиции, позволяющими автору высказать мысли относительно патриотического долга литературы.
Духовное возрождение Кроненберга оказывается тесно связанным с его любовью к Цецилии и с событиями национально-освободительной войны. Чувство Цецилии отдано «недостойному», но оно обладает «магической силой» и «спасает» «погибшего». А вместе с этим происходят другие, еще более драматические события. Кроненберг, из тщеславия представивший себя в доверительной беседе с одним из французских офицеров координатором патриотического движения, арестован. Ему грозит расстрел. Такая же участь ожидает и двух партизанских офицеров, схваченных с оружием в руках. С особой отчетливостью ощущает Кроненберг фальшь своего поведения рядом с этими людьми, которые будут расстреляны за подвиг, а не за фразерство. После расстрела партизан Кроненберга приводят к маршалу, и тот отдает распоряжение освободить молодого человека, непричастность которого к сочинению запрещенной книги, заговору и т. п., увы, слишком очевидна.
Финал новеллы (материальные дела Кроненберга улажены, он женится на Цецилии и с этих пор не переносит даже незначительной лжи) возвращает повествованию элемент условности. И в целом не приходится игнорировать приметы назидательности, сконструированности, как и эпизодичность, идущую от традиций авантюрно-тривиального романа. Но налицо и обновление прозы: развивающийся характер главного героя, как и постепенно развертывающаяся в пространстве и времени картина действительности, связь частной судьбы и национальной истории, даже известная «избыточность» материала — все это позволяет говорить о романном типе этой новеллы как о тенденции, обнаружившейся в ходе развития романтической прозы. В то же время Тик сохраняет структуру новеллы, предполагающую непременный «поворот» в повествовании, благодаря которому все события предстают в новом свете.
Понятие «поворотный пункт», развитое Тиком в 20-е годы под воздействием философских взглядов Зольгера, реализовалось в его новеллистической практике в форме «чудесного». Истоки этих представлений возникли еще в 90-е годы (и не только у Тика). Теперь они оформились в систему. Далеко не всегда Тик призывает на помощь оккультные силы (примером последнего может служить новелла
С теорией «чудесного», с «поворотным» пунктом связано развитие фабулы. Обращение к двум новеллам начала 20-х годов — «Картины» (1821) и «Музыкальные страдания и радости» (1822) — позволит поставить принципиально важный вопрос о соотношении фабулы и «дискуссии» в произведениях этого периода как выражении тенденций, направленных на романизацию новеллы и снятие драматического конфликта, заложенного в самой новеллистической структуре, но не отвечавшего примирительным тенденциям, характерным для мироощущения большинства немецких романтиков той поры.
Первое, что должно быть отмечено, — это условность фабулы и фиктивность конфликта. Условное начало в первой из названных новелл связано с надуманностью решающего события (обнаружение тайника с картинами), с тем, что различия между «повесой» Эдуардом и окружающими носят исключительно внешний характер (разница возраста, положения, темперамента). Потому и вся история предстает как история комическая. В другой новелле сюжет вообще просматривается не сразу, определяясь лишь во второй половине произведения, когда граф, разыскивающий певицу, в которую он влюбился «по голосу», отождествляет предмет своей страсти и узнает историю «музыкальных страданий». События завершаются ко всеобщему удовольствию — премьерой оперы с участием Юлии (певицы) и счастливым союзом Юлии и графа. От «конфликта» здесь остается лишь смешная стычка между Гортензио (отцом Юлии) и певцом-итальянцем, его соперником и врагом. Хотя имя героини вызывает в памяти гофмановских героинь, а ее история соотносится с новеллами «Дон Жуан» и «Советник Креспель», трагический итог здесь заранее снят.
Известная «бесплотность» центральных персонажей до некоторой степени компенсируется колоритностью второстепенных фигур. Истории этих последних расширяют сферу собственно повествовательного. Фабула утрачивает свою главенствующую роль. Рассказ не устремляется к финалу, с жесткой закономерностью отбрасывая все несущественное, а «топчется» на месте, «застревает» на второстепенном и т. п. Но еще важнее то обстоятельство, что автор включает в свои произведения «проблемные разговоры» — обсуждение новой религиозной живописи, социальной и идеологической функции искусства в «Картинах», проблем национальной музыки — в «Музыкальных страданиях и радостях». Интересно при этом отметить уравновешенность характеристик, примером чего служат суждения о моцартовском «Дон Жуане». С одной стороны, — «бесконечное благозвучие, чудо волшебной полноты»; с другой же, — «обдуманность композиции», «величие духа». Автор говорит о «многообразии противоречивейших интонаций, которые, однако, соединены в прекрасно упорядоченное целое».
«Разговорный» характер поздних новелл справедливо связывают с потребностями буржуазных салонов, со стремлением все более широких бюргерских кругов к образованию и культуре. Отсюда совмещение сюжетной занимательности с поучительностью, актуальная проблематика вставных бесед, их «просветительский» характер. Важно и другое: отзываясь на стабилизирующие тенденции тогдашней действительности, стиль Тика и его современников все более авизируется. Описание быта, обстановки, типов, среды — все это выступает как средство «ретардации» и ведет наряду с разрастанием разговоров к романизации новеллы.
Однако подлинному обновлению повествовательных жанров могла способствовать только серьезная жизненная тема. В конце 20-х — начале 30-х годов такой темой становилась тема человеческих отношений в условиях буржуазного общества, взятая не в романтически-мистифицированном, а в реальном плане. Европейская литература откликнулась на нее творчеством Бальзака («Евгения Гранде», 1833), Пушкина («Пиковая дама», 1833), Диккенса («Оливер Твист», 1837-1838). Экономическое порабощение, отчуждающая власть денег, семейные, человеческие связи при капитализме, социальные контрасты, распад патриархального мира и многое другое — именно эта проблематика выступает на первый план в жизни и литературе. Понятно, что специфические условия каждой страны, традиции ее литературы определенным образом сказывались на воплощении этой новой проблематики. Тем интереснее вглядеться в эстетический механизм реализации новой жизненной темы, объяснить его противоречия.
В этом контексте следует рассматривать и некоторые произведения Тика, в том числе «Горный старец» (1828) и «Жизнь льется через край» (1837). Й. Мюллер, автор статьи о первой из названных новелл, не без оснований видит в ней «важное свидетельство попыток Тика художественно соединить романтические прозрения и современное ощущение действительности». Вытекающие отсюда противоречия симптоматичны и в жанровом отношении. Тик пытается пользоваться хорошо знакомыми ему, теоретически им же закрепленными новеллистическими приемами. Между тем проблематика оказывается именно для новеллы неохватной: сведение материала к новелле означало бы редукцию тех важных наблюдений над действительностью, которые, в сущности, и составляют ее главное содержание. Многосюжетность влечет за собой жанровый плюрализм, поскольку специфика каждого сюжета требует адекватного воплощения. При выборе жанрового образца автор опирается на опыт романтической литературы, но вместе с деромантизацией содержания происходит и жанровая ревизия. Воссоединение сюжетов и форм их освоения должно было привести к образованию произведения романного типа. Этот процесс остался незавершенным.
Остановимся на затронутых вопросах подробнее. В третьей главе новеллы содержится вставной рассказ рудокопа Михеля о кобольде-помощнике. Этому предшествуют различные упоминания о тайне недр, о природе гор и т. п. Этот материал отсылает к раннему творчеству Тика («Руненберг»), к произведениям других романтиков (Новалис, Гофман), но «чудесное» уже выведено здесь за пределы возможного (вероятного) и перенесено в область легенды, сказания.
Другой квазиромантический сюжет носит детективный характер. На фабрике происходят хищения. Подозрение последовательно касается различных персонажей, заслушиваются «свидетельские показания». По совету Эдуарда (управляющего) и несмотря на сомнения хозяина, на складе устанавливают самострел, который поражает похитителя. Следы крови приводят в дом смертельно раненного Элиезара («технолога» предприятия), остальное дополняют показания его сообщника. Однако жанр романтического детектива не выдерживается. Прежде всего не бесспорно само преступление. Разговор Эдуарда с хозяином (Бальтазаром) о возможном виновнике превращается в обсуждение права собственности. Взявший на себя расследование Эдуард мало соответствует типу романтического «артиста», а его «правоохранительные действия» превращаются в свою противоположность в силу аномальности, извращенности буржуазного мира. Специфика детективного жанра здесь связана с анализом отношений личности и общества, с идеей пагубности самого права собственности.
Наиболее развернутый характер носит любовно-романтический сюжет, имеющий выходы в прошлое и будущее. Он строится по преимуществу как серия исповедей, главная среди которых принадлежит Бальтазару. По мнению некоторых исследователей, «значение новеллы состоит в развитии характера Бальтазара», в том, что Тик предпринял попытку «разъяснить происхождение характера социальными обстоятельствами». Это, несомненно, так. Но социальный детерминизм здесь еще в зародыше. Романтические мотивы и мотивировки продолжают играть еще очень заметную роль.
Разоблачение и гибель Элиезара, последующая смерть Бальтазара, делающего своими наследниками семейство советницы, любовь к которой трагически осветила всю его жизнь, а также воспитанницу Розу, открывают путь к разрешению сюжетных коллизий: Эдуард женится на Розе, мрачный дом «горного старца» преображается, теперь здесь царит радость, звучат музыка, песни, смех. Возникает очевидное противоречие между потенциальными возможностями сюжета и авторскими намерениями. Так же, в сущности, обстояло дело и в романах Диккенса с их идиллической концовкой. Противоречие это как раз и объяснялось диалектикой бытия и сознания: немецкая действительность уже диктовала литературе актуальную проблематику современных буржуазных отношений, но для понимания реальных путей разрешения существующих конфликтов время еще не наступило.
Несмотря на постоянное присутствие и видимое участие Бальтазара в совершающихся событиях, этот образ находится как бы вне рассмотренных сюжетов. Но именно с ним связаны наиболее значительные мотивы произведения. В руки Эдуарда случайно попадают фрагменты исповеди Бальтазара. В них ощутимо воздействие зольгеровских идей: в метафизическом плане трагедия состоит в том, что не только «явление», но и сама «идея» конечны, обречены на гибель; в онтологическом плане трагизм явствует из того, что человек одновременно причастен к высшему и обречен на свое земное существование, он оказывается между жизнью и смертью, терзаемый мыслями о безжалостном законе взаимного истребления, господствующем в природе, и мыслями о смерти. Записи, которые читает Эдуард, дополняют прежние признания хозяина («наша жизнь — мучение и страх») и создают облик трагического пленника своего богатства, воспринимающего деньги как обузу, тяготу, маяту, влачащего свое существование на грани безумия, испытывающего сомнения в вопросах веры: «...в моем существе — смерть и ужас, меня преследует запах собственного тления — и в чувствах безумная насмешка, отчаяние в каждой мысли!».
Тик противопоставляет мрачному фатализму Бальтазара предостережения Эдуарда от насилия над природой и его же проповедь гуманности и любви. Но это резонерство (как и искусственная развязка) не снимает трагического тона новеллы. В начале ее дается емкая картина вторжения капитализма в мир природы и патриархальных отношений. В другом месте Бальтазар говорит об охватившей весь мир денежной лихорадке, о чудовище алчности, которое «хрустит костями пожираемых им жертв и пьет их слезы»; он рисует почти «бальзаковскую» картину социальных контрастов, вспоминая обездоленных бедняков перед дворцами в Лондоне и Париже, где «одно пиршество стоит тысячу золотых». Образ Бальтазара наряду с романтическим протестом против капитализма передает с большой степенью убедительности, хотя во многом еще романтическими средствами, отчуждение личности в буржуазном обществе, предстающем в виде «исправительного заведения», «тюрьмы». Вероятно, никакое другое произведение Тика не показало современность с такой степенью приближения к реальным проблемам. Именно потому так заметны здесь элементы реалистической поэтики и потому так далеко заходит автор в область романного опыта.
В появившейся почти десятилетие спустя новелле «Жизнь льется через край» картина буржуазных порядков не только локализуется, но и вытесняется из сюжетной сферы в пространство слегка завуалированных аллегорией разговоров, где и разрешается в охранительном духе. Благодаря разделению «сфер влияния» оказывается возможным и остроумную параболу романтического гениоцентризма (отрешенные бедностью от окружающего мира, молодые супруги довершают свою изоляцию, сжигая в печке лестницу, которая вела в их каморку) закончить образцовым компромиссом с тою же самой буржуазной действительностью. Романные перспективы, которые позволяло прозревать сюжетосложение «Горного старца», таким образом, устраняются.
Не нужно большей проницательности, чтобы понять, почему это произошло. После Июльской революции и Гамбахского празднества, в обстановке борьбы против радикалов буржуазно-либеральное сознание резко «правеет», в нем усиливаются охранительные тенденции. В этих условиях расширение художественной картины действительности могло стать только способом ее критического познания. Между тем магистральная задача новеллы «Жизнь льется через край» — компромисс. В политическом плане это выражается в призыве к классовому миру, взаимной уступчивости, исполнению своего «долга» в отношении государства, власти; философски компромисс трактуется как необходимость интеграции «единичного» в «великое целое», где оно обретает свой подлинный смысл и значение; в сюжете неизбежность возвращения героев на «обитаемую землю» знаменует окончание их романтической эскапады и торжество прозаической «необходимости» над беззаконной «свободой»; наконец, и в жанровом отношении происходит легитимация метафорической новеллы, которая допускается в качестве романтической «игры воображения» в рамках торжествующей буржуазной прозы. Если в новеллах «Страусовых перьев» примирение с действительностью третировалось как торжество пошлости, филистерского самодовольства, скудоумия, то теперь повсеместно восторжествовавшая буржуазная трезвость получает философское и эстетическое оправдание. Жанровая трансформация новеллы и стала видимым воплощением происшедших перемен.
Л-ра: Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – 1990. – Т. 49. – № 4. – С. 372-379.
Произведения
Критика