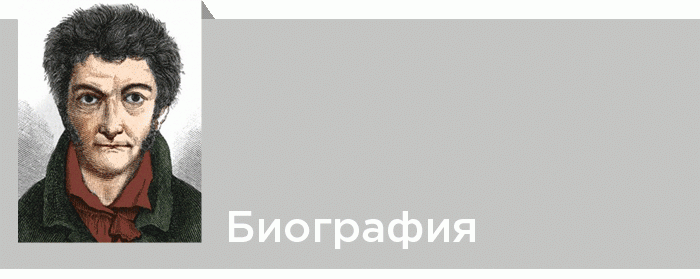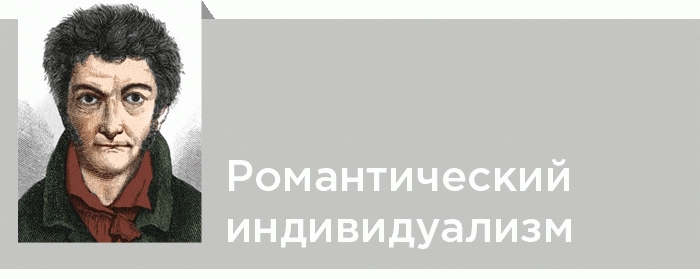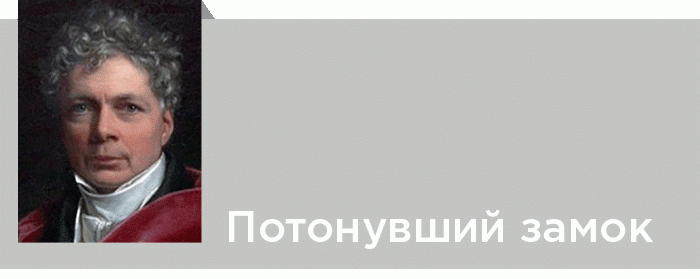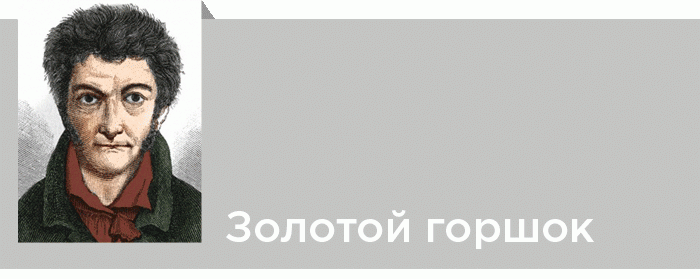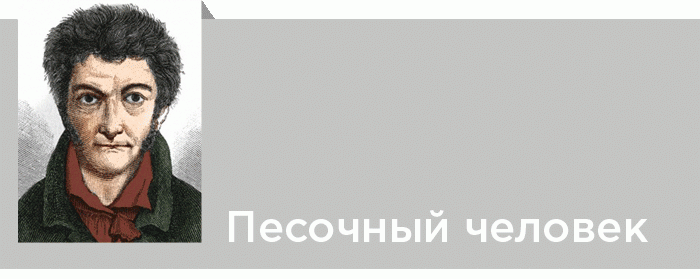Фантастическая правда Гофмана
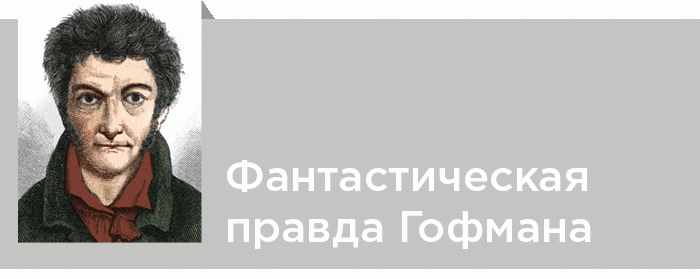
М. Рудницкий
В 1812 году в южнонемецком городе Бамберге уже редко кто удивлялся, повстречав на улице маленького, чудаковатого на вид, резкого в движениях человека. Во всем его облике: в подпрыгивающей походке, в неестественной приподнятости плеч, в том, как высоко и прямо держал он голову, в его всклокоченной шевелюре, не поддававшейся, очевидно, усилиям цирюльника, и, наконец, совершенно особенном выражении лица (мягкий, ласковый, детски наивный взгляд будто не хотел примириться с горькой иронической складкой губ) было нечто несообразное, невольно заставляющее вспомнить о кукольном театре. Вот уже четвертый год видели этого человека в Бамберге: с папкой нот под мышкой вышагивал он по утрам к зданию городского театра. Его можно было встретить также на званых вечерах и приемах в знатных домах, в кабачках и винных погребках в компании немногочисленных друзей. За эти четыре года к странной фигуре попривыкли: люди уже не останавливались, не оглядывались вслед, не перешептывались.
Те, кто знал капельмейстера Бамбергского городского театра Эрнста Теодора Амадея Гофмана ближе, могли рассказать о нем еще много замечательного. О том, как он мнителен и обидчив; как неожиданны смены его настроений — совсем недавно все смеялись его милым шуткам, а теперь боятся его дерзких и злых колкостей; как необычна его манера разговаривать: склонив голову набок, быстро-быстро сыпать словами, а потом вдруг вопросительно умолкать, немало тем обескураживала собеседника; как виртуозно исполняет он музыкальные импровизации; как не проходит без живейшего его участия ни одна репетиция: ведь он не только превосходный музыкант, не только режиссер, но еще и талантливый художник, и почти все спектакли Бамбергского городского театра идут в его декорациях, а над его карикатурами хохочет весь город. И еще о том, какой он даровитый литератор: его рецензии и статьи в лейпцигской «Всеобщей музыкальной газете» вызвали самые доброжелательные отклики и скоро, наверное, выйдут отдельной книгой. Таким знали Гофмана в Бамберге.
Современники не понимали Гофмана. Где бы ни жил этот человек, с кем бы ни встречался в своих странствиях по городам и провинциям Германии — знакомые, друзья, даже родные в один голос именовали его натурой странной. Судейский чиновник прусских канцелярий в Кенигсберге и Варшаве, капельмейстер я учитель музыки в Бамберге и Дрездене, в конце жизни уже известный писатель и все же опять прусский чиновник в Берлине — он всюду вызывал недоумения и кривотолки.
Эпоха донесла до нас множество фактических сведений о Гофмане. Но редко когда обилие фактов, наблюдений, воспоминаний, свидетельств так отдаляет нас от постижения истины, как это происходит с противоречивой и необычной личностью Гофмана. В этом человеке уживались, видимо, самые несовместные крайности и уживались отнюдь не мирно, так что в бурной и стремительной смене страстей, порывов, настроений порой кажется немыслимым выделить главное, понять, где же «настоящий» Гофман.
Это же ощущение как бы отсутствия точки опоры и центра тяжести не оставляет и при чтении его книг. Здесь нет предметов, твердо стоящих на своих местах, — наоборот, они, кажется, вот-вот тронутся с привычной точки и начнут самые прихотливые движения по непостижимым траекториям волшебства.
Первые читатели Гофмана сразу остро почувствовали это «коварство» его новелл и сказок, и явно не знали, как к ним относиться. Весьма авторитетный современник Гофмана немецкий писатель и публицист Людвиг Берне, пожалуй, наиболее точно, хотя и крайне раздраженно, сумел передать это ощущение: «В море немецкой литературы произведения Гофмана выделяются чарующими, благостными островками. С криком ликования сходим мы на берег, целуем эту цветущую землю, бросаемся в объятия деревьев и кустов и радуемся спасению от бескрайности морской пустыни. Но едва стихли опасения за свою жизнь, как сразу дают о себе знать исконные ее потребности: голод и жажда. Но тщетно будем мы искать источники, а благоуханные плоды хоть и притягивают нас, однако диковинный их вид заставляет опасаться страшных ядов. Мы пробираемся в глубь острова, но тут со всех сторон с отвратительными завываниями на нас набрасываются дикари, вооруженные пращами и луками. Человеческие кости — остатки диких трапез — наводят на нас ужас. В страхе спасаемся мы бегством, предпочитая вновь довериться жуткой водной стихии». Критика откликалась на книги Гофмана хвалебными и ругательными рецензиями, но четко определить место писателя в современной ему литературе долго еще не могла.
Разговор о Гофмане мы не случайно начали именно с Бамберга. Годы, проведенные в этом городе, оказались едва ли не самыми важными в жизни будущего писателя. Будущего — потому, что в ту пору Гофмана-писателя не знал никто. Знали Гофмана — композитора, художника, музыкального критика, знали, наконец, чиновника. Сам Гофман долго еще будет утверждать, что истинное его призвание — музыка, а словесность — лишь косвенное отражение его музыкального дара.
Здесь, в Бамберге, после десятилетнего корпения в канцелярских застенках, Гофман впервые познал все прелести и невзгоды жизни свободного художника. Здесь были написаны «Фантазии в манере Калло» — удивительное произведение, все живущее в стихии музыки.
Здесь же, в Бамберге, вызревает замысел первого крупного произведения Гофмана — романа «Эликсир дьявола». Неподалеку от города находился монастырь капуцинов, куда Гофман не однажды наведывался. Доподлинное содержание бесед, которые он там вел с монахами, нам неизвестно. Однако из писем и дневников писателя мы точно знаем, что мрачная атмосфера древнего монастыря и рассказы одного из старейших священников, некоего отца Кирилла, сильно подействовали на обостренную впечатлительность Гофмана. Очевидно, одна из историй, рассказанных ему святыми отцами, и легла в основу романа о незадачливом монахе Медарде, не устоявшем перед соблазнами дьявола.
Создавая роман на весьма традиционный уже в то время сюжет о борьбе человека с сатанинскими искушениями, Гофман, однако, подверг этот сюжет тонкой иронической трактовке. Богобоязненный и благочестивый юноша Медард, монах ордена капуцинов, узнает от настоятеля монастыря о некоем таинственном эликсире, который хранится в монастырском тайнике среди прочих священных реликвий. По преданию, сосуд с этим зловещим напитком принадлежал якобы самому святому Антонию, который, как известно, удалился от мира в пустыню и вел там героическую борьбу с дьяволом, тщетно силившимся совратить его с пути истинного. Среди прочих соблазнов дьявол особенно настойчиво предлагал святому свой изумительный эликсир, возвращающий бодрость духа и тела. Антоний, однако, перехитрил сатану: эликсир взял, но пить не стал и припрятал в надежном месте, дабы одним греховным искусом на земле стало меньше. А уж потом, много веков спустя, сосуд с эликсиром очутился в монастырском тайнике.
Медард, увы, не обладал стойкостью святого Антония и отведал напитка, который по своим вкусовым и ароматическим качествам почему-то удивительно напоминал превосходное сиракузское вино. Надо ли говорить, что после этого жизнь Медарда превратилась в сплошную муку: пристрастившись к эликсиру, он то и дело впадает в безумие, становится жертвой самых разнузданных страстей, совершает несколько тяжких преступлений и обретает искупление грехов лишь ценой отчаянных внутренних борений и благочестивой смерти.
Нужно сказать, что дьявол в романе Гофмана явственно обнаруживает склонность к шутке и комическим ситуациям. Например, он заставляет Медарда возомнить себя святым Антонием и объявить об этом с кафедры во время проповеди обомлевшим прихожанам, разжигает в юноше греховное вожделение, объектом которого делает... святую Розалию-великомученицу, чей образ, явившись Медарду однажды, уже не дает ему покоя и т. п.
Конечно, в «Эликсире дьявола» Гофман отдал щедрую дань модному в ту пору увлечению «черными», или, как их еще называют, готическими романами ужасов. Мрачные замки, а которых обитают тени, призраки и вершатся кровавые убийства, зловещие судилища и казни в монастырских склепах, двойники и вампиры, безумие и ночные кошмары — эти и иные атрибуты жанра, в том числе и благополучный финал, повествующий о победе над злом и счастливом соединении двух любящих сердец — Медарда и Аврелии на небе, использованы в романе сполна и даже с излишком.
Однако многое заставляет предполагать, что ни ужасы как таковые, ни религиозная проблематика сюжета нимало не занимали Гофмана во время работы над романом. Мы знаем, что отношение Гофмана к церкви и религии было скорее отрицательным и уж, во всяком случае, сугубо светским, о чем, в частности, свидетельствует сатирическое изображение папского Рима даже в самом романе. Гофман знал одну веру — веру в искусство, но и она была отягощена сомнениями слишком сильными, горечью слишком острой, чтобы он, подобно некоторым другим художникам своего времени, мог видеть в искусстве божественную гармонию и как-то связывать творчество с идеей бога.
Дерзость его кощунственной фантазии, играющей весело и храбро любыми верованиями и суевериями, всякую экзальтацию тотчас словно одергивающей насмешливым взглядом, свидетельствует о необычном, в сущности глубоко атеистическом складе ума. Традиционность религиозных представлений о добре и зле, о святынях и прегрешениях сдвинута Гофманом в сферу, где все эти прочные понятия становятся как бы относительными и, значит, сомнительными. Практически для этого фантазера нет ничего святого, и даже самый творческий дар он не в состоянии обоготворить или принять как чудо, ниспосланное свыше, «дарованное». Ирония разъедает веру, разрушает желание обрести какие-то надежные, нетленные идеалы. Гофман их ищет, но сам же и ниспровергает, уничтожает смехом.
Тем охотнее связывается он с демонами зла, тем смелее «якшается с нечистой силой», способной творить чудеса, превращать постылую обыденность в фантастическую игру, в феерию волшебства. Но «всемогущество» нечистой силы тоже, конечно, допускается и воспринимается только иронически, только условно, все метаморфозы, которые она способна совершить, нужны Гофману лишь как прием, как способ выразить свое отношение к реальности, показать ее плывучесть, изменчивость.
В «Эликсире дьявола» художник с намеренной расчетливостью балансирует на грани между ужасным и комическим. Его «жуткие» фантазии до крайности гипертрофированы и прямо-таки просятся перейти в комический гротеск. Конечно, неистовства безумного Медарда распластавшегося в церкви перед иконой святой Розалии, бросающего алчные взоры на вожделенное изображение и издающего при этом дикие вопли, не оставляют нас равнодушными. Но вызывают они не сострадание и не страх — а уже почти смех, как это нередко случается со всяким чрезмерным нагромождением сильных эффектов. И так на протяжении всей книги: повествование нигде не переступает ту границу, где кончается серьезность и начинается пародия, но зачастую рискованно приближается к ней, а то и вовсе движется по «нейтральной полосе» между трагедией и комедией.
Друзья рассказывали, что Гофман будто бы боялся выходить ночью на улицу, опасаясь встретиться с образами, созданными его фантазией. Возможно, Гофман и делился с кем-то подобными «страхами», но его собеседники, видимо, не сумели уловить в этих словах тонкой иронии, насмешки над теми, кому хотелось упиваться «ужасами» «Эликсира», «Песочного человека», «Майората», кому хотелось перегнивать гофмановские фантазии «всерьез». И, конечно, была в этих словах Гофмана столь характерная для него насмешка над собой...
Пристально вчитываясь в страницы «Эликсира», все чаще улавливаешь между строк ту же ироническую усмешку над слишком доверчивым читателем, все яснее понимаешь, что автор не страшится нагроможденных тут и там ужасов, а, наоборот, эти ужасы утрирует почти до смешного и использует как условность, как эффективный прием в неизвестной, непонятной нам игре. Это — не просто игра раскрепощенной, ничем не отягощенной художнической фантазии, хотя и такой игре Гофман умел и любил отдаваться.
Образы бога и дьявола литературная традиция издавна связывала с понятиями добра и зла. Но уже в гетевском «Фаусте» в эту традицию внесены существенные коррективы: Мефистофель не является воплощением метафизического зла — он олицетворяет силу отрицания, заложенную в идее саморазвития бытия. Бог в трагедии не случайно оттеснен на второй план Фаустом, ибо носителем идеи развития Гете делает именно человека. Гофман в «Эликсире» тоже переосмысливает средневековую модель: нравственная проблематика и конечный исход столкновения человека с сатаной его волнует очень мало, и потому в финальной сцене романа торжество добродетели описывается без всякого пафоса, откровенно наспех. Гораздо сильнее привлекает художника динамика борьбы между обычным и невероятным, рассудочным и иррациональным, борьбы, в которой он видит картину самой жизни, — причудливой, изменчивой, непостижимой. Традиционно понятое «добро» то и дело с удивительной стремительностью обращается у Гофмана в свою противоположность: возвышенное чувство становится низменным инстинктом, смиренное благочестие — надменным тщеславием, гуманное намерение приводит к преступлению и т. д. Причем инициатором всех этих метаморфоз неизменно выступает сатанинское начало, «нечистая сила», тогда как добро остается статичным и пассивным. Фатальная игра добра и зла образует аллегорический подтекст романа, в котором воплотилось мировосприятие художника, остро чувствовавшего противоречия своей эпохи.
«Гофман жил и создавал удивительные свои творения в ту пору, когда, говоря словами Шекспира, «прервалась связь времен». К рассудочному оптимизму XVIII века с его пафосом Просвещения, с его непоколебимой верой в торжество разума, с его восприятием свободы, равенства, добра и справедливости как должного, закономерного, исторически неизбежного и вечного, с его непогрешимой убежденностью в том, что социальное и всякое иное зло есть нечто временное, преходящее и случайное, — к этому совсем недавнему прошлому уже не было возврата. Ощущение грандиозного исторического перелома вошло в сознание людей вместе с Великой Французской революцией: они видели, как рушились прежние привычные представления, как рвались старые социальные связи. Сам Гофман со свойственным ему тяготением к гротеску писал об этом так: «Да, веселенькое было время после Французской революции, когда маркизы фабриковали сургуч, а графы вязали...»
Но будущность была неясной, особенно неясной на родине Гофмана. Исторические бури конца XVIII века обошли Германию стороной, волна социальных потрясений прокатилась над ней вместе с войсками Наполеона и отхлынула обратно, все оставив на своих местах, с той лишь разницей, что чудом сохранившийся немецкий уклад казался теперь химерическим пережитком, сном наяву, действительностью призрачной и абсурдной. В этой Германии, где царили застой и косность, где старый мир еще не одно десятилетие после смерти Гофмана с поразительной живучестью сопротивлялся новому, где видимость кипучей государственной деятельности имела одну цель — охранить спокойствие и порядок, — в этой Германии Гофману понадобилось все его страстное поэтическое воображение, чтобы в персонажах, идеях и сюжетах своих сказок воспроизвести реальность исторической фантасмагории. Ведь мертвенная немецкая действительность сама была уже почти фантастикой — стоило только чуть пристальнее к ней приглядеться. И он приглядывался...
Двойственность художественного мира Гофмана — отсюда. Добрые и злые волшебники «по совместительству» — они же добропорядочные немецкие часовщики и бакалейщики, профессора и тайные советники; все эти князьки без княжеств, министры без портфелей, маршалы без войска — все они подсмотрены в жизни и нарисованы с гротескной точностью карикатуриста.
Между тем Гофман не был только насмешником, как не был он и только беззаботным весельчаком. История несчастного студента Натанаэля, влюбившегося... в автоматическую куклу, которую он на свою беду принимал за очаровательную красавицу, или история Крошки Цахеса, уродливого проходимца, пробившегося в министры, — это истории возникновения таких вот мнимых ценностей, взросших на дрожжах общественных условностей и предрассудков. И мы хорошо знаем, что своими стремительными восхождениями по ступеням иерархических лестниц ничтожества-цахесы обязаны отнюдь не колдовским чарам феи Розалинды.
В романе «Житейские воззрения кота Мурра» есть замечательная сцена: князь Ириней в сопровождении свиты шествует по ночным улицам столицы своего лоскутного княжества, а над процессией, согласно высочайшему повелению, должна витать фигура ангела с факелом в руке. Но вот хитрое пиротехническое сооружение переворачивается вверх ногами, и капли горящей смолы падают на драгоценное княжеское чело, на лысины и парики министров, на пышные платья придворных дам, но процессия стоически продолжает свой путь. В этой удивительной по комизму сцене, где все — гротескный вымысел и именно поэтому чистая правда, перед нами в парадном строю глупо и доблестно шествуют мнимые ценности современной Гофману Германии.
Призрачный немецкий мирок, в котором приходилось жить Гофману, был до смешного жалок, и сатирик смеялся над ним на все лады, всеми регистрами человеческого смеха — от незлобивого до саркастического. Но мирок этот мстил художнику с неумолимой жестокостью, примеряя его искусство к своим мелким потребностям, цинично отводя поэту роль комедианта и приживалы. Не этим ли объясняются столь удивлявшие современников «крайности» нервической гофмановской натуры, истерзанной унижениями, измученной сознанием своей человеческой неприкаянности?
Тема искусства, задыхающегося среди мещанства и обыденщины, отданного на потребу бездуховности, звучит в творчестве Гофмана горькой и беспощадной исповедью, резким, кричащим диссонансом. Его Иоганнес Крейслер — единственный настоящий, живой человек в толпе игрушечных, кукольных человечков, но и он снедаем сознанием собственного бессилия и может противопоставить окружающей его пошлости лишь все отрицающую, все высмеивающую иронию.
Ирония была тем последним средством, которое позволяло Гофману возвыситься над мелочной суетностью окружающей его жизни, преодолеть отчаяние, побороть выползавшую на него из всех немецких закоулков филистерскую пошлость, обрести вожделенное для каждого художника чувство свободы. Именно это ироническое превосходство над миром сообщает фантазиям Гофмана веселую легкость, естественную непринужденность полета
Почитая, как и все романтики, искусство высшей сферой человеческой деятельности и единственной подлинной ценностью на земле, Гофман наделял Крейслера, свое второе «Я», этим благородным правом эстетического превосходства.
Но с горечью осознавая, сколь утопичен и иллюзорен подобный выход из мелкотравчатого отечественного захолустья, сколь мало он пригоден в практической жизни среди «хороших людей, но плохих музыкантов», Гофман вынужден был распространить этот принцип иронической усмешки над всей вселенной — и на себя тоже. Сокровеннейшие страницы жизнеописания композитора Крейслера, а по сути весьма прозрачно зашифрованной автобиографии, он с намеренной издевкой использует как прокладку между листов рукописи Кота Мурра, этой аллегорической книги филистерского бытия. «Самые светлые свои сказки, в которых добро, мечта и искусство якобы торжествуют над злом, прозой и пошлостью, он обязательно заканчивает ироническим диссонансом, ноткой сомнения, штрихом пародии. И в этом он особенно близок другому гению романтизма — Генриху Гейне, единственному из современников, кто понял и принял Гофмана до конца, без оговорок.
Сложная гамма чувств отразилась в многокрасочном и многозвучном мире гофмановских книг. И краски эти не утратили свежести, а мелодии — чистоты, ибо запечатлелось в них безграничное богатство творческих возможностей человека и бесконечная глубина его душевной щедрости. И все мы до сих пор дивимся пестрому карнавалу гофмановских масок, пугающей изобретательности его фантазии и, конечно же, доверчиво отдаемся стихии гофмановского смеха — озорного и ядовитого, безаботного и сквозь слезы.
Л-ра: Наука и религия. – 1972. – № 6. – С. 86-90.
Произведения
Критика