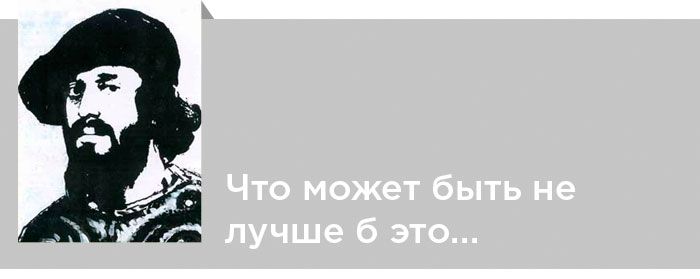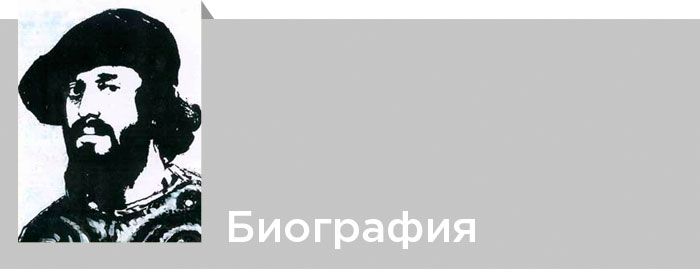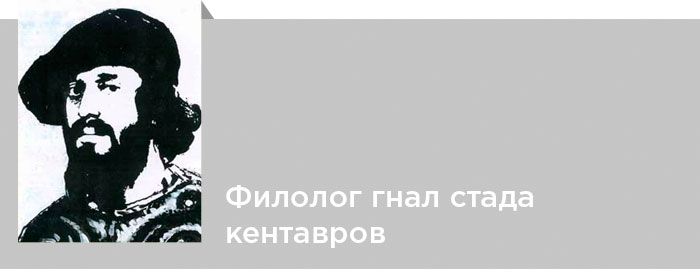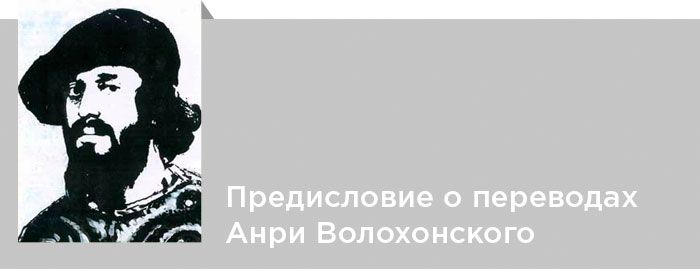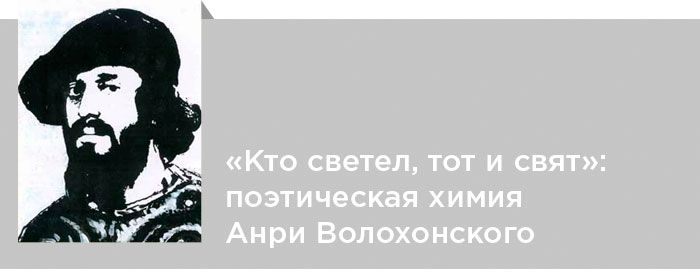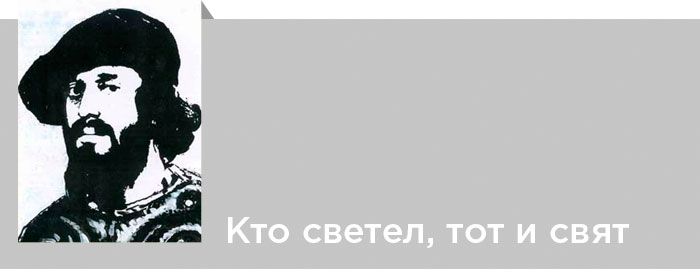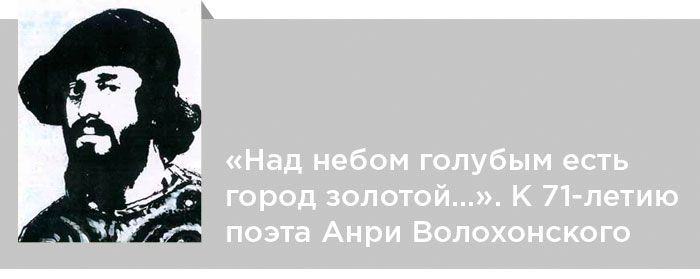Трехкнижие Анри Волохонского

Денис Безносов
Анри Волохонский. Собрание произведений. В 3-х томах. Составление, предисловие и примечания Ильи Кукуя. М., «Новое литературное обозрение», 2012. Том 1, 608 стр.; том 2, 430 стр.; том 3, 734 стр.
Из разнопланового творчества поэта, прозаика и переводчика Анри Гиршевича Волохонского (род. 1936) российскому читателю до недавнего времени была доступна лишь незначительная часть. Самым известным его произведением на долгие годы стала песня «Рай» («Над небом голубым...»), исполнявшаяся соавтором Волохонского Алексеем Хвостенко и получившая всенародную популярность благодаря Борису Гребенщикову. Широкой же литературной известности поэт достиг в эмиграции: в 1973 году он уезжает в Израиль, затем переселяется в Германию, где и проживает сейчас. Произведения Волохонского активно публикуются в израильской, европейской и американской русскоязычной периодике, а в 1983 году в США выходит первая книга «Стихотворения», ставшая своеобразным итогом его творчества на тот момент. С начала 1990-х начинается издание Волохонского в России, и вот теперь, почти через 40 лет после отъезда поэта из СССР, выходит Собрание его сочинений.
Трехтомное издание произведений Анри Волохонского — по характеристике Константина Кузьминского, «каббалиста, мистика, знатока Древней Греции и Египта, иудея и христианина, гениального поэта, автора теософских трактатов и трактатов о музыке»[1], — является наиболее полным на данный момент и охватывает все основные сферы его творчества. Произведения распределены по жанрам: в первом томе собраны поэтические и драматические тексты, во втором — художественная проза и эссеистика, в третьем — переводы и комментарии к Откровению Иоанна Богослова, Книге Бытия и ряду других религиозных источников.
Самим автором поэтические тексты разделены на семь книг, которые, согласно его утверждению, следуют одна за другой — по «более или менее хронологическому» принципу. В корпусе текстов датировка сознательно опускается и указана лишь в примечаниях, что подчеркивает целостный характер отдельных книг и всего издания. Первые три книги входили в состав сборника «Стихотворения»; последующие книги были скомпонованы из ряда авторских сборников, изданных после 1983 года, а также отдельных текстов, многие из которых публикуются здесь впервые.
Уже в первой книге «Дуда и мак», в которой Волохонский, наследуя модернистским практикам начала века, постепенно нащупывает собственную синтетическую поэтику, заметно авторское балансирование на грани ре- и деконструкции мифа, таким образом, создается впечатление, что автор осознанно присутствует сразу в двух измерениях — модернистском (прямая генеалогия — Хлебников, обэриуты и Роальд Мандельштам, с которым общался автор и первый посмертный сборник которого он и издал в 1982 году) и деструктурирующем постмодернистском. Мифический материал разнится от книги к книге, а также на уровне циклов и отдельных текстов.
В этом смысле показателен цикл «Девятый ренессанс» (1965), опирающийся на комплекс эллинской мифологии, что само по себе не ново; однако в отличие от «Московских мифов» Генриха Сапгира (созданных позднее, в 1970 — 1974 гг.), в которых посредством смещения и смешивания двух далеких друг от друга хронотопов достигается желаемый сатирический эффект, «Девятый ренессанс» Волохонского, также не лишенный иронической интонации, далек от прямой сатиры — поэт скорее абсурдирует претекст, нежели пародирует его: «Минос, ты слишком неподвижен / Ты важен словно ты квадрат / Ты недостоин быть приближен / Ея прекрасного бедра...» («Минос»; I, 85); «Эгей скончался по ошибке / Он безнадежно устарел / Его недавно съели рыбки / Которых он когда-то съел».
Любопытна также работа Волохонского с басенной формой на том же эллинском материале в стихотворении «Кентавр» (единственном произведении поэта, опубликованном в официальной советской печати в 1971 году):
Кентавр
Наевшись раз малины
По горло человечьей половины
К березке стройной подошел
И начал об нее тереться
Чтобы согреться
И почесать
Свой вот уж десять лет как шелудивый бок
Тут из соседнего дупла ему ответил бог
Что жизнь-то наша значит братец даром не проходит
И что сойдет с копыт — то с рук не сходит.
Автор низводит патетику до бытовой ситуации, в которую попадает мифическое существо, и соблюдает при всей ироничной абсурдности классическую структуру как эллинской драмы (пресловутый Deus ex machina «из соседнего дупла»), так, собственно, и басни как таковой (обязательная в финале «мораль»).
Такую, многоуровневую, работу с мифологическим материалом мы найдем и в последующих книгах. В книге «Иог и Суфий» — это суфийский миф, в книге «Гром греммит» (особенно в открывающем книгу цикле «Тетрадь Игрейны») — кельтский мифологический материал. В третьей книге, «Чуждые ангелы», цикл «Лики существ» представляет собой своеобразную стилизацию под средневековый бестиарий (увлечение «звериными» текстами отражено и в третьем томе — в частности, переводах из Ришара де Фурниваля, французского врача, поэта и священнослужителя XIII века). Пятая книга «Монголия и далее» являет собой композиционно сложный постмодернистский эпос, созданный на материале монгольских летописей «Алтан тобчи».
Синтетическая структура этой, пятой книги особенно интересна, поскольку стихотворный текст здесь сопровождается авторским комментарием, органично продолжающим и как бы переводящим стиховой текст на язык иного временного пространства; кроме того, в качестве дополнения может прилагаться и нотный текст (см., например, «Степной развод»), что как бы «размыкает» стиховое пространство. Обширный авторский комментарий в качестве остраняющего «голоса из-за кадра» играет важную роль в одном из главных произведений Волохонского, поэме «Фома» (1964 — 1966), которой в конце сообщено примечание, отчасти отражающее поэтическое кредо автора: «В том, что душа поэзии существует, с недавнего времени перестали сомневаться. Ясно ведь, что ни расположенье слов, ни образов телесное плетенье или протяжный звуков ход не образуют стиха, но некая тонкая, проносящаяся над течением речи стихия. <...> Чему же тут учить? В чем состоит наше искусство, наша веселая наука? Бог весть». Спустя много лет поэт будто бы продолжит это свое размышление о природе поэзии и ее смысловом компоненте: «У литературы, мне кажется, нет ни смысла, ни целей. То же у литератора»[2]. Именно это печально-иронично-серьезное «Бог весть» маркирует тот факт, что произведения Волохонского бегут универсальной интерпретации и вряд ли поддаются филологическому анализу, во всяком случае, в его общепринятом изводе, поскольку a priori лишены амбиции что-то последовательно утверждать.
Вероятно, такое переосмысление абсурдности художественной речи и катализирует саркастичность и краткость более поздних текстов Волохонского: начиная с четвертой книги «Гром греммит», автор заметно тяготеет к краткой, порой и вовсе минималистичной форме. Вот только некоторые примеры из сборника «Тетрадь Игрейны»:
***
А как на горе Скопус
На самой вершине ее Кастратус
Евнухос, Евнухос приплясывали.
***
Острый глаз
Тонкое ухо
А на небе ни облачка.
***
Собаки лают лают лают лаяли
Кроме того, именно с четвертой книги начинается экспериментальная работа над визуальной формой текста, т. е. еще контрастнее становится деконструкция отрефлексированных автором поэтических моделей. Яркими примерами таких экспериментов с формой стали два текста из цикла «Известь»: «Мазь. Икона Распятия» (визуально-словесный текст, то ли проглядывающий сквозь черную ткань страницы, то ли фрагментарно вымаранный черной краской) и «Плач по утраченной тыкве», изначально опубликованный в самиздатовской концептуальной книге в форме тыквы, листы которой можно вертеть вокруг оси относительно друг друга.
Последний текст обладает довольно изощренной структурой, внутри которой смешиваются в единый ироничный рассказ плач Ионы, утратившего тыкву, т. е. потерявшего голову:
Как перед рыжей стеной покаянного львов
града
Плакал древле под небом палящим пророк Иона:
— Отчего же о
ах
увы усохла ты,
тыква
Тени не даешь
нет огородная ты, свет, моя о куль-
тура!
— легенда о войне грузин с хазарами:
Как на тифлисской стене грузин локоть нос
ростом
Изобразил тыквой лик хазар орд
хана...
— и «Апоколокинтозис» Сенеки:
Если тыквою в небе стал государь
Клавдий,
Как философ о том доложил двуударный сыч
Се-
нека,
Что ж не прикроешь ты
он
она
меня
его той
золотой
тогой?
Наполненное множеством внутренних рифм — как буквальных, так и интертекстуальных, — этот мифологический апофеоз «тыквенной темы» и вместе с тем до боли смешной гротеск ярко демонстрирует поэтический инструментарий зрелого творчества Волохонского.
Многие произведения последней книги первого тома, «Рукоделие», также построены на интертекстуальных рифмах: начиная от очевидно пушкинско-лермонтовского «О дядя! / Дядя о дядя / открой мне / почему никогда не умирают сочетания слов?» («Аористы обветшалого») до введения в этот синтетический текст композиции, основанной на двенадцати ступенях натурального строя. Остается пожалеть, что авторские естественно-научные комментарии к этому и ряду других произведений, опубликованные в труднодоступных научных сборниках, не вошли в трехтомник[3].
Базисом поэтической речи здесь служит постоянный поиск лежащей в основе мироздания высшей гармонии, которой человек не может обладать полностью, но к которой способен прикоснуться через искусство. Отсюда желание поэта нащупать единый метод, одновременно математически точный и художественно-иррациональный. Волохонского в одинаковой степени интересуют логичная постмодернистская структура (совмещение нескольких историко-культурных пластов, многостилевая архитектоника текста, жонглирование дискурсами) и алогичная фонетическая заумь (см. цикл «Облачения полых чудищ» из книги «Ветер»). Сквозь такой точно-неточный апофеоз формообразующего начала и поиск гармонии просвечивает прежнее «Бог весть», в котором заключены одновременно и вопрос и ответ.
Балансирование на грани модерна и постмодерна особенно заметно в романе Волохонского «Роман-покойничек», уже своим заглавием задающем обширный спектр прочтений. «Даже в столь „злободневном” произведении, как „Роман-покойничек”, сатирическом изображении советской империи, — пишет в предисловии составитель трехтомника Илья Кукуй, — композиция текста строится одновременно на нескольких уровнях: смерть романа как имперского литературного жанра, гибель Рима (Roma, отсюда роман) как прообраза европейской имперской культуры, и лишь на поверхности — похороны советского функционера Романа Владимировича Рыжова». Однако посылка романа вовсе не исчерпывается сатирическими аспектами. Повествование о вечном путешествии в страну Аида, ведущее свою генеалогию от хитроумного Одиссея — к Леопольду Блуму, возникает из ниоткуда и, в сущности, никогда не заканчивается. Подобно тому как Джойс совмещает эллинский подтекст с топикой Дублина, Волохонский сливает воедино советское пространство и пространство Римской империи, чтобы в итоге вынести приговор и тому и другому.
Одним из центральных событий романа, если здесь вообще уместно говорить о событиях, является падение сов в лесу (седьмая глава — «Глава из романа»; известная игра слов «совпадение = падение сов», встречающаяся, скажем, у Анны Альчук). Стилистическое облачение этого каламбура выводит его из одномерной плоскости словесной игры в пространство СОВетского абсурда:
«...Как вдруг, словно ветром огромную тучу, нанесло с высей сероватые хлопья. Кружась, они медленно падали повсюду невдалеке, и по мере того как они покачивались все ниже и ниже, становилось видно, что это широкое пространство сов мягко опускается на темную землю. Частью живые, частью остекленевшие округлые птицы прикасались к мостовой в самых разных положениях тела — иные скреблись ногами о неподатливый смолистый грунт, иные ложились на бок, не переставая смотреть разумно вперед параллельными зрачками, а третьи, тоже не теряя осмысленного взора, поднимались на темя головы и так стояли, чуть покачиваясь, оперенными ваньками-встаньками...»
Именно в этом эпизоде диалоги персонажей материализуются, и речь начинает преобладать над романной реальностью. Иррациональное событие, родившееся из случайного каламбура, переворачивает привычный мир с ног на голову. «Роману моему пришел конец, — пишет Волохонский в послесловии. — Хотя с его героем Романом Владимировичем Рыжовым на протяжении действия случилось мало чего особенного, у читателя не должно возникать чувств, будто автор его надул, подсунул не то, что обещал раньше, поиздевался и бросил на полдороге. Покойникам вообще не свойственно сильно меняться». Незаметный словесный сдвиг («чувств» вместо «чувства») показывает отношение автора к поверхностному, «импрессионистическому» восприятию искусства. Произведения Волохонского стимулируют медленное чтение и с каждым разом открываются новыми гранями перед «трудолюбивым и любопытным читателем», которому в своей преамбуле к примечаниям адресует издание И. Кукуй.
Желание высшей гармонии и синтез различных историко-культурных пластов отразились не только в художественных произведениях Волохонского, но и в его переводах и переложениях, собранных в третьем томе издания. Диапазон интересов крайне обширен: Катулл, средневековая куртуазная литература, фрагменты древнекитайского «Каталога гор и морей»... Центральное место занимают здесь «Уэйк Финнеганов» Джойса или, вернее, опыт его «отрывочного переложения российскою азбукой», и извлечения из книги «Зогар», одного из центральных текстов средневековой каббалистической литературы.
Творчество Анри Волохонского многомерно и весьма непросто для восприятия. Однако именно эта многомерность и отсутствие ложной патетики позволяют насладиться литературой «как таковой», в ее чистом, не отягченном идеологией виде, оценить авторскую игру, одновременно серьезный и ироничный абсурд, и лишь затем браться за раскопки и чтение между строк. При этом не следует забывать авторскую инвективу — типичный для Волохонского парадокс:
Мысль изреченная,
нам говорят, есть ложь
Неизреченная же,
как мы видим, тож.
[1] Цит. по: Кукуй И. Об авторе этих книг. — Волохонский А. Собрание произведений, т. 1, стр. 5.
[2]Tichomirova E. Russische zeitgenossische Schriftsteller in Deutschland. Ein Nachschlagewerk. Munchen, 1998, S. 164.
[3] См. вступительную статью к Собранию сочинений — Волохонский А., т. 1, стр. 8.