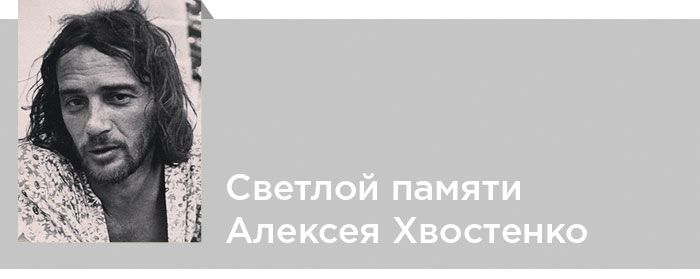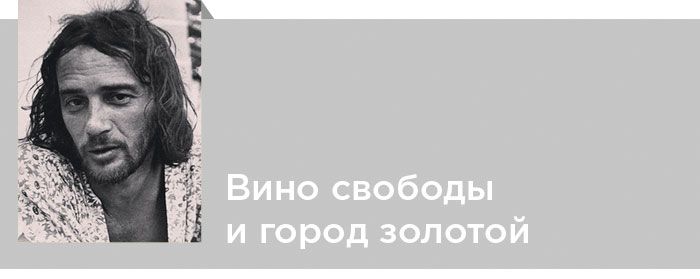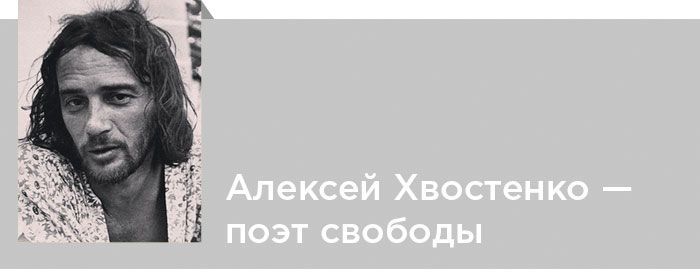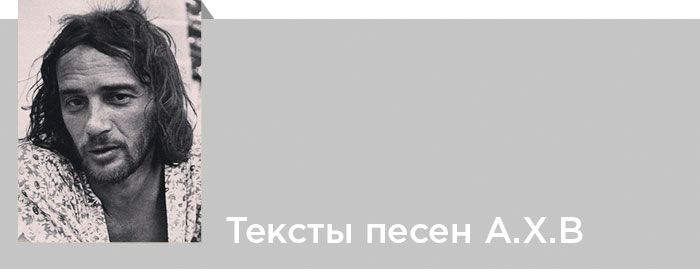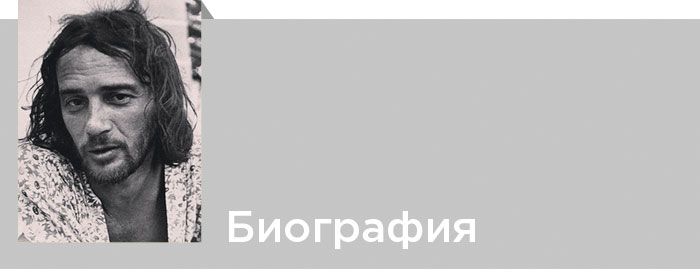Алексей Хвостенко. Колесо Времени

Кирилл Медведев, Русский Журнал, 1999
Алексей Львович Хвостенко — фигура в российской культуре уникальная и реликтовая. Одна из самых экстравагантных персон петербургского андеграунда 60-х. В конце семидесятых он эмигрировал, поселился в Париже, где издавал совместно с Владимиром Марамзиным журнал "Эхо", выставлялся как художник (или скульптор?) в Хрустальном Дворце, писал стихи и пел песни. Среди последних проектов Хвостенко — музыкальный альбом на стихи Хлебникова, записанный с группой "Аукцыон".
В его новую книгу (предыдущая называлась "Продолжение" и вышла в 1995 году в Петербурге) вошли стихи, писанные на протяжении 35 лет — последнее датируется 4-м января 99-го года.
Генезис поэзии Хвостенко (почти все, что будет сказано о Хвостенко, применимо и к Анри Волохонскому — настолько близки и творчески, и биографически они были и есть; некоторые называют их "архаистами") формально выводится из обэриутов, эмоционально же традиционный абсурдизм 20 века ему по большей части чужд. Его абсурд не проникнут отчаянием и безысходностью, как у обэриутов или европейских абсурдистов, а, напротив, светел и жизнерадостен, по-доброму ироничен — в этом он, безусловно, принадлежит не 20 веку, а Ренессансу или античности. Между тем, возможно, именно "архаисты" и сформировали третье, "постпостфутуристическое", поколение русского авангарда, подхватив хлебниковскую, опосредованную обэриутами интенцию поэтического освоения языкового пространства вне близлежащих смысловых территорий.
Но если основная претензия футуристов — "язык будущего", а обэриуты явились скорее реакцией на грандиозное смещение языковых пластов 20-30-х годов (т.е. поэтически, интуитивно, "освещали" современное им состояние языка: усиливающийся разрыв между значением и предметом, нарастающий идеологический диктат языка — короче, ситуацию, когда градус абсурда и в общественной, и в литературной жизни уже явно начинал зашкаливать), то тексты Хвостенко питаются энергией поэзии старинной. Это тот случай, когда в современном стихе современность существует в основном на уровне метода. Архаика же (и классика тоже) подпитывает материалом, интонациями.
Вдохновением. Отсюда, например, обилие травестийных риторических конструкций или такая вот, например, форма, почти гекзаметрическая:
"пой, пой волны прохладу горизонта колеблемого полднем знойным тамариска"
и т.д. — немыслимая ни у футуристов, ни у обэриутов. И те, и другие, в отличие от "архаистов", имели серьезные претензии к предыдущей традиции.
Поэзия Хвостенко, помимо всего прочего, — еще один вызов общепринятой модели восприятия литературы, в основе которой — приятие лишь того, что так или иначе затрагивает сферу личного эмоционального опыта. Читатель требовал и требует от автора проникновения в свои собственные, не бог весть какие глубины — чтоб "думать и жить помогало". В советских инструкциях по эксплуатации литературы такой подход постулировался уверенно и непреложно.
Не то у "архаистов". Как бы изначально незрелая, юношеская, декларативно несмышленая и безответственная, родившаяся, может быть, как защитная реакция языка, внутренний бунт против засыхающего советского канцелярита, их поэзия — роскошь, вещь дорогая и в хозяйстве ненужная. Драгоценный камень со множеством разноцветных граней. Веселые поэтические чудища, полузвери, полулюди, полурастения, вызванные дудочкой полупьяного заклинателя из первобытного хаоса материала. Как мало кому в двадцатом веке, архаистам удалось запечатлеть в стихе радость, именно радость, бесконечное празднование творческой вседозволенности, ритуал торжественного и бесстыдного самолюбования. Поэзия, способная вызывать прежде всего восторг — не туманную меланхолию, не труднопостижимый и всеоправдывающий катарсис, не заживление родовых и благоприобретенных языковых травм, а буквально восторг — когда слово наяву шевелит усами, сосет под ложечкой, щиплет в носу, щекочет за ухом или залезает на плечи. Поэзия понимается не как объяснение в любви, не как подслушанная исповедь, не как доверительная беседа или страница из дневника, но как театр или даже цирк, где любой текст — от частушки до философского трактата — показывается как фокус, разыгрывается по ролям и нотам. Зритель находится на сцене, а сцена крутится, поэтому точка зрения меняется ежесекундно (как в несбывшемся театральном проекте Бориса Понизовского — равно выдающегося деятеля петербургского артистического подполья; они, кстати, были знакомы с Хвостенко). Такой театр неизбежно ставит перед читателем дилемму: либо принять странные и по-своему жесткие (в силу их почти полной неразличимости) правила игры, либо выйти из зала после первой же сцены, да еще потребовать деньги.
Эта поэзия распаляет самолюбие читателя еще и потому, что, представляя собой, на первый взгляд, "набор слов" (на взгляд более внимательный — набор смыслов, звуков и т.п.), непременно заигрывает с базовым стереотипом зрительского восприятия современного искусства ("я тоже так могу"), вызывая либо — в большинстве случаев — гнев и отторжение ("это не поэзия!"), либо — что реже, но гораздо оправданнее — внутреннее торжество, практически адекватное авторскому. Если говорить о какой-либо функции такой поэзии, то она состоит, по-моему, именно в этом. Тексты Хвостенко — поэзия тотальной возможности, полувоплощенный хаос. Иллюзорная легкость нанизывания слов на нити причудливой гармонии должна оставлять читателю ощущение доступности подобного развлечения. Фраза "когда все станут художниками" мелькает в одном программном документе, своего рода манифесте "Верпа", написанном другом и единомышленником Хвостенко поэтом Леонидом Ентиным: "... тем более изумительны результаты ветеринара-верпатора и охотника Хвостенко. Практически, в данной области основные достижения принадлежат ему. ...Хитрая Верпа пытается спрятаться в дебри языка. Но мы применяем предложенные А.Хвостенко химикаты, и хитрому зверю не уйти. ...В интервью с нами А. Хвостенко сказал: "Когда все станут художниками, каждый сможет постоянно общаться с Верпой". Поэзия Хвостенко существует в момент перехода от ситуации реальной (когда понятие классического как меры вещей уже достаточно распылено, но все-таки еще существует) к ситуации утопической (когда классики, а следовательно, и критериев, и канонов не существует и каждый поет свою песню — равно гениальную, ибо авторитетов нет, подражать некому, а плохое произведение — чаще всего произведение подражательное, суррогат, "грубая копия", не так ли?).
Поэзия Хвостенко во многом апеллирует к детскому восприятию, но без форсированной самоцензуры, которую — ориентируясь на ограниченный словарный запас и сравнительно узкий кругозор ребенка — неизбежно приходится осуществлять "настоящим" детским поэтам (кстати, нельзя не провести параллель между поэзией архаистов и английским классическим абсурдизмом: тот же аристократизм и лукавая утонченность). Приемы детской поэзии налицо: тот же примитивизм, звуковая игра, огромное количество животных как носителей тайны и колоссального комического потенциала — педалирование циркового, акробатического начала в природе и в искусстве.
"А там нам придется узнать, что и рыбы мало рук
Копыта лося его рога обегают вокруг".
Природа в поэзии Хвостенко абсолютно лишена клише традиционных восприятий и стандартных ассоциаций. Он полностью отказывается от чтения природы как текста реалистического, обуславливающего восприятие либо "охотничье", как у Тургенева, либо набоковское, "дачное", либо профанически-декоративное, как у Северянина, либо символическое, как у многих. Хвостенко читает природу как текст непостижимый и потому абсурдный (каким она, по сути дела, для человека конца 20 века и является — особенно учитывая сосуществование в его сознании четырех выше выделенных моделей восприятия).
Итак, с одной стороны — русский авангард начала века, а с другой — старая русская поэзия (век 18-й и 19-й — "Золотой") и классическая мировая, явленная в переводах и изначально представляющая для того же авангарда замкнутую, герметическую, совершенно не доступную в плане творческого освоения сферу...
"Сумарокову-батюшке в ножки я кланяюсь ныне,
Чтоб меня он простил в моей ветхозаветной гордыне,
Манной слов его, супом из щей Антиоха
Я питаю свой стих в стольном городе князя Молоха..."-
Творчество Хвостенко родилось, судя по всему, прежде всего из интереса к архаической традиции — во многом минуя Серебряный Век, от античной лирики и драмы через Ренессанс, через Ломоносова, Державина и Пушкина к футуристам и обэриутам. Родилось как из восхищения традицией, так и из осознания того факта, что прямое ее продолжение невозможно. Что дверца тихо закрылась, что творить можно, либо вынося за скобки практически всю предыдущую традицию и создавая новую поэтическую речь на основе речи бытовой (так поступали в Москве), либо выстраивать новую поэтику на ее, традиции, переосмыслении. Расплести цветастую ткань старинной поэзии и переткать ее заново. Хвостенко достигает чистоты и совершенства в использовании давно известного приема. Слово помещается в чуждую экологическую среду, при этом высвобождается сакральный, трагикомический, музыкальный и какой угодно потенциал, обнажаются этимологические корни, речь освобождается от заданности и обреченности, поэтическое слово — от пресловутой "сальности" как "залапанности", "заляпанности", нагруженности привычном смыслом. Даже т.н. "инвективная лексика" звучит у Хвостенко как-то особенно именно потому, что сильнейшая семантическая буря, разыгранная в стихе, срывает оболочки со слов и предметов, оставляя им лишь физическую энергию, которая и составляет их сущность. Из слов, медитаций, песен, диалогов и бормотаний собирается разношерстный лексический материал, вокруг слова кропотливо складываются обстоятельства тайны:
"ах, странник, странник,
что за притча
твоя посудина из жести
глухие подает надежды
тревожные приносит вести"
..."проверить этой тайны прочность
посыпать эту тайну дустом..." —
Прислушайтесь: "дустом"! — слово попадает в незнакомую обстановку и как бы в замешательстве в упор разглядывается удивленными поэтическими глазами. Поэтический жест становится средством эстетического освоения неведомого пространства, автор будто и вправду идет по следу вымершего зверя, навострив уши, напрягая тончайшие вибриссы, пытаясь вынюхать первоначальный запах, почувствовать шорохи неназванного, неосвоенного мира, явленного в словах и звуках. Этот запах хранят слова-души, витающие над предметами. Они то смыкаются, то проникают внутрь, то отлетают прочь и кружатся в невидимом хороводе.
"Ах, какое это удовольствие — парить на чистой ноте". — Стихи Хвостенко имеют, безусловно, природу музыкальную: слово в процессе игры, как мяч, швыряется в клокочущий звуковой поток. Но музыка эта не минорная (иначе об этом не следовало бы и говорить, настолько затертым штампом русской поэзии стала понимаемая в постмандельштамовском смысле "музыкальность"), а веселая, восторженная, ликующая. В этом и есть, по-видимому, основное достижение "архаистов": запечатлеть в искусстве чистый восторг кажется сегодня гораздо более сложным, чем что-либо другое. А поскольку восторг — категория иррациональная, то и утрата внятности высказывания кажется в этом контексте абсолютно закономерной. Подобно поэту Хвостенко ведет себя ребенок, впервые увидевший слона. Точнее, старик — единорога.