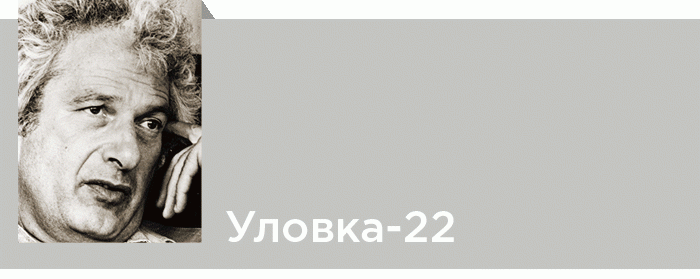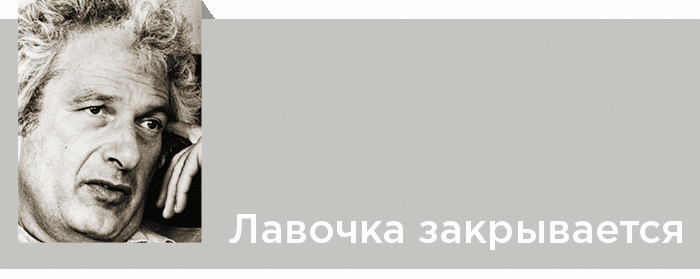Фридрих Кристиан Хеббель. Юдифь

(Отрывок)
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Юдифь.
Олоферн.
Военачальники Олоферна
Телохранители и воины Олоферна.
Посол Навуходоносора.
Ливийские послы.
Месопотамские послы.
Мирза — служанка Юдифи.
Эфраим
Старейшины города Ветилуи.
Священники ветилуйские.
Амон |
Озия |
Вен |
Ассад |
Даниил — брат Ассада, слепой и немой | ветилуйские
Самайя — друг Ассада | горожане
Иошуа |
Делия — жена Самайи |
Самуил — древний старец |
Его внук |
Ахиор — военачальник моавитянский.
Верховный жрец ассирийский.
Слуги Олоферна, стража Олоферна, ветилуйские горожане, женщины, дети.
Действие происходит в городе Ветилуе и его окрестностях.
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Лагерь Олоферна. Впереди справа палатка Олоферна. Рядом другие палатки. Толпы воинов. Верховный жрец. На заднем плане горный хребет, в горах виден город. Олоферн выходит из палатки, окруженный военачальниками и телохранителями. Раздается музыка. Он делает знак, музыка смолкает.
Олоферн. Жертву!
Верховный жрец. Какому божеству?
Олоферн. Кому вчера приносили жертву?
Верховный жрец. Мы бросили жребий по твоему приказу, и жребий выпал Ваалу.
Олоферн. Значит, Ваал сегодня сыт. Принесите жертву богу, которого все вы знаете и все-таки не знаете.
Верховный жрец (громким голосом). Олоферн приказал принести жертву богу, которого все мы знаем и все-таки не знаем.
Олоферн (смеясь). Это бог, которого я чту превыше всех. (Совершается жертвоприношение) Телохранитель!
Телохранитель. Что угодно Олоферну?
Олоферн. Тот из моих воинов, у кого есть жалоба да своего начальника, пусть выйдет вперед. Объяви об этом.
Телохранитель (проходит по рядам солдат). У кого ость жалоба на начальника, пусть выйдет вперед. Олоферн желает его выслушать.
Один из воинов. Я жалуюсь на своего начальника.
Олоферн. За что?
Воин. Во время вчерашнего сражения мне удалось захватить рабыню, такую красивую, что я остановился в смущении, не решаясь дотронуться до нее. Начальник пришел вечером в мою палатку, когда меня не было, увидел девушку и зарубил ее за то, что, она не покорилась ему.
Олоферн. Казнить начальника. (Конному стражнику.) Быстро! И воина тоже. Взять его. Но пусть начальник умрет первым.
Воин. Ты хочешь убить меня вместе с ним?
Олоферн. Ты слишком дерзок. Я хотел испытать вас своим приказом. Если позволить вам жаловаться на начальников, кто запретит начальникам жаловаться на меня?
Воин. Я хотел сохранить эту девушку для тебя.
Олоферн. Нищий, нашедший корову, знает, что она принадлежит королю. Король не обязан рассыпаться а благодарностях. Однако я награжу тебя за старания, ибо нынче я милостив. Можешь напиться допьяна моим лучшим вином перед казнью. Уведите его.
Конная стража уводит воина.
(Одному из военачальников) Прикажи седлать верблюдов.
Военачальник. Они оседланы.
Олоферн. Разве я уже отдал приказ?
Военачальник. Нет, но я ждал этого приказания.
Олоферн. Кто ты такой, что осмеливаешься читать мои мысли? Я не потерплю угодливости. Сперва моя воля, потом ваша покорность, но не наоборот. Запомни это.
Военачальник. Прости. (Уходит.)
Олоферн. Все искусство в том, чтобы не дать им понять себя, всегда оставаясь загадкой. Вода этим искусством не владеет: воду можно остановить, соорудив плотину. Реку можно направить по другому руслу. И огонь не владеет этим искусством: он до того унизился, что варит похлебку любому проходимцу и каждый повар знает его природу. Даже солнце не овладело этой премудростью: люди высмотрели его пути, и всякий портняжка измеряет время по длине тени. Я этим искусством владею. Они ходят за мной по пятам, заглядывая в каждую щелку души, пытаясь превратить любое слово в отмычку, раскрывающую тайны сердце. Но мой нынешний день никогда не похож па вчерашний, я не такой глупец, чтобы трусливо поклоняться самому себе, самовлюбленно повторяясь день за днем. Завтрашний Олоферн с хохотом рубит сегодняшнего на куски и пожирает его. Жить — это не значит просто есть, пить и спать. Это значит — каждый день рождаться снова и снова. Когда я гляжу на этот сброд, мне все время кажется, что я один живу, а они ощущают свою жизнь лишь когда я рублю им руки и ноги. Они это чуют, но боятся приблизиться ко мне и подняться до меня и потому трусливо отступают, и бегут, как звери от огня, чтоб не спалить усы. О, если бы хоть один дерзнул выйти мне навстречу! Я обнял бы такого врага и, повергнув его во прах, сам упал бы, погибая с ним вместе. Что такое Навуходоносор? Высокомерное ничтожество. Бурдюк, переполненный жиром. Ассирия и Олоферн — вот на чем он держится. Я покорю ему мир, а потом лишу его власти.
Военачальник. Прибыл посол нашего великого владыки.
Олоферн. Немедленно привести его сюда.
Военачальник уходит.
(Про себя.) Шея, довольно ли в тебе гибкости, чтобы склониться? Навуходоносор печется о том, чтобы ты не разучилась гнуться.
Входит посол Навуходоносора.
Посол. Навуходоносор, пред которым все живое лежит во прахе, чья мощь и власть простирается от восхода и до заката шлет, благосклонный привет своему полководцу Олоферну.
Олоферн. Смиренно ожидаю приказании властителя.
Посол. Навуходоносору угодно, чтобы отныне люди почитали богом лишь его одного.
Олоферн (горделиво). На это решение, его вдохновила весть о моих новых победах?
Посол. Навуходоносор приказал, чтобы отныне жертвы приносились лишь ему, а алтаря и храмы других богов предавались огню.
Олоферн (про себя). Один вместо многих — как удобно. И удобнее6 всего самому царю: бери блестящий шлем и молись своему отражению. Смотри только, чтобы живот не схватило, а то, чего доброго, скорчишь рожу и сам себя напугаешь. (Вслух.) Надеюсь, у Навуходоносора в этом месяце не болели зубы?
Посол. Мы благодарим за это богов.
Олоферн. Ты хочешь сказать, его самого?
Посол. Навуходоносор приказал, чтобы каждое утро па рассвете ему приносили жертву.
Олоферн. Сегодня, к несчастью, уже поздно. Мы принесем ему жертву вечером, на закате.
Посол. Навуходоносор приказал тебе, Олоферн, беречь себя и не рисковать жизнью понапрасну.
Олоферн. Да, приятель, если бы мечи могли рубить сами, без нас. А кроме того, ничто так не вредит моему здоровью, как беспрестанные возлияния в честь владыки. Не могу же я от них отказаться!
Посол. Навуходоносор сказал, что никто не может заменить такого слугу, как ты. Ты должен беречь себя.
Олоферн. Хорошо, я буду любить и беречь себя согласно приказаниям моего повелителя. Целую край его одежды.
Посол Навуходоносора уходит.
Телохранитель!
Телохранитель. Что угодно Олоферну?
Олоферн. Нет бога, кроне Навуходоносора. Объяви об этом.
Телохранитель (проходит по рядам воинов). Нет бога, кроме Навуходоносора!
Верховный жрец проходит мимо.
Олоферн. Жрец, ты слышал приказ?
Верховный жрец. Да.
Олоферн. Иди и разрушь изображение Ваала, которое мы таскаем за собой. Обломки дарю тебе.
Верховный жрец. Как могу я разрушить то, чему поклонялся?
Олоферн. Пусть Ваал защищается. Одно из двух: либо ты разрушишь статую, либо будешь повешен.
Верховный жрец. Я разрушу ее. (Про себя.) На пей золотые браслеты. (Уходит.)
Олоферн. Да будет проклят Навуходоносор. Да будет проклят за великую мысль, которая осенила его, но которую он способен лишь извратить и выставить па посмеянье. Я-то понял давно, что единственное предназначение человечества — породить бога из лона своего. А как бог, порожденный людьми, докажет им, что он бог? Есть лишь одно средство: стать для этих тварей вечным бичом, с корнем вырвать из сердца сострадание и страх и трусливый трепет перед безмерностью цели, давить и обращать их во прах, чтобы и в предсмертных корчах из их груди исторгались вопли восторга! Навуходоносор устроился лучше: глашатай провозгласит его богом, а мое дело — доказать, что он бог.
Верховный жрец проходит мимо.
Ты разрушил статую Ваала?
Верховный жрец. Она погибла во пламени. Бог да простит меня.
Олоферн. Нет бога, кроме Навуходоносора. А тебе я приказываю измыслить этому доказательства. За каждую идею ты получишь унцию золота. Даю тебе три дня сроку.
Верховный жрец. Надеюсь, что сумею выполнить твой приказ. (Уходит.)
Входит один из военачальников.
Военачальник. Послы царя просят выслушать их.
Олоферн. Какого царя?
Военачальник. Прости, но невозможно запомнить имена всех царей, униженно склоняющихся пред тобою.
Олоферн (бросает ему золотую цепь) Впервые слышу слово «невозможно» с удовольствием. Введи их.
Военачальник уходит.
Входят послы из Ливии.
Ливийские послы (падают на колени). Царь Ливийский повергается во прах пред тобой, если ты соблаговолишь войти в столицу его державы.
Олоферн. Почему вы пришли сегодня, а не вчера?
Ливийские послы. О господин!
Олоферн. Что было причиной — большое расстояние или малое почтение?
Ливийские послы. О, горе нам!
Олоферн. (про себя) Гневом полна душа моя, гневом против Навуходоносора. Я должен быть милостивым, чтобы эти жалкие черви не возомнили себя причиною моего гнева. (Вслух.) Встаньте и скажите вашему царю…
Военачальник (входя). Послы из 'Месопотамии.
Олоферн. Пусть пойдут.
Военачальник уходит. Входят Месопотамские послы
Месопотамские послы (падают ниц). Месопотамия готова покориться великому Олоферну, если в награду за это он явит ей свою милость.
Олоферн. Я одаряю народы милостью, но не торгую ею!
Месопотамские послы. Нет-нет! Месопотамия покорится тебе на любых условиях, она лишь смоет надеяться на милость.
Олоферн. Не знаю, смогу ли я оправдать ваши надежды. Вы слишком долго медлили.
Месопотамские послы. Нам пришлось пройти долгий путь.
Олоферн. Все равно. Я поклялся, что уничтожу парод, который придет поклониться мне последним. Я сдержу клятву.
Месопотамские послы. Мы не последние. Мы слышали в пути, что евреи — единственный парод, готовый оказать сопротивление.
Олоферн. Тогда передайте вашему царю, что я принимаю изъявление его покорности. Условия он узнает от военачальника, которого я пришлю. (Обращаясь к ливийским послам) Вашему царю скажите то же. (Снова к месопотамским послам.) Кто такие евреи?
Месопотамские послы. Господин, это племя безумцев. Ты же видишь, они дерзают сопротивляться. Безумие их тем очевиднее, что они поклоняются богу, которого не могут ни видеть, ни слышать. Неизвестно, где он обитает, по они приносят ему жертвы, словно он взирает па них с алтаря столь же дико в грозно, как наши боги. Живет этот народ в нагорной стране.
Олоферн. Какие обитаемые ими города, много ли у них войска, в чем их крепость и сила, кто поставлен над ними царем?
Месопотамские послы. О господин, эти люди скрытные и недоверчивые. Мы знаем про них не больше того, что они знают про своего бога. Они избегают общенья с другими народами. С нами они не стали бы ни есть, ни пить, разве только сражаться.
Олоферн. Зачем ты говоришь, если не можешь ответить па мой вопрос? (делает знак рукой.)
Месопотамские послы уходят, низко кланяясь.
Пусть военачальники моавитян и оммонитян явятся ко мне.
Телохранитель уходит.
Олоферн. Я уважаю народ, готовый оказать сопротивление. Жаль, что мне приходится уничтожать все, что вызывает во мне уважение.
Входят военачальники, среди них Ахиор.
Что это за народ, живущий в нагорной стране?
Ахиор. Господин, я знаю этот народ и скажу тебе истину о нем. Евреи достойны презрения, когда выходят на бой с копьями и мечами. Оружие ломается у них в руках, как тростник, ибо собственный их бог ломает его, не желая, чтобы они сражались и пятнали себя пролитой кровью. Он мнит сам уничтожить их врагов. Но евреи внушают ужас, когда поклоняются своему богу, как он им приказал: падают па колени, посыпают голову пеплом, испускают жалобные вопли, проклиная себя самих. Тогда кажется, что весь мир стал другим, природа забыла свои законы, невозможное оказалось возможным, море расступилось и воды стали как стены, открыв дорогу, а с неба падает манна и свежие ключи бьют из песков пустыни.
Олоферн. Какое же имя носит бог?
Ахиор. Произнести имя бога для них богохульство. Чужестранцев они за это убивают.
Олоферн. Какие у них города?
Ахиор (указывал на город в горах). Ближайший город называется Ветилуя, видишь, вот он. Там они засели и собираются защищаться. А главный город этой страны называется Иерусалим. Я был там и видел храм еврейского бога. Равных ему нет на земле. Когда я смотрел в изумлении на этот храм, мне показалось, словно чья-то длань легла мне на плечи и придавила к земле. Я вдруг опустился на колени, сам не знаю, как и почему. Они чуть не побили меня камнями, ибо, поднявшись, я ощутил непреодолимое желание вступить в священный храм, а за это карают смертью. Красивая девушка преградила мне путь и предупредила об этом. Не знаю, из жалости ко мне или из боязни, что храм будет осквернен язычником. А теперь выслушай меня, о повелитель, и не пренебрегай моими словами. Прикажи разузнать, не согрешил ли еврейский народ против своего бога. Если есть в них это заблуждение, мы смело можем напасть на них, и бог дарует нам победу и повергнет их к твоим стопам. Но если нет в этом народе беззакония, то пусть удалится господин мой, чтобы господь не защитил их, — иначе мы для всей страны станем предметом поношения. Ты грозный полководец, по еврейский бог могуч. Даже если среди защитников города и нет равного тебе по доблести, их бог может помутить твой разум, в ты восстанешь сам на себя и сам себя погубишь.
Олоферн. Что побуждает тебя пророчествовать — страх или хитрость? Я мог бы наказать тебя за то, что ты осмеливаешься бояться еще кого-то, когда рядом с тобой я. Но я не сделаю этого. Ты сам произнес свой приговор. Что будет с евреями, то будет и с тобой. Взять его, но не причинять никакого вреда.
Ахиора берут под стражу.
А когда город будет взят, убейте его и принесите мне голову. Я дам за нее столько золота, сколько она весит. (Возвысив голос.) А теперь вперед, на Ветилую.
Войско идет на приступ.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
Покои Юдифи. Юдифь и Мирза сидят за ткацким станком.
Юдифь. Что ты скажешь об этом сне?
Мирза. Ах, да послушай же, что я тебе говорю!
Юдифь. Я шла и шла, торопилась, сама не зная куда. Иногда я останавливалась в задумчивости, и на душе у меня было тяжело, будто я совершаю великий грех. «Прочь, прочь!» — повторяла я и спешила дальше.
Мирза. Эфраим прошел сейчас мимо. Он был печален.
Юдифь (не слушая ее) Вдруг я оказалась на высокой горе, голова закружилась, а солнце было совсем рядом, и я гордо смотрела ему прямо в глаза. Внезапно я заметила, что стою у самого края пропасти, мрачной бездонной расщелины, полной густого тумана. У меня не было сил ни отойти, ни стоять спокойно. Я пошатнулась и сделала шаг вперед, крича от страха: «Боже, боже!» «Я с тобой!» — раздался голос из бездонной глуби, нежный и ласковый. Я прыгнула в пропасть, и ласковые руки подхватили меня, и невидимые обьятия сомкнулись, несказанное блаженство наступило. Но я была слишком тяжела, он не удержал меня, и я стала погружаться все глубже и глубже, слышала его плач, горючие слезы капали мне па ланиты.
Мирза. Я знаю толкователя снов. Позвать его?
Юдифь. Увы, это запрещено законом. Но такими снами нельзя пренебрегать. Послушай, что я думаю: когда человек лежит погруженный в сон, расслабленный, в самозабвенье, то предчувствие будущего вытесняет все мысли и образы, связанные с настоящим, и то, чему быть суждено, скользит тогда над спящей душой, как тень, приготавливая ее, предостерегая и утешая. Оттого события нашей жизни так редко, почти никогда не застают нас врасплох: мы твердо надеемся на добро и заранее дрожим, предчувствуя горе. Я часто спрашивала себя: не точно ли так же грезит человек в последнее мгновение перед смертью, предчувствуя ее?
Мирза. Отчего ты не слушаешь, когда я говорю тебе об Эфраиме?
Юдифь. Оттого что мужчины мне противны!
Мирза. Но ты же была замужем.
Юдифь. Я открою тебе тайну. Мой муж был безумен.
Мирза. Не может быть, я бы это заметила.
Юдифь. Либо он был безумен, либо я ужасное, страшное существо, внушающее страх даже самой себе. Помнишь, мне не было и четырнадцати, когда меня выдали за Манассию. Ты помнишь этот вечер, ты сопровождала меня. С каждый шагом давящая тяжесть ложилась мне на душу — то мне казалось, что я сейчас умру, то думалось, что жизнь только начинается. А вечер манил и увлекал неодолимо, теплый ветер приподнимал мое покрывало, словно говорил: «Час настал». Но я натягивала покрывало на пылающее лицо, мне было стыдно. Отец шел рядом, он был серьезен и что-то говорил, но я не слушала. Иногда я поднимала на него глаза и думала: «Манассия, должно быть, не похож на него». Разве ты ничего не заметила? Ты ведь была рядом.
Мирза. Я тоже стыдилась — вместе с тобой.
Юдифь. Наконец меня привели в его дом, и старуха мать торжественно вышла навстречу. Нелегко было назвать её матерью: мне казалось, что моя мать слышит это в могиле и ей больно. Потом ты умастила меня благовонными маслами, и мне опять показалось, что это смерть и меня умащивают, как покойника. Да и ты сказала, что я побледнела. И вот вошел Манассия и взглянул да меня, сперва смущенно, потом дерзко. Он взял меня за руку и хотел что-то сказать, но не смог. И тут меня охватило жаром, все запылало во мне. Прости, что я говорю про это.
Мирза. Ты закрыла лицо руками, а потом вдруг выпрямилась к бросилась ему на шею. Как я испугалась!
Юдифь. Я видела это, и мне стало смешно. Мне казалось, что я гораздо умней тебя. Но слушай дальше. Мы вошли в брачный покой. Старуха совершала странный обряд, бормотала что-то похожее на благословение. Мне снова стало тяжело и страшно, когда я осталась одна с Манассией. Три светильника горели. Он хотел погасить их. «Оставь, оставь», — сказала я умоляюще. «Дурочка», — ответил он и хотел обнять меня. Тут первый светильник погас, мы и не заметили. Он поцеловал меня. Погас второй светильник. Манассия вздрогнул, и меня охватила дрожь, но он рассмеялся и сказал: «Третий погашу я сам». «Скорей, скорей», —повторяла я, меня знобило. Он погасил третий светильник. Я скользнула в постель, луна ярко светила мне прямо а лицо. Манассия воскликнул: «Я вижу тебя ясно, как днем!» — и сделал шаг ко мне. Вдруг он остановился. Казалось, черная рука протянулась из-под земли и схватила его. Мне стало жутко. «Иди, иди сюда!» — воскликнула я, забыв всякий стыд. «Не могу», — ответил он мрачно и глухо. И повторил: «Не могу!» — глядя па меня широко раскрытыми от ужаса глазами. Потом отошел, шатаясь, к окну и пробормотал слова: «Не могу, не могу». Казалось, он видел не меня, а что-то странное, чуждое и ужасное.
Мизра. Несчастная!
Юдифь. Я «рыдала, чувствуя себя оскверненной, в эту минуту я ненавидела и презирала себя. Он стал говорить мне ласковые слова, я снова протянула к нему руки, но он начал тихо молиться, не приближаясь ко мне. Сердце мое остановилось, кровь будто оледенела. Я тщетно пыталась постигнуть сама себя и постепенно погрузилась в сон — с таким чувством, словно сейчас только и начала просыпаться. Наутро Манассия стоял у моего ложа и глядел на меня с бесконечным состраданием. Мне стало тяжело, я задыхалась — и вдруг что-то оборвалось внутри, я дико захохотала и вздохнула легче. Мать глядела па меня презрительно и мрачно, видно было, что она подслушивала нас ночью. Мне она не сказала ни слова, только зашепталась с сыном в углу. «Чепуха! — воскликнул од вдруг громко и гневно. — Юдифь — настоящий ангел». Он хотел поцеловать меня, но я отстранилась, а он как-то странно покачал головой, словно так и должно быть. (После долгой паузы.) Полгода я была его женою, и он ни разу не прикоснулся ко мне.
Мирза. Что же было дальше?
Юдифь. Мы жили рядом, чувствуя, что мы друг другу не чужие, но что-то мрачное, странное стояло между нами. Иногда в его глазах было такое выражение, что я начинала дрожать от страха, готовая убить его, чтобы только избавиться от этого взгляда, впивавшегося мне в душу, как ядовитая стрела. Ты помнишь, три года назад, во время жатвы ячменя, он вернулся с поля больной, и через три дня я поняла, что он умирает. Мне казалось, что он обокрал меня и теперь собирается бежать; я ненавидела его за эту болезнь, за эту смерть, как за гнусный обман и святотатство. Он умирал, а я твердила про себя: «Он не смеет умереть, не смеет, унесть свою тайну в могилу. Надо собраться с силами в спросить наконец». «Манассия, — сказала я, склонившись над ним, — что это было, тогда, в нашу первую брачную ночь?» Его темные глаза уже закрылись, он с трудом поднял взгляд, и я содрогнулась: взгляд поднялся из глубин мертвого тела, как из могилы. Он долго смотрел на меня, потом сказал: «Да, да, да, теперь я могу тебе это сказать, ты...» И тут между памп стала смерть и навеки замкнула ему уста — будто испугалась, что я, недостойная, узнаю эту тайну. (После долгой паузы.) Видишь, Мирза, либо Манасспя был сумасшедший, либо я кончу безумием.
Мирза. Как страшно!
Юдифь, Ты ведь знаешь, что я иногда бросаю работу, оставляю ткацкий станок, падаю на колени и начинаю молиться. За это меня называют благочестивой и богобоязненной. А я просто ищу спасения от своих мыслей и обращаюсь к богу. Моя молитва — это вроде самоубийства: я бросаюсь в вечность, как в глубокую воду…
Мирза (делает усилие и переводит разговор па другое). В такие минуты лучше смотреть в зеркало. Блеск твоей юной красоты разгонит мрачные привидения.
Юдифь. Глупая, какой плод может питаться самим собой? Лучше не быть молодой и красивой, чем красоваться в одиночестве. Женщина — ничто. Лишь благодаря мужчине она становится чем-то — матерью. Только родив ребенка, женщина может отблагодарить природу за дарованную ей жизнь. Проклятье тяготеет над бесплодными, а надо мною вдвойне: я не жена и не дева.
Мирза. Кто же тебе мешает красоваться для других, для любимого мужа? Благороднейшие юноши ищут твоей благосклонности.
Юдифь (очень серьезно). Ты ничего не поняла. Красота моя как ядовитый плод. Вкусивший его обезумеет и погибнет.
Эфраим (быстро входя). А вы здесь садите так спокойно! Город осажден Олоферном!
Мизра. Помилуй нас, боже!
Эфраим. О, Юдифь, если 6 ты видела эту картину, ты бы содрогнулась. Я готов поклясться: этот нечестивец собрал у наших стен все, что способно заставить человека ужаснуться. Какое множество коней и верблюдов, колесниц и стенобитных машин! Счастье наше, что валы и ворота лишены глаз. Они рухнули бы со страху, увидав грозное войско.
Юдифь, У страха глаза велики. А у твоего особенно.
Эфраим. Я тебе говорю, весь город дрожит как в лихорадке. Ты, верно, ничего не слыхала об Олоферне, а я знаю, что это за человек. Единое слово из уст его страшнее дикого вепря. Вечером, когда стемнеет…
Юдифь. Он зажигает лампы.
Эфраим. Это мы с тобой зажигаем лампы. А он поджигает города и деревни и говорит: «Вот мои факелы. Они обходятся дешевле». Хорошо еще, если сгорит лишь один город, пока ему наточат меч и поджарят жаркое. Говорят, он засмеялся, увидев Ветилую, и спросил повара: «Как ты думаешь — этого хватит, чтоб испечь страусово яйцо?»
Юдифь. Хотела бы я на него поглядеть. (Про себя,) Что я сказала!
Эфраим. Горе тебе, если он тебя увидит. Олоферн убивает мужчин копьем и мечом, а женщин поцелуями и ласками. Если бы слух о твоей красоте достиг его ушей, он из-за одной тебя взял бы город.
Юдифь (улыбаясь). Вот и хорошо. Значит, стоит мне выйти к нему, и город, и вся страна будут спасены.
Эфраим. О, только ты одна можешь позволить себе высказать такое!
Юдифь. А почему бы и нет? Одна за всех. Я всегда спрашивала себя, зачем я живу, и не получала ответа. А сейчас — если даже он пришел не за мной, так нельзя ли заставить его поверить что он именно за мной и явился? Если этот великан вздымается главою под облака и вам до него не дотянуться, — так бросьте ему под ноги жемчужину, он нагнется, и тогда вы легко его одолеете.
Эфраим (про себя). Я сделал глупость. Хотел напугать ее и заставить искать у меня защиты, а вышло наоборот. Не смею взглянуть ей в глаза. Я надеялся, что в такой беде она станет искать опоры, а кто же ей ближе меня? (Вслух.) Юдифь, ты так бесстрашна, что перестаешь быть прекрасной.
Юдифь. Если ты настоящий мужчина, то ты имеешь право сказать такие слова.
Эфраим. Я настоящий мужчина и скажу тебе даже больше. О, Юдифь, грядут страшные времена, даже мертвецы в могилах не знают покоя. Как ты проживешь в такое время без отца, без брата, без мужа?
Юдифь. Уж не собираешься ли ты заслать Олоферна сватом?
Эфраим. Смейся, но выслушай. Я знаю, что ты презираешь меня, и, если, бы мир вокруг нас не изменился так грозно, я не показался бы тебе на глаза. Видишь этот нож?
Юдифь. Лезвие его так блестит, что я вижу в нем свое отражение.
Эфраим. Я наточил его в тот день, когда ты насмешливо оттолкнула меня, и, если б ассирийцы не появилась у стен города, я бы давно всадил его себе в сердце. Тогда тебе не пришлось бы глядеться в него, ибо он заржавел бы от крови.
Юдифь. Дай сюда! (Колет его ножом в ладонь, он отдергивает руку) Эх ты! Болтаешь о самоубийстве и боишься легкого укола.
Эфраим. Ты здесь предо мной, я вижу тебя, слышу твой голос а люблю себя самого, потому что меня больше нет, я полон тобой. Так бывает глубокой ночью, когда в сердце живет лишь боль когда смерть, как сон, манит смежить вежды и кажется, что ты послушно исполняешь волю незримой власти. Я знаю эти минуты, я уже не раз стоял у этой грани, не знаю только, почему не преступил ее. Ни мужество, ни трусость тут ни при чем. Это так же просто, как закрыть дверь, уходя из дому.
Юдифь протягивает ему руку.
Юдифь, я люблю тебя, ты меня не любишь, Ни ты, ни я не виноваты в этом. Но знаешь ли ты, что значит любить и быть отвергнутым? Это не обычная мука. Лишившись блага, я могу привыкнуть обходиться и без него. Раненный, могу набраться терпения и вылечиться. Но, отвергая мою любовь как причуду безумца, ты опустошаешь святая святых моей души. Ибо, если чувство, влекущее меня к тебе, всего лишь обман, — кто мне поручится, что не обман и вера, заставляющая меня молиться богу?
Мирза. Юдифь, и твое сердце не дрогнет?
Юдифь. Разве любовь — долг? Разве я должна протянуть ему руку, чтобы он выронил нож? Послушаешь вас...
Эфраим. Юдифь, я дерзаю еще раз просить тебя о милости! Не о любви прошу — позволь мне умереть за тебя, стать щитом, в который вонзятся мечи, грозящие тебе.
Юдифь. Ты ли это человек, который, казалось, потерял рассудок при одном взгляде на вражеское войско? А я уж собиралась одолжить ему юбку! Глаза сверкают, кулаки сжимаются. О боже мой, какое счастье — уважать человека, и какая боль — презирать его! Эфраим, я причинила тебе боль. Я сожалею об этом. Мне хотелось, чтобы ты перестал любить меня, потому я над тобой и насмехалась, Я ничего не могла тебе дать. Но теперь я хочу, я могу наградить тебя! Горе тебе, если ты сейчас не поймешь меня, если за словом тут же не последует дело, как неизбежность, как крик сердца, словно ты жил лишь для того, чтобы свершить это деяние. Иди и убей Олоферна! Тогда — тогда требуй от меня какой хочешь награды.
Эфраим. Ты не в себе! Убить Олоферна среди его войска! Да разве это возможно?
Юдифь. Возможно ли? Почем я знаю! Если б знала, я сделала бы это сама. Я знаю лишь, что это необходимо.
Эфраим. Я никогда его не видел, по вижу, как живого!
Юдифь. Я тоже. В лице одни глаза, повелительный взгляд. Поступь, от которой сама земля содрогается в страхе. Но ведь было время, когда его не было, значит, может настать и такое время, когда его не будет.
Эфраим. Вооружи его громом и молнией, но убери войско, и я осмелюсь! А так...
Юдифь. Стоит только захотеть. Призови на защиту силы господни из глубин земных и с тверди небесной, и господь благословит твое деянье, даже если не спасет тебя. Ибо все жаждет гибели этого человека, — гнев божий пробудился, сама природа содрогается в ужасе перед страшным плодом чрева своего и в муках готовит ему конец. Второго такого она не создаст, — разве что первому на погибель!
Эфраим. Ты ненавидишь меня и хочешь лишить жизни, оттого и требуешь немыслимого.
Юдифь (с пылающим лицом). Я была права. Вот как! Эта мысль не вдохновляет, не опьяняет тебя? Ты меня любишь, и я хотела возвысить тебя, чтобы полюбить! Я пытаюсь вложить эту мысль тебе в душу, а она тебе в тягость, ты изнемогаешь под ее гнетом. Если б ты возликовал, схватился за меч, не бросив на меня и прощального взгляда, о, тогда я плача преградила бы тебе путь, умоляла б не подвергать себя опасности, в страхе сердца своего нашла бы слова, чтоб охранить любимого! Я удержала бы тебя или последовала за тобой. А теперь — о, я была права, тысячу раз права! Любовь твоя послана тебе в наказание, она — пламя, которое испепелит и пожрет твою жалкую душу; да будь я проклята, если найду для тебя теперь хоть каплю сострадания! О, я поняла тебя! Святыни для тебя — ничто, и ты способен смеяться, когда я наклоняю чело в молитве!
Эфраим. Презирай меня, — но сперва покажи человека, который сделает невозможное!
Юдифь. Я покажу его тебе! Он придет! Оп должен прийти! И, если весь наш род труслив, если всякий мужчина стремится избежать опасности, — тогда женщина имеет право на великое деянье, тогда — о, я потребовала его от тебя, и я докажу, что оно возможно!
Произведения
Критика