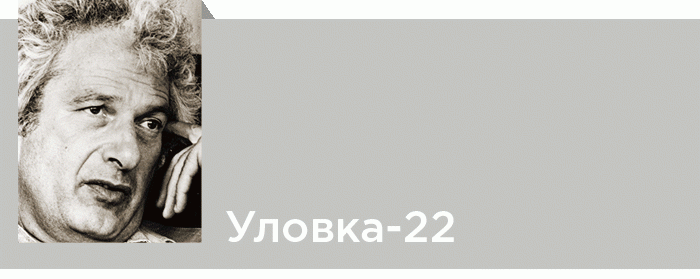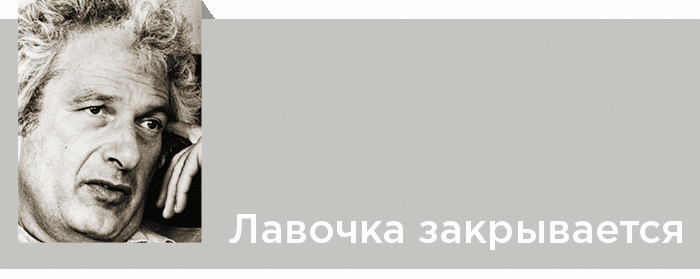Проблема трагического в трагедии Фридриха Геббеля «Юдифь»

М. И. Алесина
Проблема трагического имеет первостепенное значение для изучения жанра трагедии, так как через понимание трагического в пьесе полнее всего выражается авторское отношение к действительности, реализуется идейное содержание замысла драматурга. Будучи органически связанной с основным компонентом всякого драматургического произведения — конфликтом, сущность трагического определяет во многом специфику как содержания, так и формы его.
С этой точки зрения представляется важным и интересным исследовать трагедию «Юдифь» — первое зрелое произведение немецкого драматурга середины XIX века, Фридриха Геббеля, написанное в 1840 году. В рамках этой статьи выявление природы трагического в «Юдифи» ограничивается только анализом образной системы ее и выяснением в связи с этим специфики конфликта и жанра.
Жизненная и литературная судьба Геббеля соединилась с либерально-буржуазным течением в немецкой философской мысли и искусстве, хотя и мировоззрение, и творчество этого талантливейшего художника, вышедшего из плебейских масс, часто оказывалось гораздо богаче и сложнее узкого буржуазного либерализма. Не случайно А. В. Луначарский назвал его «немецким титаном», «самым странным из великих трагиков».
Анализ трагического в «Юдифи» уместно начать с причин, объясняющих обращение Геббеля в начале 40-х годов к жанру трагедии, после того как в 30-е годы им уже были созданы первые циклы стихов, новеллы, отдельные драматургические фрагменты. В трагедии Геббель нашел жанр, наиболее полно отвечающий внутренним потребностям его как художника и мыслителя. В ней он смог отразить мучительную напряженность своих идеологических поисков, накал предреволюционной атмосферы в Германии, личные переживания и настроения интеллигентного пролетария, остро чувствующего свое неизмеримое духовное превосходство над мелкобуржуазной немецкой стихией. В понимании трагического, как в фокусе, сошлись представления Геббеля о жизни, человеке, обществе, определившие внешнюю и внутреннюю структуру его произведения. А представления эти у молодого автора в достаточной мере еще эклектичны и противоречивы. Наряду с чертами просветительства и романтизма, мы найдем в них отголоски этических и эстетических учений Канта, Гегеля, Шеллинга, младогерманцев. Настойчивые поиски истины, раздумья Геббеля в процессе несистематического, но очень интенсивного самообразования отмечены колебаниями в решении основного вопроса философии: с одной стороны, идеалистическое представление об истории человеческого рода как о «реализации идеи», «прогрессе мирового духа в сознании себя самого через земное существование в событиях и характерах»; с другой стороны, трезвый жизненный опыт, изучение анатомии, физиологии, психологии приводят его к выводу о том, что деятельность духа невозможна без тела, без материи, что материя существует в вечном движении, развитии, становлении.
Идеалистическое представление о том, что исторический процесс состоит в смене идей, этических концепций, пренебрежительное отношение к материальной истории человечества (история для Геббеля — «большая пестрая куча сомнительных фактов и односторонне... обрисованных характеров — образов») достаточно сильно мистифицируют исторический процесс в сознании Геббеля. Но когда мысль его обращалась непосредственно к жизни и к задачам ее воплощения в искусстве, он преодолевал порою абстрактность своих социально-философских взглядов, давая верное отражение некоторых существенных сторон действительности. Не случайно Геббель обращался мыслью к величайшему реалисту Гете, отмечая как неоценимую заслугу го, что он «влил диалектику непосредственно в самую идею», раскрыв противоречия между личностью и нормами «законности», преобразовав, таким образом, основы высокой драмы введением в нее глубокой исторической перспективы.
Такими же серьезными противоречиями отмечены и эстетические взгляды Геббеля: с одной стороны, субъективистское толкование отношения искусства к действительности («искусство — реализованная философия, как мир — реализованная идея»); с другой, утверждение неразрывной связи искусства с действительностью («задачей всех искусств является изображение жизни, т. е. воплощение бесконечного в единичном явлении»; «в основе всех моих драм от первой до последней лежат социальные отношения»).
Интересно в этой связи, что в предисловии к «Марии Магдалине» (
Возникает понятие «трагической вины», которая, по Геббелю, заключается, в отличие от христианского первородного греха, в самой воле индивида, а не в направлении его воли, и поэтому «безразлично, является ли гибель героя результатом благородных или дурных стремлений». Таким образом, из понятия трагического, с одной стороны, исключается божественное предопределение, рок, а с другой стороны, содержание его остается расплывчатым в социальном смысле. В этом сказалась специфическая особенность развития Германии конца XVIII — начала XIX века. В результате этого, как выясняет румынский философ К. Гулиан, «характерные классовые черты немецкой буржуазии привели к тому, что революционные идеи подвергались сильному извращению, абстрагированию и очевидному выхолащиванию практического, политического содержания». Поэтому характерной особенностью немецкой' идеологии было стремление заменить вопросы общественно-политические этическими проблемами и вопросами духовной жизни. К. И. Гулиан диалектически подходит к исследованию немецкой идеологии и доказывает, что ее специфика — духовная компенсация политического бессилия буржуазии и этизация в трактовке политических вопросов — не является просто «отрицательным явлением, в ней своеобразно переплетены положительные ценные тенденции, некоторые совершенно новые черты в истории всемирной культуры с отрицательными тенденциями и в первую очередь трусливостью и неопределенностью ее политического аспекта». Такой подход помогает выяснить противоречия в философско-художественной системе Геббеля и их причины, понять, почему лежащие в основе трагического реальные жизненные конфликты выражаются в абстрактно-этической форме.
Итак, вся сложность понимания трагического Геббелем заключается в том, что оно у него объективно по содержанию, поскольку порождается общественными диссонансами, но отвлеченно по форме, поскольку решается в философско-моральном аспекте. В этой связи необоснованным представляется мнение Г. Лукача о том, что Геббель заимствовал теорию трагического у Фридриха Т. Фишера. Дело в том, что у Ф. Т. Фишера трагический герой сам должен быть убежден в необходимости своей гибели, что ведет к примирению и по существу снятию противоречий, в то время как у Геббеля противоречие раскалывает весь мир и трагический герой воспринимает свою судьбу как высшую несправедливость, против которой он борется до конца — физического или нравственного — безразлично.
Проблема трагического у Геббеля решается в гегелевском духе, причем во многом самостоятельно, и это не удивительно, потому что он мыслит и творит в гегелевской атмосфере. Как Гегель в своей эстетике, Геббель стремится преодолеть ригоризм кантовской этики, односторонность требования Шиллера изображать в трагедии эстетически великое страдание («О трагическом искусстве»), он стремится понять трагическое шире и глубже: как разлом мирового состояния, поворот исторической эпохи, обнаруживающийся в трагических судьбах людей, строго обусловленных объективными и субъективными закономерностями. Это был шаг вперед к реалистическому пониманию трагического, но этот процесс сопровождается у Геббеля потерями. Чрезмерная теоретизация и этизация трагического конфликта приводит Геббеля к ослаблению значительного национально-патриотического содержания, как это случилось в «Юдифи».
Замысел «Юдифи» складывается у Геббеля в процессе осмысления им «Орлеанской девы» Шиллера и личности Наполеона, притягивавшего его к себе с необыкновенной силой. Об этом говорят многочисленные записи в его дневниках. В обоих случаях его привлекает величие характера обоих героев, трагичность их судьбы. Но дальше размышления Геббеля идут в разных направлениях. В «Орлеанской деве» Шиллера его не удовлетворяет религиозно-мистическая мотивировка поступков Иоанны, во-первых, потому что, довольно скептически относясь к религии, он в то же время смутно ощущает действие каких-то более глубоких законов жизни («...благороднейший мотив лежит в истории Орлеанской девы... вечный порядок природы, который не может нарушить даже бог»); во-вторых, потому что опыт романтиков, особенно ценимых им Клейста и Уланда, убеждает его в необходимости психологически обосновывать действия героев.
Наполеон воспринимается им не как проводник идей Великой Французской революции, как это было у Гете, Гейне, а как героическая личность, импонирующая самому поэту своей исключительностью: «Наполеон мог бы стать героем настоящей трагедии. Поэт должен был бы придать ему все великие тенденции, направленные на благо человечества, и заставить его сделать только одну ошибку, что он поверил в свои силы и способности все выполнить своей собственной персоной, без помощи других. Эта ошибка была бы полностью основана в его великой индивидуальности».
Несколько позже Геббель, возвращаясь к этой мысли, формулирует отчетливее «трагическую вину» Наполеона — его индивидуализм: «Ошибка Наполеона в том, что он видел людей только как массы, а не как индивидуальности...».
В этих размышлениях уже заключено ядро будущей трагедии. И все-таки Геббель не обратился ни к одному из привлекавших его образов. «Обработку Орлеанской девы в драму затрудняет жалкий характер короля, ради которого все происходит. Конечно, основа — интересы народа, но как последний мотив, а король — ближайший мотив», — так объясняет он отказ от первой темы. Вторая пугала его исторической грандиозностью и политической актуальностью: «Драма, предмет которой — Наполеон, должна ставить себе задачей прошлое, настоящее и будущее, должна мотивировать его образ прошлым, а будущее — через него».
Он не находил в себе сил взяться за эти волнующие его образы, и это приводит его в отчаяние. 27 августа
В сюжете библейской легенды о Юдифи Геббель нашел счастливое сочетание обоих преследовавших его мотивов — и Орлеанской девы, и Наполеона — и при том без непосредственной связи их с современностью, т. е. в форме, наиболее удобной для осуществления главной цели своего искусства: ставить и решать на легендарно-историческом материале морально-этические проблемы, символически выражающие социальные отношения.
Опираясь на старинное предание, художник оставляет за собой право свободной интерпретации сюжета, ибо для него важны не факты и образы легенды сами по себе, а возможность найти в них стимулы и формы для выражения существенных проблем времени. Начинается сложный процесс идейного переосмысления материала, в котором, по мнению художника, еще нет трагического, так как библейская Юдифь — «...вдова, хитростью и коварством заманила Олоферна в сети... Это низко». Геббель не приемлет механического понимания трагического конфликта как внешнего столкновения антагонистов. По его мнению, трагическое не должно лежать на поверхности, выражаясь в фабульном противоборстве ведущих героев, оно должно быть заложено в самой основе их характеров. Поэтому в трагедии борьба Юдифи и Олоферна — это, в конечном счете, внешнее проявление их трагической сущности, следствие их глубоко противоречивых натур.
В этой связи неверно было бы считать основным конфликтом пьесы столкновение Юдифи и Олоферна в плане национально-освободительной борьбы. Если бы это было так, Геббель написал бы народную героическую драму. Между тем, жанровое своеобразие «Юдифи» именно в связи со спецификой ее проблематики и ее воплощения заключается в том, что перед нами проблемная философско-психологическая трагедия. Это еще не социально-психологическая реалистическая трагедия, какой станет лучшая предмартовская пьеса Геббеля «Мария Магдалина», но это уже первый значительный шаг на пути к ней.
Жанровую определенность «Юдифи» подтверждает и требование автором минимального национально-исторического колорита, который «направляя внимание на необычные предметы, отвлекает от главного», и указание на то, что центральную коллизию движет «различие между настоящим самобытным действием и голым стремлением бросить самому себе вызов».
В последнем замечании, думается, лежит источник трагического в «Юдифи», выражающий, пусть в абстрактной форме, главную потребность эпохи и одновременно невозможность ее удовлетворения: проблема «настоящего самобытного действия» волнует Геббеля в начале 1840 года. Это вдохновляет Геббеля на создание сильных героических характеров. Но возможность «настоящего» действия в отсталой мелкобуржуазной Германии, опутанной сетью средневековых пережитков, приводит к тому, что эти герои погибнут, запутавшись в индивидуализме и эгоизме. Само это реальное положение осмысляется Геббелем в плане этических, а не социально-политических отношений современности, хотя незадолго до этого Георг Бюхнер уже дал исторически конкретное и реалистически полнокровное выражение его в драме «Смерть Дантона». Геббель не поднялся до революционности и демократизма социально-философских воззрений своего гениального ровесника. Вот почему, обладая не меньшим драматургическим даром, создав в своем первенце характеры и ситуации, не уступающие по масштабности и напряженности бюхнеровским, он не сделал все-таки в «Юдифи» большого художественного открытия современности, спроецированного в будущее, как в «Смерти Дантона». Он не сумел противопоставить анархическому индивидуализму покоряющую логику коллективизма, хотя внутренне ощущал «силу» идейно-художественной мысли Георга Бюхнера. Поэтому в драме Бюхнера стоят одинаковые акценты на исторической закономерности гибели дантонистов, предавших интересы революционного народа, и оптимистической вере в победу народа, в то время как в трагедии Геббеля народ вообще не стал ни героем, ни даже «активно действующим фоном», а герои, заслонившие его, несут на себе «печать трагизма и пессимизма.
Трагичен по замыслу художника Олоферн, ибо он превышает границы человеческого, притязая на божественную сущность, и потому должен погибнуть, как всякое отклонение от естественной нормы, во имя восстановления вечного «мирового порядка», сохранения равновесия во вселенной. В предисловии к «Юдифи» Геббель объяснял, что к образу Олоферна его влекла возможность изобразить «чудовищную индивидуальность, которая, в силу того, что цивилизация не отрезала еще пуповину, связывающую ее с природой, чувствовала себя как одно целое со всей вселенной и, бросаясь от темного политеизма в дерзновеннейшие неистовства самообожествления, каждой своей мыслью возвеличивала свое я, считая себя в действительности всем тем, что она о себе грезила».
Но характер Олоферна сложен, в нем перекрещиваются черты библейские и современные: на традиционный облик великого ассирийского полководца накладываются свойства, продиктованные эпохой и мировоззрением Геббеля. Ведь именно в интерпретации традиционного образа раскрывается идейный замысел автора, обнаруживается его современное звучание. И с этой точки зрения интересно обратить внимание на то, что Геббель создает в Олоферне своеобразный вариант «сверхчеловека». Было бы неверным, однако, отождествлять в этой связи Геббеля с Ницше.
Субъективная основа геббелевского «сверхчеловека» принципиально отличается от ницшеанского: это беспредельное уважение человеческой индивидуальности, признание ее ценности и значительности, связанное во многом со штюрмерским идеалом Kraftgenie. Во время работы над «Юдифью» он записывает в дневнике: «Человек — прокрустово ложе божества». А еще ранее в своем стихотворении «Высшая заповедь» он потребовал уважения к человеку («Hab Achtung vor dem Menschenbild» — начинается каждая из трех составляющих его строф), так как в нем зреет все «самое высокое». «В нравственном отношении это стихотворение для меня образует эпоху», — писал о нем Геббель. Абстрактная гуманистичность этой «высшей заповеди» в сочетании со стихийным анархическим бунтом против угнетения личности, желанием утвердить ее самоценность в современном мире приводят Геббеля объективно к антинародной идее избранничества, исключительности. Его Олоферн с языческим избытком сил и «дерзновеннейшим неистовством самообслуживания» стоит, таким образом, исторически где-то посредине между буржуазным индивидуализмом раннего периода (типа штюрмерского), в котором еще «никакого своекорыстия... не проявлялось», и воинствующим антигуманизмом ницшеанского типа. Геббель верно уловил и воплотил в Олоферне тенденцию развития буржуазного индивидуализма, прошедшего уже через этап, когда он шел под знаменем естественного равенства и свободы всех людей, и идущего к превращению в индивидуализм новой формации. Отношение автора к своему герою было двойственным: ему импонирует, с одной стороны, анархическая свобода и величие Олоферна, с другой, он доводит эгоцентризм своего героя до последнего мыслимого предела, за которым он грозит уже превратиться в цинизм и аморализм, и подходит тем самым к сомнению в праве его существования. Уже современники ощущали это: после постановки «Юдифи» была создана пародия, автору которой достаточно было только слегка усилить отдельные стороны характера Олоферна, чтобы превратить его в карикатуру.
Но у Геббеля он все-таки остается могучим и притягательным, как тайна. Он и сам говорит, что хочет оставаться для всех окружающих «...вечной тайной. Этого не умеет вода... даже солнце... А я умею». Когда он говорит, что «у человечества только одна цель — родить из себя бога», то ясно, что таким богом он считает себя. Сопоставление Олоферн — бог проходит через всю трагедию. Ахиор называет выступление Олоферна против Иудеи вызовом ее всемогущему богу; сам Олоферн в непомерной гордыне обещает «высечь» Иегову, если город не сдастся добровольно; свой триумф над Юдифью он предвкушает именно как изгнание ее бога из ее сердца, он «оттесняет» ее от бога, он требует от нее: «Пади и молись мне!».
Олоферн не просто солдат. Его занимают философские проблемы бытия. Жизнь для него «не однообразное пережевывание, а вечная переделка и возрождение бытия»; она жестока и ее нужно завоевывать ежедневно, обороняясь своими «зубами от зубов мира». Геббель вносит в облик Олоферна мотивы одиночества и смерти, как бы предвосхищая духовный крах индивидуалистического сознания героя и вместе с тем мотивируя его гибель. Случайная смерть Олоферна от руки женщины из последнего непокоренного им племени оказывается, таким образом, проявлением закономерности бытия. Действие рождает противодействие, которое, если пользоваться терминологией Геббеля, приводит в равновесие нарушенный миропорядок.
Олоферн противоречив, как сознание поэта, родившее его: в нем и высшее напряжение всех жизненных и душевных сил и способностей, штюрмерская необузданность, титанизм, обусловливающие неизъяснимое обаяние его личности даже для врагов; и бесчеловечность индивида, дошедшего в своем отрыве от народа до жестокости и цинизма. И в то же время в нем содержится, хотя и в завуалированной, опосредствованной форме, отклик на современные проблемы в момент, когда вся немецкая литература обсуждала с той или иной позиции политические вопросы дня, Геббель, тоже ощутив поворот в жизни страны, попытался передать это через внутреннюю динамику сюжета, психологическую напряженность характеров, масштабность проблематики. Одной из важнейших проблем в социально-политической жизни предмартовской Германии было соотношение личности и массы в историческом процессе. Если Бюхнер, идеолог крестьянской революции, утверждая роль народа в истории, впадал при этом в крайность — отрицание роли личности в развитии общества, — то Геббель впадал в другую крайность: противопоставлял выдающуюся личность народу, толпе. «Неописуемо мое презрение к массе», — пишет он в 1836 году. Примерно в то же время он выражает свое презрительное мнение о немцах: «Так как немцы знают, что дикие звери свободны, то они боятся благодаря свободе стать дикими зверями».
Это отношение к массе он передает и Олоферну, постоянно, ежеминутно подчеркивающему свое положение над толпой. Вот один из типичных для него монологов: «...среди этого глупого народа мне кажется иногда — я один... вместо того чтобы приблизиться ко мне и взобраться на меня, они трусливо убегают от меня, как заяц от огня». Не задумываясь, вершит он судьбы не только отдельных людей (капитана и солдата в I действии, например), но целых народов, не зная при этом сострадания, жалости, сомнений. И когда падает его голова, его непобедимое войско, не знавшее при нем несдающихся крепостей, в ужасе и панике разбегается. Все держалось на одном человеке, всемогущем, дерзнувшем бросить вызов Иегове. Так в Олоферне выразилась реакционная сторона сознания автора.
В образ Олоферна влито свое, сокровенное, пережитое содержание, и это делает его в достаточной степени психологически убедительным. Реализм Геббеля полнее всего развертывается именно в верных психологических характеристиках и мотивировках. Образ Олоферна статичен, он не развивается и остается в одном качестве от первой повелительной реплики «Жертву!» до последнего угрожающего приказа — «Кто помешает мне в эту ночь, тому это 'будет стоить головы!». Но он обнаруживает перед нами от действия к действию всю необъемлемость своих желаний и притязаний, все новые и новые персонажи убеждают нас в неизмеримости и неотразимости его величия. При этом он не однолинеен, не схематичен благодаря неожиданным парадоксальным, но психологически верным деталям. Например, он ненавидит Навуходоносора, но «смиренно ждет его приказов», и не потому, что рабски подчиняется ему (Олоферн и подчинение — понятия несовместимые), а потому что в стремлении превзойти самого себя он собирается завоевать Навуходоносору весь мир, чтобы потом отнять его у него. Олоферн «слишком мало ценит человека» (Ахиор), он «тиран» (Юдифь), но он и «первый и последний мужчина на земле» (Юдифь).
Он раскрывается перед нами в непрерывных психологических контрастах («Нет бога, кроме Навуходоносора!»— «Будь проклят Навуходоносор!»; «Мне часто кажется, будто я когда-то сказал сам себе: теперь хочу жить!.. — Так я хотел бы сказать однажды самому себе: теперь хочу умереть»); многочисленные гиперболы («...львица вскормила меня»; «убить Олоферна: погасить молнию... задушить в зародыше бессмертие») подчеркивают его величие и значительность.
Его монологи напоминают «бурных гениев» по огненной страстности и бюхнеровских героев по всеобъемлющим категориям в стиле и монументальности. Они вводят нас в накаленную духовную атмосферу человека, сознание и психика которого уже подорваны и расколоты безмерностью притязаний, антигуманностью устремлений. Но это только одна сторона сознания Олоферна. О другой он говорит Юдифи: «Мир кажется мне жалким, мне кажется, я рожден разрушить его, чтобы могло прийти что-то лучшее».
Вот где оно — «настоящее самобытное действие». Но оно остается у Олоферна только смутной догадкой, неосуществленные предчувствием. И это глубокое внутреннее несоответствие делает его трагическим героем.
Еще сложнее обстоит дело с Юдифью. Трагическое в этом образе становится еще более напряженным, еще тоньше психологическая разработка его, еще явственнее обнаруживается ее душевная драматическая коллизия. Действительно, как патриот Юдифь одерживает победу над врагом, освобождает свой народ, и в этом героическое содержание ее образа, которое, однако, отступает на второй план. Как индивидуум, как женщина, она терпит крушение. Именно в этом Геббель видит трагическое содержание образа Юдифи. В нем особенно остро ощущается и преемственная связь Геббеля с Шиллером, и внутренняя полемика с ним. Юдифь у Геббеля не только повторяет в общих чертах трагический путь Иоанны, но и несет в своей душе коллизию долга и честолюбия, на которой строится целая «республиканская трагедия» Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе». Вместе с тем Геббеля не удовлетворяла данная Шиллером религиозно-мистическая мотивировка поступков Иоанны, обеднившая реально-психологическое содержание ее образа. Хотя он понимает, что нельзя полностью отказаться от мотива «божественного предназначения», ибо это соответствует тогдашней ступени развития человеческого сознания, но он уверен также и в том, что нельзя, не нарушая жизненной правды, положить этот мотив, как единственный и главный, в основу всего драматического действия.
И тут мы непосредственно подошли к своеобразию трактовки образа Юдифи у Геббеля. Стремясь преодолеть в библейском сюжете фантастический подход к образу и поступкам «вдохновленной свыше» женщины и наполнить его жизненным содержанием, дать правдоподобное объяснение переживаниям и действиям героини, Геббель вводит оригинальный мотив вдовы — девственницы. Отметим сразу, что хотя и в этом мотиве содержится некоторый элемент мистицизма (описание брачной ночи), он позволяет драматургу психологически обогатить, очеловечить образ Юдифи, а не сводит все к «метафизике взаимоотношений полов», как кажется Витковскому.
Мотивировка Геббеля, таким образом, снимала фаталистический налет с шиллеровской трактовки трагического, опирающейся на категоричность и абсолютность кантовской идеалистической этики. В поисках единственно верного, убедительного этико-психологического обоснования поступков Юдифи Геббель один за другим отвергает различные варианты, пока не приходит к тому, который способен реально объяснить действия и переживания героини: «Только из девической души может выйти мужество, способное на огромнейшее... Вдову нужно зачеркнуть, — пишет он. — Вдова не может чувствовать того, что должна чувствовать моя Юдифь». Но вместе с тем и «девическая душа может всем пожертвовать, только не собой, ибо с ее чистотой падает фундамент ее силы». И тогда приходит решение поставить Юдифь между женщиной и девственницей, что переводит побудительные стимулы деяний Юдифи из метафизического плана в реально-психологический.
Юдифь — достойный антагонист Олоферна. Как и в нем, в ней все безмерно: ее красота, вера в безграничные возможности личности («Захоти только...»), воля к самоутверждению. Как Олоферн жаждет встретить равного себе противника, так и Юдифь тоскует о необыкновенном по силе и отваге мужчине, не находя его среди своих соплеменников, которых она откровенно презирает за трусость.
Образ Юдифи в какой-то мере продолжает штюрмерскую традицию Machtweib. Нас потрясает в ней цельность, органичность ее характера. Один из современных критиков, которому геббелевская мотивировка «вдовы-девы» показалась искусственной, усомнился, не лучше ли было бы, если бы Юдифь полюбила человека, недосягаемого для нее, и чтобы приблизиться к нему, она хочет совершить необыкновенное — убить Олоферна. Геббеля возмутил такой варварски-казуистический вариант, и он горячо возражал: «Этот мотив невозможен, он перенес бы трагедию в более низкую сферу, лишив ее национального значения. И потом, как могла бы Юдифь отдаться Олоферну, если она любит другого. «Моя Юдифь — настоящая женщина, которая ошибается и наказана за это». В этом возражении автора содержится и еще один важный момент, в котором Геббель делает шаг к преодолению известной узости младогерманской идеи эмансипации женщины. Юдифь — это одновременно и дань модной проблеме, культивировавшейся писателями «Молодой Германии», образом мысли. И хотя в споре этом Геббель не поднимается до понимания социальных прав и положения женщины он все же преодолевает, с другой стороны, «грубое и плоское» понимание «полноправности чувственного начала» младогерманцами. Это помогает ему удерживать трагедию в сфере «национальных», общественных интересов, не соскальзывая в стихию эротического.
Реалистическая сила Геббеля и здесь полнее всего выразилась в глубоком анализе душевной борьбы и поступков Юдифи. Уже первое появление ее в начале второго действия приобщает нас к ее своеобычному и сложному внутреннему миру, странный пророческий сон, который она рассказывает служанке Мирце, вызывает в ней неясные предчувствия будущих событий. И вслед за этим лаконичная завязка, в которой уже проглядывает грядущая катастрофа: рассказ Эфраима об Олоферне сразу вызывает в ней первое желание, приводящее ее в содрогание, — увидеть этого человека («Что говорю я!»), и только после этого второе — спасти город («А почему бы нет? Одна за всех, и при том такая, которая недоумевает, зачем она?»). В дальнейшем эти два момента постоянно смешиваются, переплетаются в сознании Юдифи. Она боится признаться самой себе, что больше влечет ее к Олоферну — желание увидеть героя или спасти Бетулию. Она колеблется, молит своего бога укрепить ее силы и намерения, оправдать их. Сколько душевного смятения в крошечной сценке Юдифи, стоящей перед решением:
Мирца: (входит). Ты звала меня, Юдифь?
Юдифь: Нет... да. Мирца, укрась меня».
Наконец, она отбрасывает колебания и неуверенность («Моя красота, теперь — мой долг») и задает свой роковой вопрос: «Он любит женщин?».
Перед Олоферном ложь и лесть ее умна и хитра, вводит в заблуждение даже Мирцу, посвященную в ее планы. Но сама Юдифь потрясена («Бог моих предков, защити меня от себя самой, чтобы я не почитала то, что должна ненавидеть! Он мужчина!»). В V действии патриотические побуждения Юдифи уходят совсем на второй план. Теперь ей нужно мстить за себя, за свое бесчестие, за свою поруганную человечность. Трудно решить, чего здесь больше — оскорбленного женского достоинства или желания сравниться с Олоферном. И только вопрос Мирцы: «Зачем ты пришла в лагерь язычников в блеске своей красоты?» — напоминает ей о намерении спасти свой народ. С ужасом, уничтоженная, она вынуждена сознаться: «...Ничто не толкало меня, кроме мыслей о себе самой... а теперь я должна сама нести свое преступление, и оно раздавит меня!».
Так приходит сознание «трагической вины» Юдифи — забвение общих интересов из-за личных. Это психологическое состояние Юдифи осложняется сознанием еще одного, не менее трагического для нее обстоятельства: убив Олоферна, она нарушила мироздание («ударила вселенной в сердце»... — говорит она). Мирца выражает эту мысль проще и определеннее: «Женщина должна рожать мужчин, а не убивать».
Таким образом, и Юдифь преступает положенный от века закон. Это абстрактное, метафизическое толкование действия лишает Юдифь (а вместе с нею и автора) возможности определенно оценить свой поступок: героизм это или злодеяние? Отсюда опустошенность и надломленность Юдифи в финале (она сама себя называет «жертвой»), и пессимистический настрой последней сцены, контрастно усиливающейся ликованием освобожденного народа. Психологические контрасты, противоречия и нюансы — основные средства раскрытия внутренней борьбы Юдифи, показа различных этапов ее пути к трагическому финалу: вера в свое предназначение; острая коллизия патриотизма — честолюбия; победа личных мотивов; парализованность ужасом случившегося. И все это дается естественно, как результат сложной душевной работы. Геббель был прав, когда писал: «Я думаю, что нет ошибки в том, что моей Юдифи неясно, как она будет осуществлять свой план против Олоферна». И действительно, образ Юдифи выигрывает от того, что мотивы ее поступков меняются во время действия, свидетельствуя о ее смятении, колебаниях, сомнениях.
Кульминацией трагического развития Юдифи является момент, когда священнослужитель предлагает ей требовать награду за голову Олоферна. Юдифь ужасается: это превратит ее поступок в оплаченное злодеяние, поскольку получается, что это не бескорыстный святой долг. И все-таки она требует свою «награду» — убить ее, когда она этого потребует. Последняя ее фраза объясняет причину: «Я не хочу родить Олоферну сына».
Позднее, перерабатывая конец V действия для театра, Геббель снял эту последнюю сцену, что ослабило трагическое звучание финала. В нем Юдифь без особых колебаний и раздумий принимала титул спасительницы, героини, внешняя помпезность триумфа поглощала целиком внутренний накал трагических событий.
Понимание трагического в теме народа в ещё большей степени выражает острые противоречия в сознании автора. Действительно, Геббель умело разрабатывает социальный фон действия, создает динамичные и острые народные сцены с колоритными фигурами, выхваченными из массы. Но вся беда в том, что народ противостоит героям как инертная масса, не сознающая своей силы. И это определяет композиционное строение пьесы: только одно третье действие представляет нам развернуто народ — народ в состоянии крайнего отчаяния, почти потерявший рассудок от бедствий, унижений, страха. Еще раз народ появляется в финале, но там ему уже отведена роль статиста, дело которого только изображать Ликование. Поскольку в конфликт вовлечены интересы народа, но сам он не выступает как активная историческая сила, пьеса производит впечатление грандиозного сооружения, опирающегося на шаткий фундамент. Порок идейной концепции трагедии не мог не отразиться на художественной ее структуре. Исключение народа как активной силы повлекло за собою некоторую схематичность композиции, в целом строгой, отличающейся необыкновенной чистотой рисунка: ничего лишнего, только в теряющейся в бесконечности перспективе древнего мира высятся два колоссальных, как горные вершины, человека — Юдифь и Олоферн. Геббель здесь достойный ученик Клейста, которого любил особенно за стройность, прозрачность, органическую цельность «Принца Гомбургского». Наконец, то, что и для Геббеля народ не стал первым, «ближайшим» мотивом, привело к подмене внешнего действия длинными философско-психологическими монологами и диалогами, пусть блестящими, динамичными и острыми, но нарушающими требование самого же Геббеля: в драме всё должно быть представлено (darstellbar).
Все это приводит к тому, что, хотя субъективный замысел Геббеля должен был вылиться в грандиозную трагедию, утверждающую принцип непрерывного развития жизни в борьбе противоположных начал, объективно подлинной трагедии, в которой «судьба человеческая и судьба народная» нашли бы высшее выражение и единство, не получилось. И в этом не только вина, но и трагедия самого художника. Глубокие противоречия в осознании проблем общественного развития не дали ему возможности увидеть и верно изобразить народ, который заявит о себе уже в 1844 году в Силезском восстании ткачей. Об этом же говорит опыт Отто Людвига, современного Геббелю драматурга и его своеобразного двойника, стремившегося на те же сюжеты, что и у Геббеля, написать драмы, превосходящие достижения Геббеля.
Но идейно-художественная система драм Отто Людйига сказывается гораздо слабее геббелевской. В 1853 году О. Людвиг заканчивает драму «Маккавеи», очень напоминающую по проблематике, теме «Юдифь» Геббеля, но отличающуюся тем, что народ в ней становится главным действующим лицом. Главным действующим лицом, и все-таки не героем.
«Маккавеи» — это как будто развернутое до необъятных размеров третье действие «Юдифи». Та же ситуация угрожающего народу закабаления и то же безволие, разорванность, бессилие. Весь народ расколот вплоть до Сродных братьев, которых в трудный для родины час эгоизм и тщеславие делают врагами. Внешним источником действия становится чудовищно честолюбивая мать. И здесь народ решительно ничего не делает для своего освобождения, и если оно все-таки приходит, то помимо него, как в «Юдифи». В результате «Маккавеи» даже не поднимаются до уровня «Юдифи» ни в идейном, ни в художественном отношении. О. Людвиг только еще раз доказал, спустя 13 лет, что невозможно отразить мощное народное движение, оставаясь на позициях буржуазного сознания.
Об отсутствии внутреннего обоснования героев «Юдифи», находящихся в роковом для них отрыве от народа, говорит, пожалуй, и неудавшаяся постановка этой трагедии В. Ф. Комиссаржевской. Это была одна из последних ее ролей, которую она очень любила и долго вынашивала в душе, стремилась сыграть её как образ героический и искренний. Но в благородном стремлении подняться над бытовизмом натуралистической манеры в тогдашнем русском театре Вера Федоровна создала Юдифь вычурно-холодную, видимо, не найдя достаточно жизненного содержания в материале самой трагедии.
Исследование природы трагического в творчестве Фридриха Геббеля начала 40-х годов приводит к выявлению главного противоречия в решении им этой проблемы: при объективном характере социальных истоков трагического, в основе которого лежат глубокие общественные диссонансы предреволюционной Германии, конфликт реализуется не в социальном, а в абстрактном морально-этическом плане.
Такое своеобразное отражение драматургом немецкой действительности, обусловленное спецификой развития Германии и «немецкой идеологии» в первой половине XIX века, позволяет судить о некоторых особенностях формирования творческого метода Геббеля. В анализе трагедии мы стремились показать, как обогащение критического реализма Геббеля принципами высокой идейности просветительского искусства, мастерством психологического анализа романтиков, глубинами философской проблематики Канта, Гегеля и т. д. шло параллельно с потерей революционного пафоса, ясной политической тенденции Шиллера, конкретности, актуальности и демократизма Бюхнера. Геббель и сам понимал это, когда в письме к Ф. Бамбергу от 6 марта 1849 года сравнивал «Юдифь» со сказочным идолом, состоящим наполовину из бронзы, наполовину из глины.
Сложность и своеобразие развития реализма у Геббеля подтверждает известную, выраженную В. М. Жирмунским мысль о том, что хотя Германия середины XIX века не знала критического реализма в тех формах, в каких он развивался во Франции, Англии и России, в то же время «немецкой литературе присуща особая направленность, приведшая к иному типу реализма, весьма ценному в творчестве ряда писателей середины века». Победы и поражения Геббеля, обнаружившиеся в «Юдифи» и характерные для всего творческого пути его, отражают глубокие противоречия в сознании художника и мыслителя, обусловившие трудность борьбы его за реалистический театр в специфических условиях Германии середины XIX века.
Л-ра: Проблемы критического реализма в зарубежной литературе 19 – начала 20 веков. – 1965. – Сб. 27. – С. 3-23.
Произведения
Критика