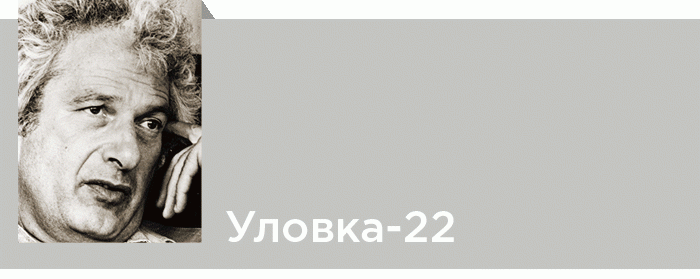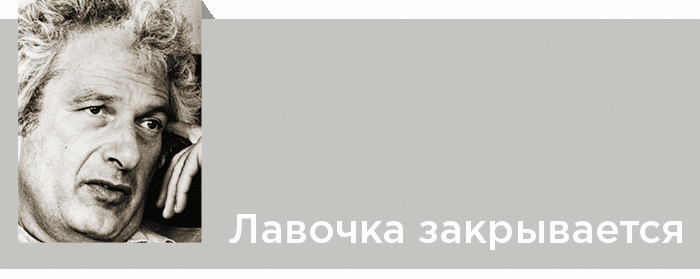«Мария Магдалина» Ф. Геббеля как социальная трагедия

М. И. Алесина
«Мария Магдалина» (1844 год) — первая социальная трагедия Фридриха Геббеля, вступившего в полосу творческой зрелости, и единственное среди его драм произведение, написанное на современную тему. Она представляет собою вершину в художественном развитии Геббеля домартовского периода.
Путь Геббеля к реалистической социально-психологической драме был сложным, поиски и раздумья его - напряженными и мучительными. Поэтому достижения его в этом жанре неизбежно сопровождались срывами и потерями.
«Марин Магдалина» была подготовлена не только всем предшествующим творчеством драматурга (и прежде всего трагедиями «Юдифь» и «Генофефа»), но и самой немецкой действительностью 40-х годов.
Уже «Юдифь» (1840 год) по жанровой специфике представляет собою своеобразную философско-психологическую трагедию, в которой сквозь оболочку библейской легенды просвечивают социальные проблемы современности.
В законченной через год с лишним «Генофефе» (1841 год) можно видеть, как возрастающее в поэте ощущение непримиримости жизненных противоречий обуславливает увеличение напряженности драматической коллизии, положенной в основу этой пьесы. Но и здесь Геббель считает возможным трагические диссонансы современности раскрыть через драматические перипетии средневековой легенды. В предисловии к этой пьесе, написанном в 1842 году, Геббель прямо выражает это свое убеждение: «Впрочем каждая драма живет лишь постольку, поскольку она служит выражению времени, в которое она возникает.., и я надеюсь, что, несмотря на взятый из мифов и саг материал, я принес в моей «Генофефе», как и в «Юдифи», художественную жертву времени, как я понимаю его в его потребностях, направлении и движении».
Соотношение мифологической формы и реального жизненного содержания в «Генофефе» еще сложнее, чем в «Юдифи», ибо социальные противоречия находят в «Генофефе» еще более опосредствованное, символическое выражение. И все-таки за легендарно-философским планом в трагедии явственно ощутим социальный характер главной проблемы — бесправное положение женщины в обществе. Об этом писал еще Франц Меринг, в отличие от многочисленных буржуазных исследователей творчества Геббеля, которые видели в нем лишь пристрастие к «сексуальным темам», предвосхищение декаданса, фрейдизма и т. п.
Другая, не менее важная проблема этой пьесы связана с образом Голо, который «через грех, кровь и злодеяние достигает точки, в которой становится чище, нравственнее, светлее, чем в начале, где он колебался еще в неискушенной добродетели». Снова социальная проблема скованности жизни, деформации ее подается в абстрактно-этическом плане. Через тени к свету, к нравственному очищению стремится герой, «о примирение невозможно, нарушенное равновесие мира восстановить нельзя, и Голо гибнет, доказывая своей частной драматической судьбой непреложность общего положения. В развернутой детализации демонической любви-ненависти Голо явно ощущается влияние клейстовской «Пентезилеи», но еще более важным и интересным обстоятельством представляется то, что Геббель отразил в образе Голо индивидуалистические, «аристократические» свойства своей натуры, сформировавшиеся в нем в результате протеста против притеснения его личности буржуазно-мещанской средой, но протеста буржуазными же средствами. Определенное внутреннее родство характеров автора и героя объясняет нам, почему Голо так целен в своем анархическом бунтарстве, гедонистическом индивидуализме. Реальная драма Голо определяет жанровую специфику «Генофефы» как проблемно-психологической драмы, не давая ей соскользнуть до уровня «трагедии рока», трактующей только проблему вины и искупления. Это тем более значительно, что характер сюжета содержал в себе такую опасность. Неслучайно примерно в это же время посредственный ремесленник от «трагедии рока» Раупах создает свою «Генофефу», которой, между прочим, Берлинский театр отдал предпочтение перед геббелевой. Причина, вероятно, не только в низком уровне вкусов и запросов немецкой публики того времени и идущей у нее на поводу дирекции театров, как писал еще Людвиг Берне в «Драматургических листах», а в существенных недостатках пьесы. Она страдала растянутостью (по размерам она более чем в два раза превосходит «Юдифь»), проблематика ее была слишком сложна и зашифрована. Геббель и сам это понимал, когда писал, что его «Генофефа» не для театра. Вероятно, эту особенность драматургии Геббеля имел в виду А. В. Луначарский, когда писал: «...правы были такие высокоинтеллигентные драматурги, как Гете, Шиллер и Геббель, которые... не могли уместить свой поэтический размах в рамки требований сцены и издавали поэтому рядом с главной драмой еще ее Bühnenbearbeitung». Так, случилось и с «Генофефой»: она была впервые поставлена только после основательной переработки в соответствий с требованиями сцены.
«Юдифь» и «Генофефа» явились солидной подготовкой к «Марии Магдалине». Сколько бы мы ни упрекали Геббеля за внешний отрыв его пьес от современности, внутренняя связь их с проблемами эпохи несомненна. Это чувствовали уже современники. Недаром Карл Гудков в рецензии на «Генофефу» увидел в ней (как это ни парадоксально на первый взгляд) недостойную уступку газетной поэзии того времени.
Большого мастерства достигает Геббель в психологической разработке характеров. Это особенно ярко выразилось в умении найти реальные мотивы поступков, мыслей и чувств персонажей вместо мистических предначертаний и откровений, предлагаемых материалом легенды. В одной из дневниковых записей, давая уничтожающую оценку христианско-католическим пьесам Кальдерона, Геббель говорит: «...если поэзия занимается мистерией, то она должна обосновать, т. е. очеловечить ее, а не показывать чудеса». И Геббель доказал, что он умеет «очеловечить» легенду: в «Юдифи», где он с помощью оригинального мотива преодолевает религиозно-фантастическую трактовку образа героини и дает реальное объяснение ее действиям и переживаниям; в «Генофефе», где он обнаруживает великолепное умение изобразить богатство диалектических переходов в чувствах героев, выразить внутреннее через внешнее, психологическое состояние через зримую деталь. Он стремился освободить эпический сюжет от мистицизма и трактовать его в реально-психологическом плане. Поэтому действия Голо не производят впечатления романтической аффектации, ибо, хотя много в них невероятного, необузданного, преувеличенного, они строго мотивированы, обусловлены его характером и драматической коллизией страсти и долга.
Внутренняя закономерность и последовательность в развитии Голо потрясли самого автора. Через несколько дней после завершения пьесы он записал в своем дневнике: «Что Голо ослепляет себя, этого изменить нельзя...».
Наконец, отточилось и обогатилось языковое мастерство драматурга. «Юдифь» была написана «ядреной, шероховатой» прозой, посредством которой автор рисовал характеры персонажей как монументальные фрески героев-титанов. А. В. Луначарский писал о языке «Юдифи»: «...могучий каменный язык, метафоры свежие и дикарски-детские».
«Генофефа» доказала, что автор отлично владеет поэтической формой. Она написана ямбом, который Геббель умело разнообразит с помощью народных метров и интонаций. Поэтическая форма «Генофефы» не была случайной: она гармонировала со страстностью основной темы, в нее органически вливалось и лирическое начало образа Генофефы, и мучительно-рефлектирующее — Голо. Она соответствовала и атмосфере старинной легенды, время действия которой обозначено как «поэтическое».
Дальнейшее развитие Геббеля по пути сложного восприятия и усвоения передовых традиций прошлого (античная трагедия, Шекспир, Лессинг, Гете, Шиллер) и новых тенденций настоящего (Клейст, Грильпарцер, «Молодая Германия») подводят его к вершине реалистической драматургии 40-х годов — «Марии Магдалине», внутренний критический и бунтарский пафос которой отразил в специфических для Геббеля формах: атмосфере наибольшего оживления в идеологической, политической сфере, оформления социальных лагерей и их активизации накануне 1848 года, связанной с обострением революционной ситуации в стране. В этой обстановке философско-эстетические взгляды Геббеля продолжают развиваться, преодолевая сложные противоречия. В полемике с Гайбергом, результатом которой явилось «Мое слово о драме» (1843), Геббель развивает реалистические принципы эстетики. Он утверждает материалистический тезис: искусство — верное изображение жизни во всей ее полноте и многообразии проявлений. Правдивое изображение Геббель понимает не как натуралистическое копирование и слепое подражание природе, а как типизацию существенных явлений жизни (хотя для этого у него свой термин «символизация»). Это выражено в предъявляемом поэту требовании идти «не к природе, а от природы», в раздумьях о специфике отражения жизни в искусстве: «...перестать искать сходство между искусством и историей и боязливо сравнивать данную и переработанную ситуации и характеры... При этом можно выяснить только ничего не значащее совпадение первого и второго портретов, а не образа и правды вообще... драма... во всех элементах символична и должна рассматриваться, как символичная, так же как художник берет краски, которыми он рисует розовые щеки и голубые глаза, не из человеческой крови, а спокойно пользуется киноварью и индиго».
Эстетика Геббеля окончательно обретает диалектический характер. И хотя не следует преувеличивать непосредственного гегелевского влияния, это понятно: она создавалась в гегелевской атмосфере, так что Геббель часто самостоятельно приходил к мыслям, сходным с гегелевскими: «Гегель, понятие вины, философия права § 140, совсем как у меня. Если бы я знал это, когда писал против господина Гайберга». Рассуждения Геббеля об искусстве и жизни часто принимают форму гегелевской триады, с помощью которой он утверждает реалистические принципы: жизнь воспринимается им в двоякой форме, как бытие и как процесс непрерывного развития. Искусство разрешает свои задачи наиболее совершенно, если оно изображает жизнь одновременно как «становящуюся» и как «ставшую». Примечателен и в «Моем слове о драме», и в предисловии к «Марии Магдалине», и в дневниках реалистический подход к проблеме типизации: воплощать бесконечное, всеобщее в единичном, индивидуальном, конкретном.
Специфика геббелевского понимания творческого процесса выражена в его теории о двух этапах художественного творчества как своеобразного познания мира: 1) обычный жизненный материал растворяется в идее; 2) идея снова уплотняется в образ.
В духе гегелевской диалектики решается вопрос о соотношении содержания и формы в искусстве, хотя элементы механистического восприятия формы проскальзывают, например, в сравнении формы со смертью.
К середине 40-х годов Геббель делает шаг вперед по сравнению с Гегелем в понимании реальной сущности и социальной функции искусства, развивает дальше младогерманское требование современности в искусстве, утверждая связь художника со своей эпохой, выдвигая требования национального значения трагедии, ее соответствия духу времени.
Наряду с этими завоеваниями эстетической мысли Геббеля, нельзя не отметить зарождения скептицизма, обусловленного буржуазными элементами сознания Геббеля и проявившегося в неприязненном отношении к тенденциозной политической поэзии, в нежелании увидеть ее положительные стороны, отразившем даже не столько отвращение художественной натуры Геббеля к ее примитивным порою средствам, сколько глубокие противоречия в мировоззрении самого художника.
Разрабатывая проблему трагического в эти годы, Геббель, в отличие от Шопенгауэра, трактовавшего трагическое как неизбежное зло мироздания и отрицание воли к жизни, продолжает оставаться близким к Гегелю: для него это объективная категория, ибо трагическое возникает только из самой жизни, как отражение ее диссонансов, в результате которых гибель неизбежна, примирение невозможно. Основой трагедии является коллизия характеров. Как у Гегеля настоящее драматическое течение событий есть движение к конечной катастрофе без задерживающих эпических эпизодов, так у Геббеля в трагедии «идея должна выступать в первом акте как мерцающий свет, во втором — как звезда, которая борется с туманами, в третьем — как подернутая дымкой луна, в четвертом — как сверкающее солнце, которое никто не может отрицать, и в пятом — как все разрушающая комета». Здесь налицо и ощущение силы трагических конфликтов, и фаталистический привкус от их роковой неотвратимости.
Геббель отмечает наличие случайности в трагическом, но не понимает, что случайность сама должна быть глубоко обусловлена объективными закономерностями и становится проявлением исторической необходимости. Он разделяет идеалистически случайность в трагическом и необходимость в характерах.
Тем не менее искусство не является просто «реализованной философией» (если опровергать Геббеля его же словами), а представляет собою сложную область, в которой перекрещиваются, усиливают, нейтрализуют друг друга различные стороны сознания художника, которое не состоит только из социально-эстетических и философских воззрений, а включает в себя обязательно большой жизненный опыт, впечатления, переживания.
Вот почему, хотя теоретически Геббель не шел дальше либеральной оппозиции и в предисловии к «Марии Магдалине» дважды настойчиво подчеркнул, что «драматическое искусство должно помочь завершить всемирно-исторический процесс, который хочет не опрокинуть, а глубже обосновать, охранить от переворота имеющиеся учреждения человеческого рода — политические, религиозные и нравственные», художественная практика его порою взрывает узкие границы его тенденциозного социально-философского credo. Так случилось в «Марии Магдалине», которая в некоторых существенных моментах находится в вопиющем противоречии с предисловием, напитанным к ней позже.
Хотя в предисловии Геббель утверждал, что драма должна представлять нам мир и человека в их отношении к некоему нравственному центру, абсолютной идее, сама трагедия предельно конкретна в своем содержании и идее. Несмотря на то, что в предисловии спекулятивное определение действия в его отношении к мировой воле приводит Геббеля к отождествлению действия и страдания, «Мария Магдалина» доказывала, что он видел эти страдания, тяготы жизни плебейским оком и умел изображать их страстно, заинтересованно и сочувственно.
По жанру свою новую пьесу Геббель определяет в предисловии как бюргерскую трагедию. Типологически бюргерская трагедия Геббеля несомненно связана прежде всего с шиллеровой мещанской трагедией. Но мы видим также, как Геббель, опираясь на своего великого предшественника, в то же время отталкивается от него, спорит с ним. Не всегда в этом споре Геббель оказывается прав, и поэтому «Мария Магдалина» диалектически противоречиво соотносится с «Коварством и любовью», например, в одних отношениях становясь с нею вровень, в других — оставаясь далеко позади нее. Он несправедлив к большим достижениям бюргерской драмы 18 века: не понял, что она достигла трагического звучания в показе противоречий сословий, как в «Коварстве и любви», например. Он считает поверхностным, внешним конфликт, построенный на «недостатке денег при избытке голода», на «столкновении третьего сословия со вторым и первым в любовных делах», неверно считая, что материальное и сословное неравенство не могут стать основой трагической коллизии. Зато он нанес удар по тем драмам, которые строились на повседневных несчастных случаях, «клинических» и «патологических», как говорил Л. Берне, воюя против «слезной трагедии» Раупаха, Циглера и т. п. Геббель — трагик крупного масштаба, и ему претили пошлые пьески, в которых конфликт можно было бы разрешить с помощью недостающих 30 талеров, «к чему растроганная сентиментальность добавляет: «Зашел бы ко мне, я живу ведь в номере».
Говоря о «наследственных ошибках» бюргерской драмы — о так называемой «цветущей дикции», этом «жалком пестром ситце, в котором чванятся марионетки», Геббель обрушивался на крайности романтически необузданного стиля Шиллера-штюрмера. Но при этом он за «рупорами духа времени» забывал о ценной политической тенденциозности шиллеровской драмы.
Тем не менее «Мария Магдалина» сплошь и рядом обнаруживает свое генетическое родство с мещанской трагедией XVIII столетия (и прежде всего с «Коварством и любовью»), хотя в ней есть и свои особенности, обусловленные различием эпох, их породивших. Родство это выражается в сосредоточении интереса на бюргерской трагике, в социально-исторической конкретности и актуальности, высоком гуманистическом настрое. Но 60 лет, отделяющие «Марию Магдалину» от «Коварства и любви», сказываются в принципиальном изменении характера бюргерской трагики. К середине XIX века немецкое бюргерство окончательно утратило те свои качества, которые будили бунтующую мысль и питали революционный пафос Шиллера.
Теперь «бессилие, придавленность, убожество немецких бюргеров, мелочные интересы которых никогда не были способны развиться до общих, национальных интересов класса», их «действительная местная и провинциальная ограниченность» стали знамением времени. И это существенно меняет характер конфликта в «Марии Магдалине». Геббель справедливо считал, что бюргерскую трагику теперь можно найти только в самом бюргерстве, так как его роль мученика в борьбе с другими сословиями уже отошла в прошлое. Поэтому конфликт в этой трагедии Геббеля развивается не между бюргерством и первыми двумя сословиями, а внутри самого бюргерства, на основе его «резкой замкнутости, с которой неспособные к диалектике индивиды противостоят друг другу в самом ограниченном кругу», и на возникающей отсюда ужасной связанности и односторонности жизни. Это было стремление художественно воплотить косность, застойность мещанского бытия как причину трагической гибели человека. При этом Геббель требует от настоящей трагедии достижения точки, в которой нас будет волновать уже не частная судьба отдельного человека, а то, что она растворяется в общечеловеческой.
Мысль выражена, как часто у Геббеля, расплывчато, со склонностью к абсолютным и всеобъемлющим категориям, но содержание ее понятно: частный план должен выражать общественное противоречие. Только при таком условии трагедия может стать социальной. И «Мария Магдалина» стала социальной трагедией, ибо в основе ее — типичный социальный процесс Германии, развитие которой «со времени реформации... приняло совершенно мелкобуржуазный характер».
В отличие от предшествующих пьес, здесь нет библейских форм для выражения современного содержания. От них осталось только одно название пьесы, да и оно вполне оправдано, так как, заменив первоначальное название «Клара», оно своей общеизвестностью и глубоким символическим смыслом еще больше подчеркнуло типичность изображенной жизненной ситуации.
В «Марии Магдалине» Геббель приблизился к тому синтетическому жанру, который был его идеалом, так как объединял характерные признаки социальной, исторической и философской драм. Р. М. Вернер в монографии «Геббель. Жизненный путь» справедливо писал об этой пьесе: «Она социальна, ибо освещает общественное состояние.., она исторична, ибо освещает особую форму общественного явления, патриархальное государство, но она и метафизична, ибо выводит идею из жизни, не высказывая ее прямо».
Национальный характер трагедии Геббеля определяется и стремлением драматурга выдержать ее в традиции Лессинга («Эмилия Галотти») и Шиллера («Коварство и любовь»), и тем, что в основу сюжета положены действительные факты из жизни типичной мещанской семьи знакомого ему мюнхенского столяра мастера Антона Шварца, его дочери Юзефы и сына, подвергшегося преследованию жандармов. Франц Меринг отмечал, что Мюнхен из крупных городов Германии был больше всего заражен мещанским духом. «Мария Магдалина» раскрывает нам старый патриархальный мир с его душной атмосферой, не допускающей ни малейшей свободы проявления личности, сковывающей человека ханжеской моралью и условностями. Это достигается благодаря яркому реалистическому изображению обстановки и уклада в доме мастера Антона, строго регламентированного старинными правилами бюргерской чести и порядочности, не допускающими никаких отступлений от раз навсегда установленных законов.
Таким образом, от предшествующих драм «Марию Магдалину» выгодно отличает эта непосредственная связь с. жизнью. В свою очередь, это позволило освободить трагическую коллизию от былой абстрактности и условности; коллизия вытекает в этой пьесе из самой природы противоречий современного буржуазного общества, из противопоставления, с одной стороны, ограниченных патриархальных нравов, ханжества, лицемерия и, с другой стороны, искреннего чувства, жажды истины, справедливости.
Однако революционная идея протеста против затхлого мещанского мира, которая могла бы принять яркие и конкретные формы в драме, как это случилось, например, в «Грозе» Островского, у Геббеля ограничена, и не только потому, что в системе социально-политических взглядов Геббеля не оставалось места для революционного изменения общества, но еще и потому, что само немецкое бюргерство в середине XIX века не является уже носителем революционных идеалов, как это было в XVIII веке. Г. Витковский не видит этого качественного различия и прямо выводит образ мастера Антона, косного защитника старых устоев, из образа музыканта Миллера, носившего в себе еще революционный запал восходящей буржуазии и способного защищать свое человеческое достоинство и право.
Между тем мастер Антон — это фигура своеобразная и социально типичная именно для этого периода разложения мелкой буржуазии под напором исторического развития середины XIX века. Насколько типичным был этот процесс, говорит, пожалуй, возмущение идеалистического эстетика того времени Т. Фишора правдивым изображением этого разложения; по его мнению, поэт должен был очистить свою тему настолько, чтобы предметом изображения было только вечное содержание данного конфликта.
Характеры персонажей «Марии Магдалины» нарисованы с большой реалистической силой и выразительностью, начиная с главного — мастера Антона — кончая образами второго и третьего плана, как, например, судебный служитель Адам.
Мастер Антон — это с первых сцен уже законченный стальной характер, значительный своею цельностью и жизненной убедительностью. Этот человек способен чувствовать благость и умиротворение только если он слышит, «как закрываются за ним тяжелые железные двери церкви... мрачные высокие стены с узкими окнами... должны сомкнуться вокруг меня, и вдали я должен видеть склеп с вмурованным черепом». Такой же мрачной и безрадостной представляется ему окружающая жизнь, в которой сам он познал так много тягот, лишений, горя, несправедливости, что считает теперь возможным самому быть жестоким и несправедливым. Жизнь сделала его «колючим ежом», отчего больно и ему самому, и его близким. Он недоверчив к себе и другим, готов ждать в жизни только плохого.
В седьмой сцене третьего действия Карл дает полное представление об атмосфере и порядках в доме отца, подчинившего жизнь свою и своих домочадцев застывшим представлениям о добродетели и чести, которые являются по существу слепой капитуляцией перед мелко-бюргерской затхлостью и косностью. «У нас в доме дважды десять заповедей. Шляпу вешать на третий гвоздь, не на четвертый! В половине десятого нужно быть усталым! До святого Мартина нельзя мерзнуть, после святого Мартина не потеть! Это стоит в одном ряду; ты должен бояться и любить бога», — говорит Карл. Раз навсегда заведенный порядок нельзя нарушить: «Сегодня четверг, они ели суп с телятиной. Если бы была зима, то была бы капуста, до масленицы белая, после масленицы зеленая!». Это так же твердо, как четверг следует после среды.
Жизнь от этого становится бесцельной, тусклой, бессмысленной. Она вся уходит только на то, чтобы «строгать, пилить, колотить, между делом есть, пить и спать, чтобы снова строгать, пилить, колотить, по воскресеньям сверх того коленопреклонение: благодарю тебя, господи, что я могу строгать, пилить и колотить». Дом отца кажется ему тюрьмой. И не удивительно. Мастер Антон знает только одну опору: упрямое, но сверхчувствительное представление о собственной чести. Единственный критерий, с которым он соотносит поведение свое и своих близких, формулируется им как типично мещанское «что скажут люди». Это превращает его в безграничного деспота, становится причиной внешних несчастий и внутренних страданий членов семьи. Он мучает близких людей из самых святых своих убеждений, и от этого он производит еще более страшное впечатление. Но он не чудовище, этот мастер Антон! Наряду с тиранической твердостью блюстителя патриархальных устоев, фанатизмом и узостью, мы видим в нем и трудолюбие, сильную волю, трогательное смущение своей чувствительностью. Все это делает образ Антона достаточно сложным и реалистически полнокровным в социальном и психологическом планах. Трудно поэтому согласиться с мнением Веяно фон Визе о «Марии Магдалине», продиктованном его явно идеалистическими представлениями об искусстве. «Эта драма, — пишет он, — не тенденциозное обвинение против бюргерского общества и не моральный спор с проблематикой вины и искупления, преступления и наказания, и не прославление свободы любви, а неотвратимый трагический процесс того, как отдельная воля подчиняется мировой воле»... Он видит в пьесе выражение тотального нигилизма, при котором невозможно понять, погибает ли человек от добра или зла.
Но ведь слишком конкретной, пережитой для Геббеля была тема, проблематика и образы этой трагедии, чтобы можно было увидеть в ней былую концепцию «Я» и «мировой воли». Преемственная связь «Марии Магдалины» с предшествующим творчеством обнаруживается совсем в другом отношении: обращает на себя внимание, как это ни парадоксально на первый взгляд, созвучие образов Олоферна и мастера Антона. Оба они сильные цельные натуры, только первый представляет идею, до конца индивидуалистическую, эгоистическую, а второй — эгоистическую идею мещанской чести и права. Но сама «о себе ложно понятая эта идея делает мастера Антона еще худшим эгоистом и индивидуалистом, чем Олоферн. Одна и та же проблема разрешается Геббелем в Олоферне и в мастере Антоне, но в разных аспектах. В «Марии Магдалине» мы видим шаг вперед Геббеля — художника и философа, потому что проблема ценности человеческой личности, смысла жизни решается в ней исторически и социально конкретно. Абстрактно понимавшаяся ранее концепция «мир — человек» предстает здесь в конкретной связи, а точнее — дисгармонии личных и общественных отношений, которые удерживаются в «равновесна» старинным мещанским принципом ложно понимаемой чести. Малейшее отступление от этого ложного принципа приводит к катастрофе: арест сына, смерть матери, гибель Клары. Но несмотря на это мастер Антон упорно держится за свои принципы и даже не замечает своего деспотизма в отношении к дочери, жене, сыну. Подозревая о «падении» Клары, он тиранит ее требованием страшных клятв и доказательств своей верности отцовским принципам, терроризирует ее угрозами перерезать себе горло во время бритья, если она их нарушит, и толкает, таким образом, Клару к самоубийству.
Антон — образ потрясающей силы. Груз избранной им самим судьбы он несет, как «мельничный жернов», не сгибая спины. Его знаменитое — «Я не понимаю мира» в финале содержит уничтожающий притвор обществу. Социально-психологическая глубина, объемность образа Антона воссоздается в «Марии Магдалине» не только через конкретно-историческую обусловленность его сознания и поступков, мотивированность их и окружающей средой и самим характером, но и через необыкновенно выразительную речевую индивидуализацию. Здесь Геббель сумел выполнить требование, высказанное в предисловии к пьесе: не наделять персонажей из собственной сокровищницы красивыми речами, превращая их тем самым в заколдованных принцев и принцесс, в лучшем случае в золушек и портняжек, и помнить, что «бюргер и крестьянин не в звездном небе собирают и не в море ловят свои тропы, которыми они пользуются так же хорошо, как герои салонов и променад, но что ремесленник собирает их за своим верстаком, а пахарь — за плугом».
Лексическое наполнение языка мастера Антона подчиняется этому художественному требованию. Когда Леонгард говорит, что мастер Антон, возможно, не так о нем думает, тот отвечает ему: «Думать? О вас?.. Я строгаю доски своим инструментом, но никогда людей своими мыслями». Обвиняя сына в неблагодарности, он сравнивает его с полем: «...сеешь доброе зерно, а всходят сорняки». Профессионализмы, народные поговорки, библейские изречения вкупе с нижненемецкими диалектизмами, старомодной формой обращения в третьем лице единственного числа, категоричностью и твердостью интонации придают языку мастера Антона неповторимо индивидуальную и социально типичную чеканку. Геббель настолько строг и последователен в речевой характеристике своего персонажа, что даже когда он вводит в его язык явно чужеродное слово, он адаптирует его с помощью контекста так, что оно не только не выпадает из свойственной персонажу лексической сферы, но привносит еще дополнительные нюансы в его характеристику. Так случилось со словом «микроскоп», вводя которое Геббель не только дал возможность Антону ярко выразить свою мысль через неожиданное сравнение, но показал нам и его необразованность и трогательную тягу к новому, к знанию: «Ох, мне страшно перед будущим, как перед стаканом воды, который рассматриваешь через микроскоп — правильно ли это, господин кантор? Он часто говорил мне это по буквам! — Я сделал это однажды в Нюрнберге на ярмарке и не мог целый день пить!».
Так же социально пластичен и психологически последователен в пьесе образ Леонгарда, охарактеризованный и внешне, словом, и внутренне, через его поступки, каждый из которых разоблачает в нем бессовестного, беспринципного приспособленца, хапугу, циника. Это характер, порожденный новым этапом развития буржуазии. Он не мучается рассуждениями о совести и чести, ибо не принципами, а талерами руководствуется он в жизни. Каждая деталь в его поведении, мыслях великолепна в своей выразительности: целует ли он «смиренно» пахнущую табаком (и эту мелочь отмечает он, но сколько за этой мелочью!) руку бургомистра или спаивает намеренно своего конкурента на должность; подстраивает ли ссору с Кларой, чтобы выиграть себе время для ухаживаний за горбатой племянницей бургомистра, или плетет свою циничную казуистику, чтоб оправдать свое предательство и свалить свою вину на других, — он всегда один и тот же, этот страшный человек. Со своим «Человек носит в себе закон и правило!» он уже по ту сторону добра и зла. Его перефразировка известного изречения «каждому свое» еще больше проясняет социальную подоплеку поведения этого злобного эгоиста и карьериста. У него нет ничего святого за душой, и то, что страшно для людей, то «хорошо» ему. Он может бесконечно унижать Клару [«...будто ты первая и последняя!»], куражиться над ней [отсылает в ее присутствии цветы другой; убеждает ее, что она сама во всем виновата, так как за те восемь дней, что она молчала, он «уже дал слово... и другая уже в таком же положении как ты..., а с бургомистром шутки плохи]», но он оказывается жалким трусом, как только его призывают к ответу за совершенные им гадости и подлости.
Мастер Антон и Леонгард — два главных виновника гибели Клары, каждый по-своему толкает ее в пропасть. Но события не производили бы впечатления неотвратимой закономерности, неизбежности, если бы в третьем, связанном с Кларой персонаже — секретаре выражалась какая-то перспектива, выход. Поначалу так и может показаться: он образован, благороден, верен, гуманен, но — и он оказывается в конце концов плоть от плоти изображенной среды, подчиняется ее предрассудкам, и одно единственное его — «Ни один мужчина не может стать выше этого!» не только сводит на нет все его достоинства, но и становится последним решительным толчком для Клары. В последней сцене приходит прозрение, он понимает, что виноват и мастер Антон, думавший не о несчастье дочери, а о шипящих языках за его спиной, и он сам, поставивший в зависимость от негодяя счастье и жизнь свою и Клары. Но прозрение это приходит поздно: люди гибнут, став жертвами мещанской чванливой тупости, суеверия, равнодушия.
Образ главной героини удался Геббелю гораздо меньше, чем мастер Антон и Леонгард, ибо она образует только сюжетный центр пьесы, в то время как они являются ее организующим идейно-тематическим фокусом. Как типичная мещаночка, она благочестива и набожна. Ей с детства привиты навыки скопидомной мелочной бережливости («копилка») и покорности внешним авторитетам и обычаям. Она не производит впечатления сильной трагической личности, так как не способна на решительный бунт против унижающих человека обстоятельств. Она добровольно подчиняется им и гибнет, не в силах подняться над ними. Она слишком забита, и потому, попав в беду, она даже не помышляет о борьбе, а медленно, но верно погружается в пучину беспросветного отчаяния. Четырежды повторенное Леонгарду «Женись на мне», при одновременном ясном понимании, что брак с ним равнозначен для нее смерти, еще раз доказывает, что филистерское понимание чести и морали ведет только к подрыву нравственной основы семейных отношений. Клара — достойная дочь своего отца: видимость для нее важнее сущности. И жизнь сурово наказывает ее за эту, своего рода непреднамеренную безнравственность. Перед читателем и зрителем ее оправдывает только бесконечно альтруистический мотив, лежащий в основе ее натуры: она готова на любые муки, лишь бы не причинить боли своему отцу. Даже идя на самоубийство, она думает не о крушении своей жизни, а о том, что ради отца надо соблюсти видимость благопристойной смерти от несчастного случая.
Клара — жертва социальных отношений, пассивная и безропотная, ярчайшее доказательство банкротства бюргерской морали. Поэтому сомнительной представляется точка зрения Г. Лукача, склонного преувеличивать пафос протеста Клары, видеть в ней черты новой эпохи и сравнивать ее на этом основании с Катериной из «Грозы» Островского. У Клары есть свои немецкие прототипы, и в большей или меньшей степени ее предшественницами можно считать Луизу Миллер, гетевскую Гретхен, клейстовскую Кетхен, с которыми ее роднит то, что все они в той или иной мере — порождение и жертвы социальной среды, не только не способные на бунт против уродующих их душу и жизнь обстоятельств, но даже не представляющие себе иных, человечных форм отношений между людьми. Катерину же с самого начала внутренний свет человечности резко выделяет на мрачном фоне «темного царства». Она принципиально отличается от всех них своим осознанным неприятием звериных мещанских нравов и способностью к активному протесту против них. Вместе с тем, подчеркивая национально и исторически обусловленное различие Катерины и Клары, нельзя недооценивать объективное звучание трагедии Клары в специфических условиях Германии середины XIX века. В изображении ее страшной судьбы содержится приговор немецкому обществу, которое было насквозь пропитано тлетворным мещанским духом. Финал пьесы справедливо воспринимался современниками как выражение протеста героини против социально-нравственных устоев немецкой действительности. Знаменательно, что показ отчаянной решимости покончить с этой действительностью, даже если за ее пределами смерть, оказался возможным для Геббеля именно в атмосфере близящегося восстания силезских ткачей. Совпадение настолько Значительное, что оно не может быть простой случайностью.
Конечно, нет никаких оснований устанавливать прямые связи между творчеством Геббеля и восстанием силезских ткачей, отличавшимся «...столь теоретическим и сознательным характером». И все-таки острое восприятие художником неустроенности, несправедливости жизни привело его в «Марии Магдалине» к художественной правде, которая вступает в конфликт с его либерально-ограниченными взглядами и преодолевает их.
Протест Клары подтверждается в финале решением Карла сбросить домашние оковы и уйти в море. Правда, его задорная романтическая песенка о надутых парусах и поднятом якоре содержит щемящую, ноту бесперспективности. Выход оказывается абстрактным и бесцельным: «Я молод и отважен, и мне бы только в путь. Куда? — Куда-нибудь».
Так как задачей драматурга был показ не внешних столкновений и событий, а внутренней гнилости всего общества, основанного на отживших патриархальных устоях, это определило специфический характер композиции трагедии. В основу композиционной структуры ее положен, задолго до Ибсена, аналитический принцип, согласно которому все события Геббель отодвинул в предысторию, к началу драмы мы имеем уже сложившиеся характеры и готовое, исполненное трагизма положение, которое должно привести к катастрофе. Действие трагедии — только следствие событий, лежащих за рамками сценического времени. В связи с этим огромное значение в композиции приобретает элемент «скрытого действия», которое очень тонко, умело, органично вводится Геббелем в пьесу. Например, из разговора Клары и Леонгарда, объясняющего, что он привязал ее к себе «последними узами», чтоб не потерять ее, мы узнаем, что произошло меж ними. А поскольку в предыдущих сценах мы знакомимся с обстановкой в доме мастера Антона, мы получаем возможность предположить, предчувствовать не только дальнейшее течение событий, но и их развязку. Все положения и поступки аналитически выводятся из единства социального и психологического состояния, господствующего в драме: из застывшей гордости Антона своей бюргерской честью, доходящей до спесивого чванства, вытекает и то, что он оскорбляет судебного служителя Адама, ревниво отстаивая перед ним свои смехотворные карликовые привилегии, и то, что это вызывает потом мстительно поспешный, необоснованный арест его сына. Смерть матери, самоубийство Клары, решение Карла уйти в море, — все это следствия одной причины, приведшей в конце концов к разложению и гибели семьи. Аналитическая композиция, таким образом, обусловлена социальным характером разрабатываемой проблемы, и, в свою очередь, дает драматургу возможность отсечь все лишнее, сосредоточить внимание на главном, не пускаясь в развернутые мотивировки того, как могла пасть дочь такого отца, как могла Клара стать невестой нелюбимого в отсутствие любимого. Для Геббеля важны не эти сами по себе не имеющие социального звучания события, а само общественное состояние, приводящее к подобным событиям. Вот почему композиция трагедии стала такой простой, стройной, энергичной и целеустремленной. Строгость и совершенство архитектоники этой трагедии достигаются еще и предельным лаконизмом изобразительных средств, благодаря которому уже к концу первого акта живо представлены не только все действующие лица, но и их внутренние связи. Этому способствует и полифоническое строение системы образов, в силу которого каждый новый вступающий персонаж подхватывает главную трагическую тему-идею, поднимая ее еще на одну ступень выше, ближе к трагической развязке, а все вместе они образуют сложный ансамбль, подчиненный этой ведущей теме.
«Мария Магдалина» — одновременно и завершение старой мещанской драмы и начало новой современной социальной драмы. При этом необходимо представлять сложное соотношение геббелевской трагедии с предыдущим, современным и последующим этапами развития немецкой драмы. Геббель возродил на новом этапе национальные традиции социальной драмы Лессинга, Шиллера, Гете — внимание к простому человеку и его нуждам, антифеодальный протест, гуманизм в решении социальной проблемы. Отсюда у Геббеля ярко выраженное плебейское начало — утверждение самостоятельной ценности человека, независимо от его сословной принадлежности, защита прав человека на свободное суждение и действий, сочувственный интерес к «маленькому человеку», показ банкротства бюргерской морали и, пусть в подтексте, но определенное желание строить новое, создать лучшую основу общественных учреждений, начиная с отношений внутри семьи — главной клеточки общества. Последнее обстоятельство явно противоречит предисловию к «Марии Магдалине», где он высказывался не за новые учреждения, а за лучшее обоснование старых. Но критико-реалистическое освещение современной жизни в трагедии свидетельствует о наличии у Геббеля нового, пусть смутного, но более прогрессивного по сравнению с феодально-бюргерским укладом идеала человеческих отношений. Вместе с тем, сложные отношения Геббеля с мелким бюргерством, которое он справедливо критиковал, но больше справа, чем слева, привели к большему ограничению положительных перспектив и идеи протеста против старого мира, чем это было у его предшественников, у Шиллера, в частности.
В то же время трагедия Геббеля, так сложно и не всегда прямолинейно развивавшая лучшие традиции мещанской драмы прошлого, выгодно отличается от современных ей немецких драм — «Либуссы» (1847 год) Франца Грильпарцера, многочисленных и малозначительных пьес 40-х годов Карла Гуцкова (за исключением «Уриоля Апосты», 1846-й год), «Летучего голландца» (1843) и «Тангейзера» (1845) Рихарда Вагнера, сочетавшего протест против лицемерной буржуазной морали с мистической идеей «искупления», «Наследственного лесничего» (1853 год) Отто Людвига. Особенно интересно сопоставление «Марии Магдалины» с «Наследственным лесничим», поскольку между ними есть большое сходство, но и еще большие различия. Их объединяет общий жанр, одна социальная среда, сходство судеб героев. Но, в отличие от Геббеля, Людвигу, драматургу с гораздо более консервативным сознанием, не удалось подняться ни до уровня социальной трагики Геббеля, ни до его художественного совершенства. В идейном плане Людвиг показал бесполезность и губительность протеста против новых буржуазных отношений (причем сделал это в достаточной степени завуалировано). В художественном отношении его драма далека от структурной органичности и прозрачности трагедии Геббеля. Это скорее «трагедия рока», чем драма характеров, как у Геббеля, ибо все действие у О. Людвига строится на роковом сцеплении обстоятельств (которых могло бы и не быть, в то время как у Геббеля действие неотвратимо), на случайностях, ошибках (неузнавания в темном лесу). Поступки Христиана Ульриха определяют слухи, случайно попавшееся в раскрытой библии изречение («око за око...»). А в результате — герой представляет только себя одного. Сосредоточение драматического интереса на единичной человеческой судьбе не позволило О. Людвигу поставить в центр значительную социальную проблему, и это оставляет его «Наследственного лесничего» далеко позади геббелевой «Марии Магдалины».
[…]
Заслуга Геббеля в том, что он разработал реалистическую трагедию с глубоким национальным и социальным содержанием, выдвигая требование исторического подхода к искусству и преодолевая тем самым неисторические тенденции немецкой просветительской эстетики. Не только в теории, но и в художественной практике он стремился противопоставить статичности шиллеровских образов — «рупоров духа времени» («Шиллер показал человека в состоянии страдания, а нужно показывать, как характер стал тем, чем он есть» гетевское «живописание бесконечных творческих актов мгновения, вечных изменений человека с каждым шагом». Это привело его к реалистическому показу психологии и вскрытию глубоких социальных конфликтов, из-за чего пьеса была под запретом до революции 1848 года,
В «Марии Магдалине» Геббель вдохнул новую жизнь в жанр социально-психологической драмы и в какой-то степени определил тот путь, по которому этот жанр будет развиваться в последующую эпоху. Без его опыта трудно представить себе, как мог произойти после длительного засилья на немецкой сцене мещанской драмы и трагедии рока Коцебу, Иффланда, Раупаха, Циглера и др. поворот немецкой драмы к реализму в последней трети XIX века, представленный творчеством Г. Гауптмана. Начатую Геббелем тему морального и социального разложения мелкого бюргерства продолжит на новом этапе и в специфически национальных условиях и Г. Ибсен.
Творчество Геббеля было важным этапом не только в складывании национально своеобразных форм немецкого критического реализма, но и в развитии социальной драмы.
Л-ра: Проблемы жанра в зарубежной литературе. Ученые записки Уральского университета. – 1966. – № 44. – Вып. 1. – С. 48-64.
Произведения
Критика