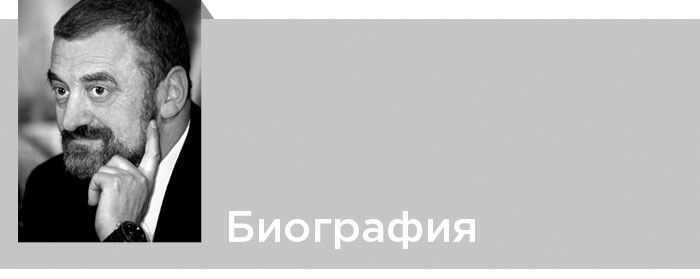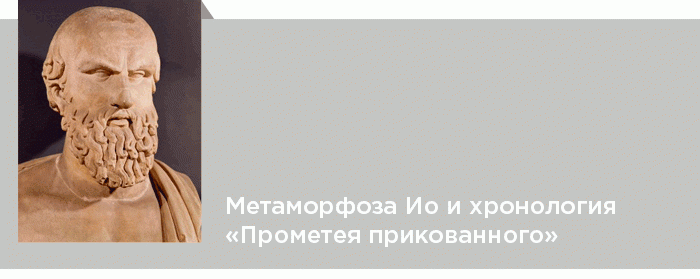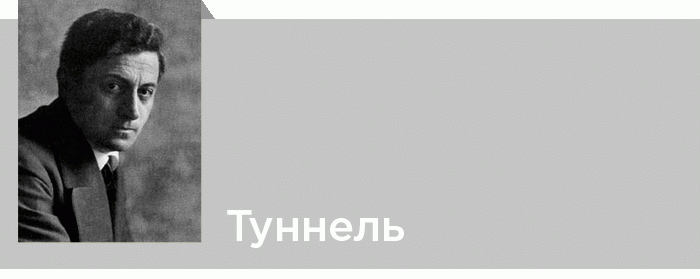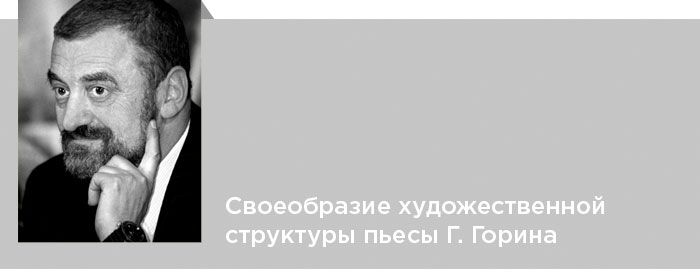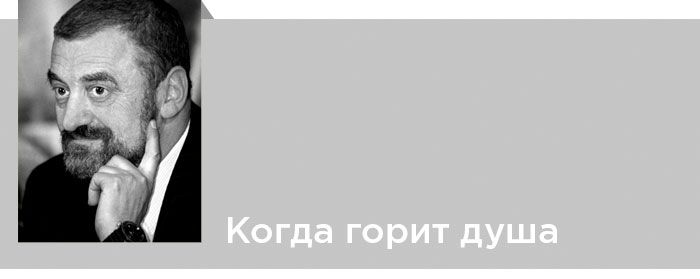«Не старайся облегчить свою память забвением»: вторичный сюжет как преодоление истории («Забыть Герострата!» Г. Горина)

УДК 821.161.1.9(Горин Г.)
ББК Ш5(2Рос=Рус)6-4 ГСНТИ 17.82.20; 17.07.41 Код ВАК 10.01.01
О. Ю. Багдасарян
Екатеринбург, Россия
На примере пьесы «Забыть Герострата» рассматриваются особенности поэтики вторичных текстов в творчестве Г. Горина. Апелляция к прецедентному имени в пьесе парадоксальным образом способствует не утверждению имени в истории и культуре, а направлена на его стирание, уничтожение, символически читаемое как преодоление порочного круга ошибочных повторений.
Ключевые слова: драматургия ХХ в.; «вторичный текст»; сюжет; Г. Горин; «Забыть Герострата!».
Сведения об авторе: Багдарасян Ольга Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры современной русской литературы.
O. Yu. Bagdasaryan
Ekaterinburg, Russia
“DO NOT TRY TO RELIEF YOUR MEMORY FALLING INTO OBLIVION”: “SECONDARY TEXT” AS A BREAKING OF HISTORY (“FORGET HEROSTRATUS!” BY G. GORIN)
The article is based on the material of G. Gorin’s play “Forget Herostratus!”(“Zabyt’ Gerostrata”). It analyses the poetics of the so-called “secondary texts”. The precedent (case) name turns to an important source of play motion. The reproduction of well-known history of Herostratus paradoxically tends to erase, destroy his name and may be considered as an attempt to break the vicious circle of the obsessive repetitions of History.
Key words: XX century drama; “secondary text”; plot; G. Gorin; “Forget Herostratus!”.
About the author: Bagdasaryan Olga Yurievna, Candidate of Philology, Associate Professor of the Chair of Modern Russian Literature.
Несмотря на то что Г. Горин — один из самых известных драматургов второй половины ХХ в., нельзя сказать, что его творчество было основательно изучено[1]. Так, всякий раз подчеркиваемый исследователями интерес автора к «вторичным сюжетам», одна из константных черт Горинской поэтики, до сих пор не был подвергнута более или менее подробному рассмотрению. Думается, анализ творчества драматурга с этой точки зрения может оказаться продуктивным и отчасти объяснить специфику авторской художественной концепции. Но прежде скажем несколько слов о вторичных сюжетах и так называемых вторичных текстах в целом.
В отечественном литературоведении до сих пор нет более или менее принятого определения этого феномена; лишь относительно недавно упоминания вторичных текстов в литературоведении (в лингвистике категория вторичности разрабатывается уже много лет) стали появляться в работах исследователей (см. составленный В. Д. Черняк и М. А. Черняк словарь-справочник [Черняк В. Д., Черняк М. А. 2009], а также определения ремейков, приквелов, сиквелов и проч. в книге С. Чупринина [Чупринин 2007]). Как правило, литературоведами категория вторичности связывается с цитатностью и интертекстуальностью как характерными приемами постмодернистской поэтики или рассматривается в связи с актуальным для массовой культуры производством ремейков, приквелов, сиквелов и т. д. Любое обращение к феномену вторичности выливается в дискуссию о том, какие функции в истории культуры закреплены за ним: являются ли вторичные тексты способом «стирания памяти», или ее «актуализации».
С точки зрения Ю. М. Лотмана, культура предстает как своего рода «коллективный интеллект» — пространство, в пределах которого сохраняются и актуализируются некоторые общие тексты. Актуализация и деактуализация текстов в культуре имеет синусоидный характер — наиболее «простой вид смены культурного „забывания“ и „припоминания“». Сама память культуры, по Ю. М. Лотману, «составляет часть ее текстообразующих механизмов». С течением времени меняется не только состав текстов, но и сами тексты, которые представляются не столько хранителями смыслов, сколько их генераторами: «Тексты, образующие „общую память“ культурного коллектива, не только служат средством дешифровки текстов, циркулирующих в современно-синхронном срезе культуры, но и генерируют новые» [Лотман 1992: 200—202].
Разрушение текстов и «превращение их в материал создания новых текстов вторичного типа — от постройки средневековых зданий из разрушенных античных до создания современных пьес „по мотивам“ Шекспира» рассматривается Ю. М. Лотманом как часть процесса культуры, в первую очередь связанная с тем, что прагматические связи текста с современным контекстом могут актуализировать некоторые его структуры, но не способны вносить в текст принципиально отсутствующие в нем коды; в последнем случае возникают тексты вторичного типа [Там же].
Описанный Лотманом культурный механизм, на первый взгляд, как нельзя лучше соответствует драматургическому творчеству Г. Горина, который практически постоянно апеллирует к известным литературным текстам или/и к историческим сюжетам (естественно, уже давно существующим в форме (почти) литературного нарратива). На важную для автора связь историй прошлого с современным контекстом Горин указывал сам без всякого лукавства: ...историей должны заниматься историки, а писатель всегда занимается современностью, даже если пишет про Адама и Еву [Горин 2010: 216], — и подчеркивал, что в основе его пьес и киносценариев всегда лежала мысль о том, что для художника летоисчисление не предполагает «сегодня» и «завтра», что есть Вселенная и Вечность, и в таком «разрезе» все люди — современники, потому фламандский шут Тиль Уленшпигель становится понятен московским сверстникам и призывает их к свободе, немецкий барон Мюнхгаузен мог учить русских людей ненавидеть ложь… [Там же: 9]. Обращение к известным сюжетам писатель объясняет неустранимой «повторительностью» Истории: человечество в своем развитии явно ходило по кругу, настойчиво наступая на одни и те же грабли и даже вилы <…> Мне захотелось постичь законы этого бессмысленного движения в никуда…» [Там же: 9].
Однако «аналитическое» переписывание драматургом известных сюжетов, затрагивающее важные вопросы истории, парадоксы памяти, отношения художника и власти и т. д., в свете интересующей нас проблемы становится процессом авторефлексивным, акцентирующим свою «вторичность» (не второсортность, а именно вторичность как связь с прототекстами), вскрывающим и обнажающим механизм такого рода письма.
Горин, как правило, никогда не скрывает «источников» своего вдохновения. «Кин IV» начинается следующим подзаголовком: по мотивам пьесы Ж.-П. Сартра, написанной по мотивам пьесы А. Дюма, созданной по мотивам пьесы Теолона и Курси, сочиненной на основании фактов и слухов о жизни и смерти великого английского актера Эдмунда Кина [Горин 2001: 456]. «Тот самый Мюнхгаузен» обозначен как комическая фантазия в двух частях о жизни и смерти знаменитого барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена, ставшего героем многих веселых книг и преданий [Там же: 198], «Тиль» написан по мотивам народных фламандских легенд [Там же: 90]. Вместе с тем развернутые сноски с указанием на нескольких предшественников фактически проблематизируют идею существования конкретного прототекста, идею оригинала (в данном случае — определенного первичного текста), порождают ощущение непрерывного круговорота текстов и сюжетов в культуре. Характерно, что даже в «Поминальной молитве» — инсценировке, отчетливее всего опирающейся на «Тевье-молочника» Шолома Алейхема, — в качестве «опорного» заявлен не один текст, а целый круг (по мотивам произведений). Подзаголовки, которыми Горин снабжает в большинстве случаев свои драматические произведения, очерчивают очень внятную перспективу повторительности, соотносимую с авторским представлением об истории, ходе времени (см. выше) и творчестве. Собственно, и свой импульс «переписывания» он осознает как эпизод в череде «перечтений», которые переживают наиболее важные для человечества сюжеты и герои. Такое понимание истории и культуры, естественно, порождает и специфические принципы выстраивания текстов, и, конечно, особый режим их восприятия.
О рецепции текстов, основанных на повторении, довольно точно высказался Х.-Т. Леманн: «...в театре не и не может быть чистого повторения. Уже одно только положение во времени отличает повтор от оригинала. В том, что уже видел, замечаешь не то, что заметил в первый раз. Подобие неминуемо разрушается повторением: повтор или обессмысливает то, что уже увидено, то, что мы можем вспомнить (то, что нам уже известно), или, наоборот, дополняется новым смыслом (ведь повторяется то, что важно). Минимальное изменение контекста, нагруженность того, что видишь, знанием о том, что это уже происходило, предшествует идентификации повтора. Именно поэтому повтор изменяет восприятие, он порождает „внимание к минимальным отличиям“. При повторе интересно не то, что происходит, а то, как мы это еще раз воспринимаем, не то, что повторяется, а само повторение. Tuaresagitur: эстетика времени превращает сцену в место, где зритель осмысляет свое зрение, начинает понимать свое восприятие как действие…» [Леманн 2011].
Действительно, персонажи театральных фантазий Горина (Мюнхгаузен, Тиль, Кин, Свифт, Балакирев и др.), как правило, знакомы предполагаемому читателю понаслышке или хорошо известны из читательского опыта. Значит, ассоциативно с этими персонажами связываются представления об определенных личностных характеристиках и часто — о вполне конкретных сюжетах. Не случайно почти в каждой пьесе драматурга собственно действие предваряется — в порядке напоминания читателю — представлением героя, пунктирной, а порой и тщательной обрисовкой его характера и судьбы. Так, в прологе «Кина IV» Соломон знакомит Актера с его будущей ролью: Сейчас, дай бог, он очухается и начнет играть Кина. Не кого-нибудь, а Эдмунда Кина — величайшего актера Англии [Горин 2001: 459]. «Тиль» начинается с выбора имени для еще не родившегося ребенка, выбора, осознаваемого как предопределение характера будущего младенца:
Каталина. Сперва призраки косили людей… На их трупах палач плясал. Камень девять месяцев кровоточил, потом распался… Потом увидела: два младенца народились, один в Испании, принц Филипп, другой во Фландрии, сын Клааса, прозвище ему — Уленшпигель. Филипп станет палачом, а из Уленшпигеля выйдет великий балагур и проказник, и странствовать ему по белу свету, славя все доброе и прекрасное и над глупостью хохоча до упаду… И весь свет он пройдет, и никогда не умрет, потому что он — дух Фландрии.
Клаас. Во как! Слыхал? А я назову его Тилем, Тильбертом, что в переводе означает „живой“ или „подвижный“. И сегодня же начнутся его славные приключения, если, конечно, мамаша Сооткин поднатужится! [Там же: 93].
Важно, что Горин не пишет истории «по новой», а, учитывая специфику «вторичных текстов», использует закрепленное в культуре имя то как микросюжет, который можно развернуть в подробное, насыщенное деталями драматическое действие («Забыть Герострата!»), то как роль (уравниваемую в данном случае с судьбой), которую герою предстоит принять и прожить до конца («Кин IV», «Тиль»), то как наиболее адекватный способ репрезентации специфического художнического мировидения (Свифт, Мюнхгаузен).
Первым опытом художественного осмысления известного сюжета для Горина была пьеса «Забыть Герострата!», написанная в 1970 г. (в 1979 г. к пьесе добавлено предисловие, во многом объясняющее суть художественного высказывания писателя). Драматург обратился к исторической легенде о Герострате — греке из Эфеса, которого «жажда славы толкнула … на поджог в 356 г. храма Артемиды», считавшегося одним из семи чудес света. Имя Герострата по решению жителей города было предано забвению, однако о нем упоминает греческий историк Феопомп (IV в. до н. э.) [Лисовый, Ревяко 2001]. Развернутой легенды о «поджигателе» не существует, но имя его закрепилось во многих языках в переносном значении (в немецком Геростратом называют человека, находящегося в вечной погоне за славой; в английском и русском языках есть выражения «слава Герострата» — о человеке, готовом обрести известность любым путем) [Opentopia Encyclopedia].
Использование прецедентного имени определяет принцип организации действия. Как справедливо замечает В. Е. Головчинер, «драматическое содержание образа Герострата … исчерпано еще до начала пьесы», в пьесе герой лишь «подтверждает суть своей личности, заданной именем» [Головчинер 2001: 187]. Герострат из привычного для театра раскрывающегося по ходу драматического действия героя превращается в причину и катализатор нравственной трансформации окружающих его людей. Система персонажей пьесы — и это отмечено исследователями — выстроена в соответствии с центральным положением Герострата, чей поступок ставит всех героев в ситуацию нравственного выбора и требует незамедлительного определения собственной линии поведения. В. Е. Головчинер указывает на «закон перспективы», действующий по отношению к героям пьесы: есть персонажи, находящиеся в непосредственной близости к Герострату (Клеон, Клементина, Тиссаферн), поведение которых прописано с подробностями, крупно, есть герои, для которых действует иной принцип изображения, — они дальше от Герострата, обрисованы схематично (горожане, появляющиеся на сцене), — есть внесценические персонажи, которые фигурируют в разговорах действующих лиц.
Каркас действия составляют сцены«дуэли» Герострата с героями, выявляющие механизмы социальной и нравственной переориентации, перестройки сознания людей, постепенного привыкания ко злу и примирения с ним [Головчинер 2001: 190—191]. Так, тюремщик, который был готов убить Герострата за его кощунство, постепенно привыкает к своему выгодному положению и не видит ничего зазорного в том, чтобы выполнять поручения преступника, конечно, за деньги. Торговец Крисипп не хочет проворонить доходную сделку — и соглашается продавать «мемуары» Герострата, способствуя распространению «богоборческих» идей поджигателя, и т. д. Ужасающая безнравственность Герострата по прошествии времени начинает казаться окружающим не такой и ужасающей, мотивы его преступления не пугают, а заинтересовывают, имя обретает все большую известность: на базаре гадалка кричала, что Герострат — сын Зевса, и многие благоговейно внимали ее словам [Горин 2010: 247]. Так постепенно, из-за человеческих слабостей, Герострат из безымянного жителя Эфеса превращается в исторического героя.
Сюжет «Герострата» с первого взгляда кажется несложным: это «постановка», своего рода эксперимент, осуществляемый условным человеком «из настоящего» (современником драматурга) для решения важнейших этических вопросов: можно ли противостоять злу? как изъять из истории имя злодея, жаждущего в ней остаться?
В логике пьесы антиномия имени и безвестности/безымянности приобретает особое значение. В переходе от одного к другому проявляют себя, по мнению драматурга, парадоксы памяти — персональной и исторической: злодей хочет быть прославлен, противовесом его стремлению становится запрет на упоминание (Тиссаферн хочет приказать на мраморной доске написать приказ: «Забыть Герострата!»), однако намеренное забывание оборачивается прямо противоположным — увековечиванием. Выходом из этой парадоксальной ситуации становится поиск имени, репрезентирующий историю как культурный прогресс, а не череду разрушений. Инициирует этот поиск Человек театра — условный персонаж пьесы, современник автора, вернувшийся на 2000 лет назад, чтобы постичь феномен Герострата. Как это было свойственно хору в античной трагедии, Человек театра практически не покидает сцену и непосредственно по ходу действия «предлагает» зрителю свою оценку происходящего, периодически выступает в роли корифея, ведя диалог с актерами (персонажами пьесы). Человек театра в данном случае «вполне вписывается в арсенал выразительных средств брехтовской драматургии» [Головчинер 2001: 194], обрисован как современник автора и читателя, пытающийся сохранить дистанцию между своим временем и историей, к которой обращен его познающий и оценивающий взгляд: К сожалению, я не могу вмешиваться. Я буду только следить за логикой их развития. [Там же: 220];Человек театра. Я не имею права вмешиваться, Герострат. Но так нельзя! Надо соблюдать законы! Человек театра. Странно слышать эти слова от тебя... [Там же: 221]. Дистанция эта по ходу пьесы сокращается, а в финале, когда Человек театра протягивает Клеону нож, чтобы тот покарал преступника, и вовсе снимается. Герой осознает свою интеллектуальную и эмоциональную вовлеченность в историю (и это, конечно, можно сравнить с тем, что переживает читатель, постепенно углубляющийся в книгу).
Именно Человек театра (представитель автора и читателя) вместе с архонтом Клеоном ведут мучительный поиск имени, могущего стать противовесом имени злодея Герострата, но даже те, кто избежал обаяния поджигателя и требуют справедливой кары, безымянны — граждане Эфеса, возмущенные поступком, не называют свои имена:
Клеон. Ваши имена? Второй гражданин. Зачем они тебе, Клеон?... Мы ничем не знамениты. Я каменщик, он — гончар, этот (указывает на третьего) — цирюльник.
Клеон. И все-таки, почему вы не хотите назваться?
Второй гражданин. Мы говорим не от своего имени, архонт. Нас послал народ [Там же: 222].
Строители нового храма, усилия которых, в отличие от деяний Герострата, направлены на «созидание», выступают как сообщество, «мы», «они», «эфесцы», но «всегда остаются безымянными», тогда как одиночки озабочены поиском места в истории. Это касается не только Герострата, но и правителя Тиссаферна, который не высыпается, потому что «история не хочет ждать», и не может поесть спокойно, потому что «историки и поэты так и шныряют по двору, так и смотрят, чего бы описать и запечатлеть»; жена Тиссаферна Клементина готова стать любовницей преступника, лишь бы имя ее осталось в веках как имя красивейшей женщины Эфеса.
Несправедливость истории, на которую сетуют Человек театра, Клеон и даже автор в предисловии к пьесе, обусловлена свойствами персональной памяти: архонт, имя которого для жителей Эфеса — синоним справедливости и порядка, не может вспомнить тех, в чьих действиях традиционно видится позитивный смысл истории:
Стук падающих камней и песня усиливаются.
Человек театра. Что это?
Клеон. Они восстанавливают храм Артемиды…
Человек театра. Кто?
Клеон. Они… Эфесцы…
Человек театра. Их имена? Назови хоть одно имя… Это так важно для нас… Ну?
Клеон (беспомощно). Не помню… [Там же: 269].
В финале пьесы безымянный (!) Человек театра и Клеон, только что расправившийся с Геростратом, силятся вспомнить имена строителей храма, как будто хоть одно имя прервет порочный круг повторений, о котором архонту говорит в начале пьесы вестник из будущего:
Человек театра. В этом твой главный просчет, Клеон. Он был, есть и, к сожалению, будет рождаться вновь... Знаешь, Клеон, в то далекое время, которому я современник, мир будет занимать много проблем. Но и тогда время от времени на земле будет появляться он — человек по имени Герострат. Он снова провозгласит: „Делай что хочешь, богов не боясь и с людьми не считаясь!“ И вспыхнут пожары, прольется кровь, погибнут невинные. И многие станут разводить руками: „Откуда эта напасть, откуда?..“ А ей с лишним две тысячи лет! Начало ее здесь, в Эфесе. Вот почему я пришел к вам, архонт. Вот почему я говорю тебе: „Не старайся облегчить свою память забвением!“ [Там же: 248—249].
Так сюжет о греческом преступнике Герострате превращается у Горина в разбирательство с парадоксами истории. Хотя автор позиционирует это разбирательство как этическое и настраивает современного ему читателя на поиск в первую очередь нравственных оснований, не менее важен и другой план пьесы, предполагающий художественную рефлексию над процессом переписывания известного сюжета.
Повторительность истории, заявленная драматургом на уровне темы как предмет постижения, резонирует в самой форме произведения, созданного на основе исторической легенды. Однако важно, что сюжет о Герострате дан драматургом с ощутимым «смещением». В предисловии к тексту пьесы Горин пишет: Герострат добился того, чего хотел, — о нем помнят. Но в этой победе таится его поражение и его гибель [Там же: 216], — уравнивая свое письмо со своеобразным механизмом «стирания». Так вторичный текст, традиционно осознаваемый как маршрут культурной памяти, приобретает новый смысл: символическое воспроизведение сюжета о Герострате связывается теперь не с повторением имени злодея, утверждающим его (это имя) во времени, а с поиском новых имен (Назови хоть одно имя... Это так важно для нас... Вспомни, Клеон! Несправедливо, что они всегда остаются безымянными. Вспомни!..» [Там же: 269]), преодолевающим замкнутость истории.
Литература
1. Горин Г. И. Избр. — М. : Эксмо, 2010
2. Горин Г. И. Театр Григория Горина. Пьесы. — Екатеринбург : У-Фактория, 2001.
3. Головинчер В. Е. «Горина надо осмыслить как нашу закономерность...» // Неординарные формы русской драмы ХХ столетия : межвуз. сб. науч. тр.
4. Головчинер В. Е. Комические фантазии Г. Горина // Головчинер В. Е. Эпическая драма в русской литературе ХХ века. — Томск, 2001. С. 183—202.
5. Леманн Х-Т. Постдраматический театр // Новое литературное обозрение. 2011. № 111.
6. Лисовый И. А., Ревяко К. А. Античный мир в терминах, именах и названиях : словарь-справочник по истории и культуре Древней Греции и Рима / науч. ред. А. И. Немировский. 3-е изд. — Минск : Беларусь, 2001.
7. Лотман Ю. М. Память в культурологическом освещении // Лотман Ю. М. Избр. статьи. — Таллинн, 1992. Т. 1. С. 200—202.
8. Федорова Н. К. Пьесы и киноповести Г. И. Горина конца 1970-х — 1990-х годов: герой и хронотоп : дис. ... канд. филол. наук. — Тюмень, 2010.
9. Черняк В. Д., Черняк М. А. Базовые понятия массовой литературы. — СПб., 2009.
10. Чупринин С. Русская литература. Жизнь по понятиям. — М., 2007.
11. Opentopia Encyclopedia.
Примечания
[1] Можно назвать лишь несколько работ литературоведов, в которых более или менее подробно анализируется художественная система драматурга. Несколько статей, касающихся горинской поэтики, написаны В. Е. Головчинер, которая рассматривает творчество писателя в контексте идеи эпического театра и относит найденную Гориным форму «театральных фантазий» к условно-метафорической, продолжающей традиции Шварца и Маяковского линии. См. след. ее работы: [Головинчер, «Горина надо осмыслить...; Головчинер 2001]. В указанных статьях достаточно подробно проанализированы пьесы «Забыть Герострата!» и «Тиль». Не меньшее значение при обращении к творчеству драматурга имеет еще одна книга исследователя, «Эпический театр Евгения Шварца», дающая представление о важной и для Горина роли вторичного сюжета в условно-метафорической драме.
Наиболее полный на сегодняшний день анализ драматургического творчества Горина представлен в кандидатской диссертации Н. К. Федоровой [Федорова 2010].
Статью рекомендует к публикации д-р филол. наук, проф. Н. В. Барковская