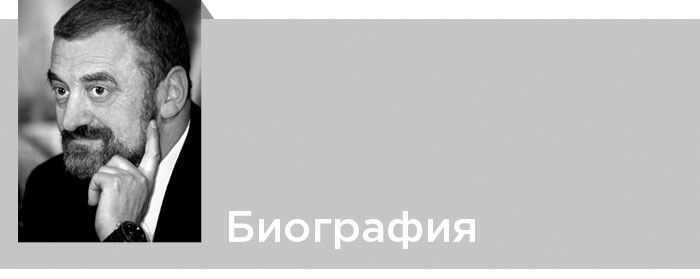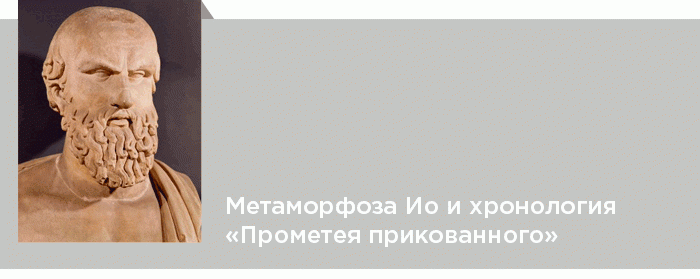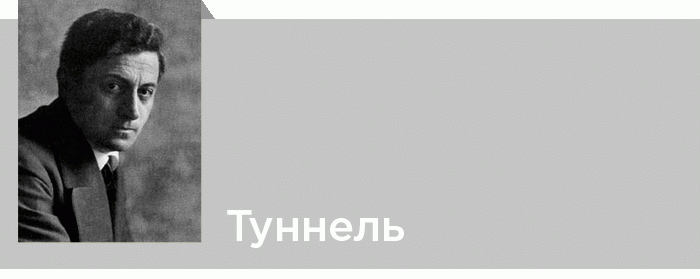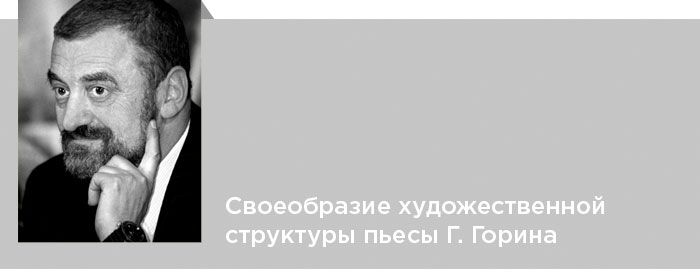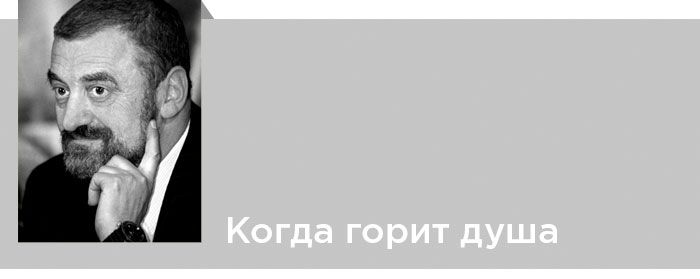Маркеры древнерусского «кромешного мира» в комедии Г. Горина «Шут Балакирев»

УДК 008 (1–6)
А. А. Сущинская
В статье речь идет о том, как черты древнерусской смеховой культуры проявляются в пьесе Г. Горина «Шут Балакирев». В качестве основы используется исследование Д. С. Лихачева. Выявляется ряд характерных «маркеров», которые сигнализируют о присутствии в пьесе национальной смеховой стихии, и доказывается, что эти «маркеры» организуют конфликт пьесы на глубинном уровне, определяя ее особое воздействие на зрителя.
Ключевые слова: драматургия, комическое, комедия, Г. Горин, смех, скоморошество, дурак, площадная культура, Древняя Русь, Д. Лихачев, Петр I, «изнаночный» мир.
А. А. Sushchinskaya
Markers of the Old Russian "Pitch World" in G. Gorin's Comedy "Jester Balakirev"
The main problem of the article is to show traits of the Old Russian comic culture revealed in G. Gorin’s comedy "Jester Balakirev". The book "Old Rus Laughter" by D. Likhachyov is used as a theoretical base of the research. There are some typical "markers" detected, which signal about existence of the national comic element in the play. We demonstrate that these "markers" organize the conflict of the play on a deep level and predestine its special influence on a spectator.
Keywords: dramaturgy, comic, a comedy, G. Gorin, laughter, a skomorokh, a jester, market-place culture, Ancient Rus, D. Likhachyov, Peter I, a “reverse” world.
В своей комедии «Шут Балакирев», написанной в 2000 г. (за год до смерти), Григорий Горин, для драматургии которого характерно привлечение так называемых «чужих» сюжетов либо же известных исторических мифов, обратился к теме пути России и судьбе русского человека. Такое обращение очень примечательно в свете творческого пути драматурга прежде всего потому, что это одна из немногих его пьес, выстроенных на изначально русском материале.
Предмет изображения как таковой не слишком располагает к веселью, однако в пьесе присутствует ярко выраженная комическая стихия. Нам думается, что ее истоки, глубинная основа смеха Горина, делающая его несладкий юмор очень понятным и даже родным для человека, воспитанного в традициях русской культуры, кроется отчасти в той особой манере смеяться, которая идет еще из времен Древней Руси.
Блестящий анализ древнерусской смеховой культуры принадлежит Д. С. Лихачеву («Смех в Древней Руси»). Один из основных его тезисов заключается в том, что древнерусский смех носит пародийный характер. Пародия же появляется на основании необычных представлений о принципах мироустройства: вся вселенная делится на мир культуры, упорядоченный, действительный, благочестивый, достойный, и мир антикультуры, изнаночный (Лихачев называет его «кромешным»). Эти два мира находятся друг с другом в особых отношениях. Кромешный мир является пародией на мир действительности: он ненастоящий, неупорядоченный, неблагополучный, это мир спутанных отношений и неправильных значений, он последовательно переворачивает все понятия мира культуры. Церковь в нем заменяется кабаком, монастырь – тюремным двором, богатство – нищетой, благочестие и святость – богохульством и непристойностью. Кромешный мир собирает все отрицательные явления действительности, это мир зла, и он был бы попросту страшен, если бы не воспринимался как дистанцированный от реальности, замкнутый сам на себе. Чтобы быть смеховым, он должен представать как небылица, чепуха. Причем шутки не должны прекращаться: как только смеховой мир останавливается в своем движении, он становится страшным [2].
Итак, чтобы кромешный мир воспринимался в качестве такового, он должен быть маркированным. Нам видится, что в «Шуте Балакиреве» Горин представляет российскую действительность именно как антимир, и мы хотели бы выявить в структуре пьесы ряд характернейших маркеров.
Один из наиболее бросающихся в глаза – это обильное использование ненормативной лексики. Горин заявляет об этом уже непосредственно под «списком ролей для господ актеров, пожелавших принять участие в пьесе»: «В пьесе (при крайней необходимости) используются некоторые слова и выражения, считающиеся ныне “ненормативными”, но бывшие в употреблении и признававшиеся языковой нормой для россиян, живших в XVII в.» [1, с. 542]. Думается, что драматург тут несколько слукавил: подобная лексика уже в те времена воспринималась как табуированная. Так, о повсеместном распространении брани у русских уже в XVI в. пишет Адам Олеарий: «При вспышках гнева и при ругани они не пользуются слишком, к сожалению, у нас распространенными проклятиями и пожеланиями с именованием священных предметов, посылкою к черту, руганием “негодяем” и т. п. Вместо этого у них употребительны многие постыдные, гнусные слова и насмешки, которыя я – если бы того не требовало историческое повествование – никогда не сообщил бы целомудренным ушам... Говорят их не только взрослые и старые, но и малые дети, еще не умеющие назвать ни Бога, ни отца, ни мать... » [3, с. 187].
Нецензурное слово воспринималось как прямой «перевертыш» по отношению к слову сакральному, поэтому позволяло маркировать антимир, открыто заявлять о его присутствии. Помимо того, это речь площадной культуры, переступающая за границы – вызывающая смех уже постольку, поскольку преодолевает страх этого преступания запретных границ. Табуированная лексика связана к тому же исключительно со сферой материального, а смеяться легче всего над тем, что облечено плотью.
В пьесе Горина нецензурные выражения исходят из уст практически всех персонажей. Однако если подобная речь звучит органично в устах шутовской братии, то речи государственных мужей, наполненные обсценной лексикой, вызывают, по крайней мере, недоумение. Таким образом, создается та тонкая грань, где кромешный мир уже готов перестать быть смеховым: уже в плане речи, главного средства, характеризующего персонажей в произведении драматургического рода литературы, Горин уравнивает шутов и правителей, происходит их неожиданное отождествление.
Мотивы наготы, физической обнаженности также близки кромешному миру и явственно сигнализируют о его присутствии. Особое внимание уделяется обнаженному гузну, упоминается, что оно вымазано, метет полати и т. п. С одной стороны, нагота подчеркивает телесность, материальность антимира, препятствует проникновению в него серьезности – враждебного элемента. С другой – объединяет людей и уравнивает их между собой. Помимо того, этот мотив связан с важнейшей функцией древнерусского смеха – обнажать правду, срывать с реальности все церемониальные покровы, освобождать от гнета условностей, уничтожать фальшь так, чтобы оставалась одна лишь истина без прикрас.
В «Шуте Балакиреве» Горин обильно вводит в текст мотив наготы, подчас в грубой форме, и шутки о теле ниже пояса непосредственны в совершенно средневековой манере. Уже в прологе знакомство Балакирева и светлейшего князя Меншикова начинается приемом парада у роты голых преображенцев (главнокомандующий появился, когда солдаты, спасаясь от изнуряющей жары, купались в пруду).
Меншиков. Херово кричите, ребята!! А стоите, в ентом смысле, еще хуже… А ну, Балакирев, построить всех по порядку…
Балакирев. Осмелюсь спросить: это как?
Меншиков. По ранжиру. От большего к меньшему…
Балакирев. Слушаюсь!.. Рота, слушай команду – руки опустить!.. Ранжир определить!.. (Меншикову.) Ваше высокопревосходительство, как прикажете его замерять?
Меншиков. А как предлагаешь?
Балакирев. Так все от ранжира зависит… Иной, махонький, и циркулем не замерить… А иной, гляжу, придется вдоль забора растянуть да шагами просчитывать… [1, с. 546]
Эта грубоватая простонародная шутка организует пролог и, с одной стороны, дает толчок дальнейшему действию (с этого момента начинается восхождение Ивана при дворе), с другой – задает кураж и атмосферу пьесы. Однако в дальнейших сценах обилие шуток об обнаженном теле и его возможных действиях будет служить Горину для того, чтобы неявно, исподволь сблизить персонажей из народа, шутов и государственных мужей, чьи поступки определяют образ и характер развития страны, и донести до зрителя мысль об их глубинном сходстве. Таким образом, из этой комики – вполне в древнерусской манере – вырастает правда, которая оказывается печальной.
Отдельную группу персонажей в пьесе составляют придворные шуты, к которым примыкает и Балакирев. По своей природе они должны быть порождениями смехового антимира и служить проводниками между кромешным миром и реальностью, дурак – это ключевой образ древнерусской комической культуры. Шуты в этой комедии Горина, думается, близки к древнерусским скоморохам, увеселяющим народ на площадях. Они рядятся, что характерно именно для скоморошьей культуры: Шапский – в такой же шляпе, что и у государя, Карлик привязывает башмаки к коленям, шуты впрягаются в упряжку вместо лошадей. Их поведение призвано переворачивать все нормы, которые приняты в социуме: Педрилло играет на дудке тем местом, на котором обычно сидят, Лакоста не выговаривает букв. Их постоянно сопровождает музыка, они поют комические куплеты, балагурят, их выходки – это вызов скромности и благопристойному поведению. Надо заметить, что рефрен одного из куплетов обыгрывает мотив, чрезвычайно значимый в целостной структуре пьесы: «Ой, судари-судари! Ой, дури-дури-дури!». Рифма сталкивает эти два разнонаправленных понятия («судари» и «дурь») и обнажает их глубинную близость.
Важно отметить, что юмор у шутов не отличается тонкостью. Шутки предсказуемы, ожидаемы, выдержаны в духе грубой комики, то есть нацелены на «широкую аудиторию». По сути, это площадной скомороший юмор, понятный для простонародья. У шутов, как и у скоморохов, особое и обособленное положение, несколько отстраненный статус – они воспринимаются окружающими как чужеродные элементы, чья инаковость прощается только за счет их откровенного желания угождать публике.
Глубинный мотив скоморошьих действий в Древней Руси заключался в том, что они расшатывали основы действительности, организовывали беспорядок, пусть в условиях ограниченного времени и пространства, нарушали атмосферу размеренного течения жизни. Высокий пафос их служения заключался в том, чтобы обличать стабильность, которая выступает в обличье довлеющего над обществом гнета необходимости. Они были как глоток свежего воздуха и показывали, что свобода сделать запрещенное возможна даже в условиях жестких ограничений.
Однако в пьесе Горина шуты-скоморохи не способны выполнять свою высокую миссию, которая заявлена в словах матери Балакирева:
Анисья Кирилловна. …Ну вот, к примеру, идет у царя важный совет…Указ там подписывают… или Сенат закон принимает… А никак не стронется дело… Затык в мыслях! Тут царь сразу кричит: «Позвать ко мне срочно шутмайстера Балакирева!. . » Ванечка тотчас прибежит, шутку им сшутит, и все – просветление в умах!! Пошло-закипело! Указ за указом!! [1, с. 578]
На деле же оказывается, что шуты изменяют своей смеховой природе. В условиях придворных интриг они вынуждены принимать участие в хитросплетениях государственной жизни и не могут сохранить статус отстраненности и собственную свободу, поскольку находятся на службе у того или иного царедворца. Так, в структуре «Шута Балакирева» создается еще одна тонкая грань, на которой кромешный мир перестает быть смеховым и рискует окончательно перевернуться в страшный.
Характерно, что мотив службы определенному государственному деятелю обыгрывается также в скоморошьих традициях. Так, люди барона Шафирова пахнут его ароматным маслом, а от людей Меншикова идет крепкий запах сивухи, настойки на гонобобеле. Прокурор Ягужинский, в соответствии с занимаемой должностью, отпаривает своих приверженцев от чужеродных запахов в бане.
Мотив переодевания – это очень значимый маркер антимира. Своей кульминации в комедии Горина он достигает в финальной сцене, изображающей первое в истории России празднование 1-го апреля, Дня дурака. Вельможи надевают маскарадные костюмы и шутовские колпаки, пускаются вприсядку и поют похабные куплеты, а на троне оказываются главный шут, Иван Балакирев, и царица Дуня Первая.
Логика кромешного мира требует постоянного нагнетания чепухи, непрерывности шуток, при этом переворачиваться и опрокидываться в смеховой план должны наиболее значимые объекты мира действительности. На протяжении всей пьесы поступки вельмож, их взяточничество, кумовство, блюдение своих интересов вразрез с интересами социума показывались как явления смехового антимира. Так, абсурд доходит до того, что Екатерине после смерти Петра, якобы в интересах государства, предлагают выйти замуж за собственного внука, а Иван Балакирев избегает неминуемой смерти только потому, что гири, которые должны были утянуть его на дно, – из лавок Ягужинского: на них «написано – пуд, а внутри – воздух…» [1, с. 651].
Внутренняя организация шутовского мира с обер-шутом во главе пародирует верхушку государственной власти во главе с Петром. И если в первом действии, изображающем Россию времен Петра, шутовской мир и мир государственных дел, требующий логики, разумности, соблюдения интересов социума, еще сохраняли какую-то грань между собой, то во втором действии они практически сливаются. Апогей слияния как раз изображен в финальной сцене – сцене празднования Дня дурака, где вельможи и шуты и вовсе меняются местами: она свидетельствует о возможной взаимозаменяемости этих двух реальностей.
Важный маркер древнерусского кромешного мира – это, как называет его Лихачев, компонент «лишенности». Нестабильность антимира достигается во многом за счет того, что в нем отсутствует нечто важное: он не всегда был неблагополучным и нищим, а значит, ситуация может измениться в любой момент. Наличие этого компонента в «Шуте Балакиреве» долгое время остается неявным, но во втором действии, в сцене с Петром на том свете, он выходит на поверхность, а окончательно формулируется в заключительной реплике Балакирева.
Балакирев (вырываясь). Чего топить – не топить? Не печка я тебе!.. Не пойму я вас, господа хорошие! На тот свет спешите? Так давайте все вместе нырнем. Глаза закрыли, и – бух! (Неожиданно сверху падает веревка.) Вот! Считайте – все мы уже там! Это вам с неба Господь последнюю помощь подает. Кто до нее допрыгнет, тот может надежду иметь, что выберется… А остальным ходить кругами да думать… Думать! Ну, давайте все! Начали!
Звучит музыка. Шуты запевают свою традиционную песенку: «Ой, дури-дури-дури!..» Все ходят по кругу возле спустившегося каната, пытаясь допрыгнуть и ухватить… [1, с. 654].
Финал пьесы мрачен, но дает все же какую-то надежду на изменение ситуации к лучшему. Горин окончательно опрокидывает действительность в антимир, прописывая в ремарках завершающей сцены тот же антураж, который характеризовал загробный мир: люди ходят по кругу, мучительно думают, а сверху висит спасительная веревка. Получается, что мир зла – это здесь и сейчас, там, где мы живем, и это больше не смешно.
Итак, в комедии «Шут Балакирев» Григорий Горин обращается к одному из самых значимых мифов русской истории – мифу о правлении Петра Первого, времени, когда многовековой уклад жизни был резко изменен и Россия повернулась на тот исторический путь, по которому движется и по сей день.
Характер горинского смеха, как нам кажется, апеллирует к опыту и особенностям сознания человека, воспитанного именно в рамках русской культуры, и комизм произведения, его удивительное воздействие на зрителя достигается во многом за счет того, что в нем присутствуют яркие черты национальной смеховой системы. Горин обильно рассыпает по тексту «маркеры», которые помечают присутствие смехового «кромешного» мира в его древнерусском варианте. Это и мотивы физической наготы, материальности, телесности – и, следовательно, обнажения истины, это и наличие табуированной лексики, это и введение в текст скоморошьей стихии с ее атрибутикой: ряжением, антиповедением, комическими куплетами, балагурством. Кромешный мир – перевернутый, все значения в нем спутаны, все понятия и отношения вывернуты. Наиболее значимое и последовательное выворачивание в пьесе – это уподобление серьезного мира государственных деятелей миру шутовскому и наоборот, за счет чего грань между двумя этими плоскостями практически полностью стирается, и когда она исчезает полностью, из кромешного мира уходит смех, он становится страшным, остановившимся, действительность уподоблена мучительному загробному существованию. Выход из сложившейся ситуации, тот волшебный ключик, который сможет победить извечные российские беды, это, по мысли Горина, разум, человеческая способность думать и руководствоваться логикой в своих поступках, следовать своей миссии – как шутам и власть предержащим, так и прочим гражданам необъятной страны…
Примечания
- Горин, Г. И. Тот самый Мюнхгаузен [Текст] : пьесы / сост. Л. Быков. – Екатеринбург: У-Фактория, 2005. – 656 с, с. 542. Здесь и далее ссылки на это издание см. в тексте.
- Лихачев, Д. С. Избранные работы: в 3 т. Т. 2. Смех в Древней Руси [Текст] / сост. Т. Мельникова. – Л.: Художественная литература, 1987. – 520 с.
- Олеарий, Адам. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно / Введ., пер., примеч. и указ. А. М. Ловягина. – СПб.: А. С. Суворин, 1906. – 516 с.