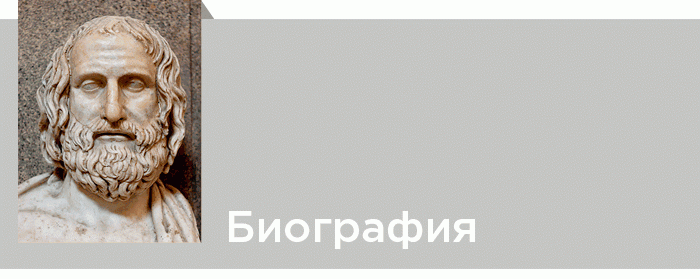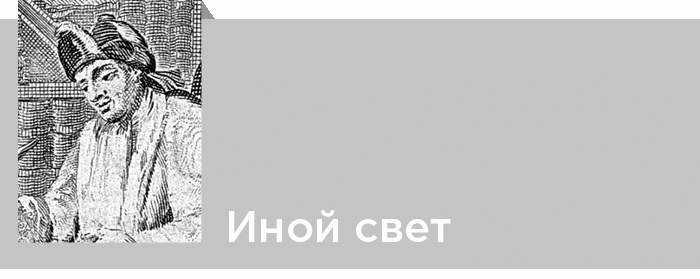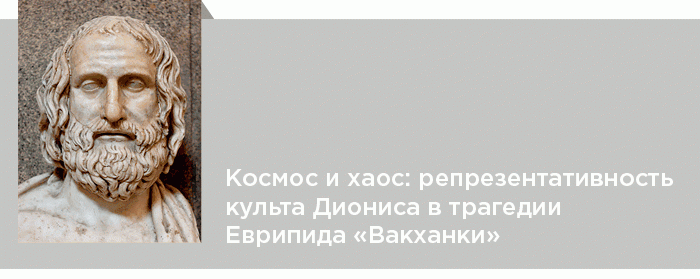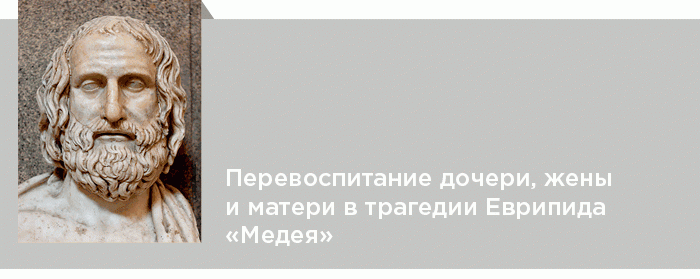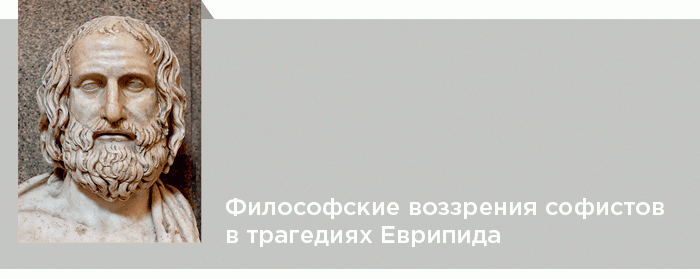«Алкеста» Еврипида: проблема интерпретации

Б. М. Никольский
Предложенный в статье анализ «Алкесты» Еврипида выделяет в драме два сюжетных движения, одно из которых ведет к смерти Алкесты, а второе – к ее спасению. Различие между этими двумя движениями объясняется различием между фигурами Аполлона и Геракла, определяющими ход событий в каждом из них. Контраст между Аполлоном и Гераклом оказывается структурным центром драмы, и его религиозно-политическое истолкование становится основой для интерпретации всего произведения. Аполлон должен был символизировать мирный, интеллектуальный и политический способ избавления города от бед, а Геракл – способ, связанный с применением физической и военной силы. Воспевание в «Алкесте» военной силы можно объяснить обстоятельствами постановки трагедии. Трагедия могла быть посвящена военному союзу Афин с одной из фессалийских тетрархий около 440 г. до н. э.
Ключевые слова: Еврипид, трагедия, политика, военный союз, Геракл, Аполлон, гостеприимство, Афины, Фессалия.
B. Nikolsky Euripides’ Alcestis: A Problem of Interpretation
The analysis of Euripides’ Alcestis singles out two plot movements, the one leading to the death Alcestis and the other to her deliverance, the main difference between which is in the figures of Apollo and Heracles determining the course of events in each of them. The contrast between Apollo and Heracles turns out to be the structural center of the drama, and its religious and political interpretation becomes the basis for interpreting the entire work. Apollo was to symbolize a peaceful, intellectual and political way of delivering the city from calamities and Heracles, a way implying the use of physical and military force. Particular attention to use of military force can be explained by the circumstances of the play’s performance. The play might be related to the military alliance between Athens and the ruler of one of Thessalian tetrarchies about 440 BC.
Keywords: Euripides, tragedy, politics, military alliance, Heracles, Apollo, hospitality, Athens, Thessaly.
Все критики, желающие объяснить построение и смысл «Алкесты», сталкиваются с проблемой – как согласовать и объединить в одной интерпретации два разных направления, в которых движется сюжет пьесы. С одной стороны, жертва Алкесты, ценою которой куплена жизнь Адмета, погружает мир драмы в атмосферу горя и страданий – Алкеста умирает, Адмет несчастен. С другой стороны, победа Геракла над божеством смерти в финале возвращает жизнь Алкесте и дарит счастье Адмету.
К. фон Фритц и У. Смит, вслед за А. Верроллом, видят в этих противоположных движениях иронический контраст между сказочным миром мифа и мрачной и жестокой реальностью человеческой жизни (von Fritz 1962: 312; Smith 1960: 127; Verrall 1895: 1–128). По их мнению, Адмет на протяжении всей пьесы неизменно заслуживает осуждения: он принимает жертву жены, так и не осознавая в полной мере даже после ее смерти своей ошибки и вины, занят лишь собственными страданиями и озабочен только собственной репутацией. Гостеприимство, которое он оказывает Гераклу, тоже не делает ему чести, поскольку, нарушая траур, тем самым он предает память Алкесты. Почему же тогда этот самовлюбленный герой в конце концов удостоился избавления от несчастья и получил назад свою Алкесту? По мнению этих критиков, Адмет не заслужил счастливого финала, и к окончанию истории не стоит относиться всерьез. Лишь основная часть драмы, выявляющая нравственное ничтожество Адмета, представляет мир подлинный. Этот мир разительно отличается от традиционной фантастической сказки о самопожертвовании и чудесном спасении, скрывающей от нас настоящую нравственную реальность истории Алкесты и Адмета – низость мужа, согласного на жертву своей жены. В финале трагедии Еврипид уводит нас в сказку, но с тем лишь, чтобы выявить контраст между ее идеалистическим оптимизмом и мрачным реализмом его собственной трактовки мифа. Смыслом трагедии оказывается ироническое обыгрывание традиционного мифологического сюжета: Еврипид в драматической форме критикует его, показывая нравственную несостоятельность участвующих в этом сюжете персонажей.
У этой интерпретации есть серьезные слабости. Во-первых, едва ли можно сводить значение счастливой линии, которая является неотъемлемой и органичной частью всего действия пьесы, только к контрастному оттенению мрачной «реалистической» части. Сложно согласиться и с «иронической» трактовкой образа Адмета. Обычно в трагедиях отрицательных персонажей осуждают прямо – или хор, чье отношение чаще всего отражает отношение, ожидаемое автором от публики, или положительные персонажи. Здесь не происходит ничего подобного; напротив, и хор, и Геракл только сочувствуют Адмету и восхваляют его добродетель, не упрекает своего мужа и Алкеста (Burnett 1965: 240–241, Buxton 2003: 181). Если бы Еврипид хотел выявить нравственную ущербность традиционного сюжета, в котором согласие мужа на самопожертвование жены представало действием естественным и не вызывающим никакого осуждения, то оценка этого поступка должна была бы находиться в центре пьесы. Но обвиняет Адмета, причем в агоне, в момент ссоры, только его отец Ферет – сам безусловно отрицательный персонаж, чье малодушие, себялюбие и цинизм подчеркиваются неоднократно. Более того, даже и в агоне об этом говорится мимоходом и случайно: главной темой агона является отказ Ферета пожертвовать собой и сохранить жизнь Алкесте, и лишь в ответ, отражая брошенные ему сыном обвинения, он называет убийцей Алкесты самого Адмета (Lloyd 1992: 41). Гостеприимство Адмета также не встречает осуждения в трагедии – напротив, оно даже восхваляется как проявление исключительной добродетели (τὸ γὰρ εὐγενὲς / ἐκφέρεται πρὸς αἰδῶ, 600–601 ‘Благородное влечется к добродетели’).
В ответ на «ироническую» интерпретацию «Алкесты» и характера Адмета Э. Бернетт предложила свое, «наивное» прочтение пьесы. Доверяя тем оценкам, которые дают Адмету хор, Аполлон и Геракл, равно как и очевидному восхвалению Алкесты и Геракла, Бернетт видит в трагедии рассказ о торжестве добродетели. По ее мнению, «Алкеста» открывает нам мир, «в котором дружба может воскресить, а добродетель – это путь к чудесному блаженству» (Burnett 1965: 253). Однако этот идеализирующий взгляд исключает из пьесы ее мрачную сторону. Алкеста совершает добродетельный поступок – и тем не менее мир пьесы вплоть до самого финала далек от блаженства, он наполнен скорбью и страданием. Адмет, конечно, – это воплощение дружбы и гостеприимства, но агон с Феретом показывает нам его и с другой стороны, если и не убеждая в том, что он – убийца жены, то по крайней мере открывая возможность такого взгляда на него. Бернетт, не желая видеть сложности в положении Адмета, трактует сцену с Феретом совсем невероятным способом. Она находит перекличку между этим агоном и столкновением Аполлона и бога смерти в прологе пьесы, и полагает, что Адмет играет здесь роль Аполлона, а его старый отец, которому следовало бы уже отправиться в могилу, подобен самой смерти! Адмет в этой сцене как будто добивается того, к чему тщетно стремился в начале пьесы Аполлон – он изгоняет из дома смерть: «Зрителя не покидает подсознательное чувство, что то безобразное существо, которому Аполлон позволил войти в дом, теперь изгнано из дома Адметом» (Burnett 1965: 249–250). Следующее утверждение Бернетт вызывает еще больше удивления. Она считает, что агон с Феретом контрастирует со встречей Адмета и Геракла, и что в обоих сценах Адмет ведет себя изумительно и в высшей степени похвально, когда сначала гонит из дома старика, одной ногой стоящего в могиле, и затем принимает в доме полного жизненных сил юного героя: «Поскольку Геракл юн и весел, поскольку он любитель пирушек и несет с собой жизнь, а Ферет стар и немощен и ассоциируется со смертью, царь показал себя истинно царем, прогнав старый Голод и впустив в дом Богатство и Здоровье» (Burnett 1965: 250). Это рассуждение Бернетт противоречит и здравому смыслу, и нравственному чувству некоторых ее читателей[1].
Все изложенные выше толкования «Алкесты» основаны на предположении о том, что Еврипида более всего заботит создание характера. Однако характер Адмета, как и другие характеры в пьесе, слишком прост, чтобы быть главным предметом интереса в пьесе. Трагедия в целом с ее разными эмоциональными движениями и неоднозначностью ее нравственного мира оказывается значительно сложнее. Каждого из персонажей отличают всего одно-два качества: Алкеста – жена, готовая к самопожертвованию, Ферет – эгоистичный отец, Геракл – любитель поесть и выпить и в то же время бесстрашный герой, Адмета же Еврипид наделил разве только благочестием (ὁσιότης, 10) и почтительностью (αἰδώς, 601, 659, 857) – теми чертами, которые позволяют ему водить дружбу с Аполлоном и заставляют его принять у себя Геракла. Потому критикам приходится или усложнять характеры персонажей излишней психологизацией, или же упрощать содержание пьесы, сводя его к утверждению того главного качества, которое мы находим в Адмете, Алкесте и Геракле – их добродетели.
Значительно больше деталей в пьесе становятся понятны, если перенести внимание с характеров на действие и ситуации. Как справедливо заметила Дэйл, подвергшая справедливой критике психологический подход, характер Адмета за исключением его гостеприимства никак не обрисован и не имеет значения; важны события, которые происходят с ним, и его реакция на обращенные к нему слова и поступки других персонажей, важны его πάθη, а не ἦθος (Dale 1954: XXVII). Первая, мрачная линия завершается словами Адмета ἄρτι μανθάνω ‘только теперь [когда уже слишком поздно] я понял’ в стихе 940: он слишком поздно понимает, что дарованная ему Аполлоном жизнь – дар бесполезный; утрата Алкесты и возможное бесславие лишают эту жизнь всякого смысла (Dale 1954: XXII). Как оказывается, дары богов парадоксальным образом могут быть обманчивыми и двусмысленными (Dale 1954: XXV). Все мрачные сцены трагедии ведут к этому открытию, являющемуся ее кульминацией, и такова, по мнению Дэйл, главная тема «Алкесты» – «тема, благодаря которой она и является трагедией в греческом смысле этого слова» (Dale 1954: XXIII). С тем, что эта тема важна и во многом определяет трагическое движение первой части пьесы, сложно не согласиться, но как, однако, совместить ее со счастливым финалом? Ответ Дэйл на этот вопрос едва ли может нас удовлетворить. Она полагает, что уже в мрачных сценах «милость Аполлона, действующего с помощью Геракла, готовит путь к свету, который в финале нежданно озаряет Адмета и хор» (Dale 1954: XXII). Такая характеристика отношений между мрачной и светлой частями трагедии, по сути дела, лишает тему мрачной линии – ту самую трагическую тему, которая, по мнению Дэйл, определяет содержание пьесы, – всякого смысла: дары богов могут быть обманчивыми, но сама их обманчивость оказывается временной и словно бы иллюзорной, и в конце концов они оправдывают наши надежды.
Вслед за Дэйл взглянуть на «Алкесту» как на трагедию положений и действия, а не характера, пытались и другие критики, сделавшие много интересных и верных наблюдений, однако убедительно объяснить целостность драмы никому из них не удалось. Дж. Грегори заимствовала у Дэйл представление о том, что трагическая реальность мрачной части пьесы обусловлена подарком Аполлона, который оказывается двусмысленным. Вследствие этого подарка, избавляющего Адмета от смерти, важнейшие категории, определяющие и оформляющие человеческую жизнь, становятся размытыми, теряют свою безусловную однозначность и смешиваются со своими противоположностями. Этот процесс Грегори называет «утратой разграничений» (Gregory 1979).
Первая пара таких категорий – жизнь и смерть. Граница между ними исчезает сначала для Алкесты, с наступлением назначенного дня ее смерти. Жива ли еще Алкеста или уже нет – таким вопросом задается хор на протяжении почти всего парода. Ответ он получает в начале первого эписодия: по словам ее служанки, госпожа сразу и жива, и мертва (καὶ ζῶσαν εἰπεῖν καὶ θανοῦσαν ἔστι σοι ‘Ты можешь назвать ее и живущей, и умершей’, 141), поскольку она слаба, поникла головою и вотвот испустит дух (143), и поскольку ее гибель предрешена (147). Мотив двойственного положения Алкесты звучит затем и в следующем, третьем эписодии, уже после ее смерти. К Адмету приходит Геракл; опасаясь, как бы Геракл из уважения к трауру не отказался от его гостеприимства, Адмет скрывает от него смерть жены, и на вопрос, жива ли она, отвечает – и да, и нет (ἔστιν τε κοὐκέτ' ἔστιν ‘Она и есть, и ее больше нет’, 521), объясняя такой ответ тем, что она обречена (525, 527).
Для самого Адмета жизнь и смерть также постепенно становятся одним и тем же. Жизнь без Алкесты ему кажется равносильной смерти, что выражается повторением обычного в формулах оплакивания слова ἀπωλόμην ‘я погиб’ (386; 391). Адмет решает до конца своих дней соблюдать траур по жене, отказавшись ото всех радостей жизни и уравняв свою жизнь со смертью. В то же время умершая Алкеста останется для него словно живой: он намеревается положить на брачное ложе ее статую, обнимать ее, называть ее по имени, так что ему «будет казаться, что он, хоть и не обладая, обладает женою» (δόξω γυναῖκα καίπερ οὐκ ἔχων ἔχειν, 352); Алкеста будет являться ему во сне (354–355), и после своей смерти он соединится с нею в их общей могиле (363–368).
То же самое драматическое развитие, которое стирает границу между жизнью и смертью и несет Адмету несчастье жить жизнью худшей, нежели смерть, способно поставить под сомнение и его репутацию. Конечно, объективно Адмета отличает одно только качество – благочестие, в награду за которое он получает дар от Аполлона; с начала до конца драмы Адмет остается положительным персонажем, и симпатии и сочувствие публики должны быть на его стороне. В то же время, однако, в силу сложившейся ситуации Адмет начинает выглядеть эгоистом, виновным в смерти Алкесты и требующим самопожертвования от родителей. В агоне с Феретом Адмет упрекает отца в том, что тот несмотря на пожилые годы предпочел сохранить свою жизнь и потому вынудил умереть Алкесту. Когда немногим ранее те же упреки Ферету перед смертью произносила Алкеста, они казались справедливыми, однако когда они исходят от Адмета, который остается жить и который требует умереть ради него самого, они бросают тень на его собственную нравственную позицию[2]. Ему нечем отразить обвинение, которое в ответ предъявляет ему Ферет: σὺ γοῦν ἀναιδῶς διεμάχου τὸ μὴ θανεῖν ‘Ты потерял всякий стыд, сражаясь за то, чтобы жить’ (694), и он сам повторит это обвинение, когда, вернувшись с похорон жены, осознает свое положение и представит себе те упреки, которые могут бросить ему теперь его недоброжелатели (Ἰδοῦ τὸν αἰσχρῶς ζῶνθ', ὃς οὐκ ἔτλη θανεῖν, ‘Взгляни на того, кто позорно жил и кто не решился умереть’, 955). Употребляемое Феретом слово ἀναιδῶς ‘бесстыже’ создает перекличку с однокоренным ему словом, которое описывало главную добродетель Адмета, – с αἰδώς ‘стыд, почтительность’. Эта перекличка подчеркивает, что добродетель героя, заслужившая ему милость и дар от Аполлона, ведет в конце концов к ее отрицанию, к ‘бесстыдству’. Подобно тому как жизнь для Адмета превращается теперь в смерть, так и его αἰδώς оборачивается своей противоположностью.
Можно согласиться с К. фон Фритцем, когда он отмечает нравственную ущербность в положении Адмета, только проистекает она не от ущербности его характера, а от ситуации, в которую ставит его дар Аполлона, то есть является не свойством его этоса, а его патосом. Слабость своего положения осознает в конце концов сам Адмет, вернувшись после похорон Алкесты в свой опустевший дом. Он понимает, какие упреки могут теперь бросить ему его недоброжелатели – по его вине умерла жена, он желал смерти родителей:
Ἰδοῦ τὸν αἰσχρῶς ζῶνθ', ὃς οὐκ ἔτλη θανεῖν,
ἀλλ' ἣν ἔγημεν ἀντιδοὺς ἀψυχίᾳ
πέφευγεν Ἅιδην εἶτ' ἀνὴρ εἶναι δοκεῖ;
στυγεῖ δὲ τοὺς τεκόντας, αὐτὸς οὐ θέλων
θανεῖν.
Взгляни на того, кто позорно жил и кто не решился умереть,
Но избежал Аида, по малодушию отдав вместо себя ту,
На ком был женат. И после всего этого мы решим, что он –
мужчина?
Он ненавидит родителей, хотя он и сам не хотел
Умирать! (955–959).
Выходит, что жертва Алкесты, призванная спасти Адмета, на самом деле лишает его и счастья, и доброго имени:
τί μοι ζῆν δῆτα κέρδιον, φίλοι,
κακῶς κλύοντι καὶ κακῶς πεπραγότι;
Какой толк мне теперь жить, друзья,
В бесславии и несчастье? (960–961).
Парадоксальная амбивалентность жертвы Алкесты подчеркивается примечательным употреблением глагола προδοῦναι ‘предать’ (Scodel 1979: 55 сл.). Сначала Алкеста объясняет свою смерть нежеланием предать брачное ложе и мужа: «Я умираю от того, что побоялась предать (προδοῦναι) тебя [ложе] и мужа» (180–1). Этим же словом Адмет обвиняет своего отца, отказавшегося умереть за него: «Ты не сможешь сказать, что ты предал (προύδωκας) меня за то, что я не уважал твою старость» (659). Но в то же время трижды предательством названа и сама смерть Алкесты: сначала служанка рассказывает хору о тщетных мольбах Адмета к Алкесте не предавать его (μὴ προδοῦναι λίσσεται, 202), а затем мы дважды слышим эти сетования от самого Адмета (ἔπαιρε σαυτήν, ὦ τάλαινα, μὴ προδῷς ‘Поднимись, бедная, не предавай’, 250, и μὴ πρός <σε> θεῶν τλῇς με προδοῦναι ‘Ради богов, не смей меня предать’, 275). В этих случаях, конечно, Еврипид обращается к формульному употреблению глагола, часто встречающегося в ситуации оплакивания и выражающего сожаление, а не упрек и тем более не обвинение (вроде русского «На кого ты меня оставляешь!»). Тем не менее эта естественная для оплакивания формула резко и парадоксально противоречит ситуации, в которой Алкеста приносит себя в жертву как раз для того, чтобы спасти Адмета[3]. Сторонники психологической интерпретации полагают, что эта ее неуместность должна свидетельствовать о нечуткости и неделикатности Адмета (Smith: 199–203), однако естественнее и разумнее иное объяснение. Еврипид намеренно обыгрывает традиционную формулу, прибегая к ней в совсем неподходящей для нее ситуации для того, чтобы выразить двусмысленность ситуации и неожиданную неоднозначность жертвы Алкесты. Получается, что героиня идет на смерть, чтобы не предавать своего мужа, и в то же время своей смертью предает его.
Итак, «мрачная» линия Алкесты представляет собой движение к двусмысленности и парадоксам. Жизнь оказывается подобной смерти, добродетельный Адмет – бессовестным виновником смерти жены, подвиг Алкесты лишается своего спасительного смысла. Какое значение может иметь такое развитие действия?
Грегори полагает, что причина «утраты разграничений» – в том даре Адмету, которого Аполлон добился от богинь судьбы, то есть в возможности избежать смерти. Отсюда Грегори выводит главный урок «Алкесты»: человек не должен противодействовать судьбе, необходимо ведущей его к смерти. Как и фон Фритц, Грегори должна как-то соотнести со своей интерпретацией «мрачной» линии историю спасительного вмешательства Геракла и счастливый конец. В отличие от немецкого ученого, однако, она отрицает смысловой контраст между двумя частями и видит пьесу как «органическое целое», а потому ей приходится найти тему неизбежности смерти также и в финале, где, кажется, смерть наоборот преодолена. Чтобы вычитать этот смысл, Дж. Грегори предлагает совсем невозможное и абсурдное истолкование финальной сцены. По ее мнению, спасение Алкесты означает возвращение к естественному ходу вещей, то есть вновь к неизбежной смерти Адмета! (Gregory 1979: 268–269). Нет нужды опровергать эту точку зрения. Разумеется, в тексте драмы нет и намека на возможность такого развития событий; напротив, совершенное счастье, которое царит в конце, возможно лишь постольку, поскольку Адмет и Алкеста продолжат жить вместе.
Очевидно, что сколько-нибудь обоснованная интерпретация «Алкесты» невозможна без правильного определения ее частей, выявления ключевых тем и объяснения отношений между ними, то есть без описания структуры пьесы. К такому описанию сейчас и стоит обратиться.
Пролог трагедии начинается речью Аполлона, излагающего предысторию событий, которые предстоит увидеть зрителям. Первые слова его – о череде последовательных актов отмщения и возмездия: Аполлон был наказан службой у Адмета за убийство циклопов, являвшееся местью Зевсу за убийство сына Аполлона Асклепия. Этот ряд наказаний начался с того, что Асклепий спасал людей от смерти и этим нарушал естественный порядок в мире (1–7). Непременное следование убийства за убийством подчеркивается повтором глагола κτείνειν ‘убивать’:
Ζεὺς γὰρ κατακτὰς παῖδα τὸν ἐμὸν αἴτιος
Ἀσκληπιόν, στέρνοισιν ἐμβαλὼν φλόγα
οὗ δὴ χολωθεὶς τέκτονας Δίου πυρὸς
κτείνω Κύκλωπας
Виновен Зевс, убивший сына моего,
Асклепия, бросив пламя ему в грудь.
Разгневавшись за него, я убиваю плотников Зевсова огня,
Киклопов (3–6);
Последнее наказание (καί με θητεύειν πατὴρ / θνητῷ παρ' ἀνδρὶ τῶνδ' ἄποιν' ἠνάγκασεν ‘и отец принудил меня в искупление этого поденничать у смертного человека’, 6–7) обозначено глаголом ἀναγκάζειν, имеющим значение принуждения и необходимости. Тем самым, Еврипид вводит темы, характеризующие существование мира в первой, мрачной части – мира, подчиненного принципу неизбежной компенсации.
В следующих стихах Аполлон сообщает о благочестивом приеме, который оказал ему Адмет, и о том, как он вознаградил за это Адмета, храня его дом и уговорив Мойр – богинь судьбы – подарить ему жизнь тогда, когда ему предстояло умереть (8– 12). В отношениях между Аполлоном и Адметом также действует закон компенсации, но совсем другого, противоположного рода. Аполлон отвечает милостью на милость, благодеянием на благодеяние; такие взаимные благодеяния обозначались словом χάρις. Отличие обмена милостью от закона возмездия – не только в позитивной окраске, но и в том еще, что он происходит не механически, не с неизбежностью и не по принуждению, а предполагает всякий раз проявление доброй воли. Все следующие поступки персонажей «Алкесты» являются примерами χάρις, и само это слово неоднократно повторяется в пьесе. Алкеста оказывает Адмету милость, решившись умереть за него. За это она просит Адмета об ответной милости (σὺ νῦν μοι τῶνδ' ἀπόμνησαι χάριν ‘Окажи мне милость за это’ 299), а именно – не брать себе новой жены. Адмет готов не просто выполнить ее просьбу – он желает оказать Алкесте еще большую милость, обещая навсегда погрузить свой дом в траур, в постель к себе положить статую Алкесты и думать только о той минуте, когда он вновь соединится с женой в могиле. Еще один обмен милостями происходит между Адметом и Гераклом. Адмет несмотря на траур принимает у себя Геракла, и Геракл желает отблагодарить Адмета:
δεῖ γάρ με σῶσαι τὴν θανοῦσαν ἀρτίως
γυναῖκα κἀς τόνδ' αὖθις ἱδρῦσαι δόμον
Ἄλκηστιν, Ἀδμήτῳ θ' ὑπουργῆσαι χάριν
Я должен спасти недавно умершую
Женщину и вновь поселить ее в этом доме –
Алкесту, и воздать милость Адмету (840–842; ср. 1072–1074).
Большинство из случаев χάρις, однако, окрашены отнюдь не только в позитивные тона. Выше мы говорили уже об амбивалентности, свойственной мрачной трагической линии «Алкесты», и теперь необходимо добавить, что в первую очередь эта амбивалентность затрагивает тему χάρις. Слово χάρις этимологически связано со словами, имеющими значение радости – χαρά ‘радость’, χαίρειν ‘радоваться’, и в собственном смысле обозначает действие или качество, доставляющие удовольствие и радость[4]. Потому сцены, показывающие последствия первых примеров χάρις – подарка Аполлона и жертвы Алкесты, то есть трагические сцены, изображающие горе Адмета и всего его дома и страдания самой Алкесты, лишают χάρις необходимого и главного его элемента – радости. Милость, которую персонажи оказывают друг другу, приносит не удовольствие, а наоборот несчастье. Мы сталкиваемся здесь с драматическим выражением традиционного трагического оксюморона χάρις ἄχαρις или χάρις ἀχάριτος («безрадостная радость» или «безмилостная милость»), который встречается не раз у Эсхила и у Еврипида[5]. В «Алкесте» этот оксюморон играет особенную роль – он характеризует не какой-то отдельный момент действия, но все сцены почти до самого финала.
Важнейший вопрос, без правильного ответа на который невозможно правильно понять замысел «Алкесты» – отчего возникает амбивалентность? Грегори полагает, что причина ее – в содержании подарка Аполлона, в попытке нарушить естественный ход вещей, обязательно предполагающий смерть. Как мы видели, этот ответ не может быть верен, поскольку он никак не согласуется с однозначно негативной оценкой смерти во всей трагедии и с радостью в финале трагедии, когда смерть оказывается побеждена. Некоторые другие критики, также обращающие внимание на амбивалентность в оценке событий и поступков в «Алкесте», считают, что она не имеет никакой конкретной причины, но внутренне присуща реальности, изображаемой в пьесе; «Алкеста», по их мнению, вскрывает неоднозначность нравственных понятий – тех понятий, которые принято воспринимать как безусловно позитивные. Так понимает «Алкесту» Маклахлен, описывающая амбивалентность χάρις (MacLachlan 1993: 153–154), примерно так же прочитывают пьесу Скодел и Голдфарб, обращающие внимание на амбивалентность близких к χάρις понятий φιλία и ξενία (Scodel 1979; Goldfarb 1992; см. также Schein 1990). Но этим критикам также приходится столкнуться с проблемой финального переворота в действии: последняя χάρις, оказанная Гераклом Адмету, последний жест дружбы – возвращение Алкесты – не несет в себе уже никакой амбивалентности, это событие бесспорно положительное и радостное. Ни один из критиков не дает убедительного ответа на этот вопрос. Маклахлен, следуя сторонникам «иронической» интерпретации, несостоятельность которой я попытался показать выше, видит авторскую иронию в этом последнем акте χάρις – по ее мнению, Адмет не заслуживает финальной радости (MacLachlan 1993: 154). Также «иронически» понимает финал и Голдфарб: с его точки зрения, победа Геракла над смертью – событие невозможное и неправдоподобное, и потому оно не разрешает, а лишь подчеркивает трагическую противоречивость первой, мрачной линии пьесы (Goldfarb 1992: 124–125). Такое суждение, основанное на довольно наивном представлении о правдоподобии (как будто искусство может только копировать реальность, изображая физически возможные события, и не может через события сказочные выражать символические смыслы), никак не может быть верным. Скодел принимает финал всерьез; по ее мнению, счастливый финал свидетельствует о том, что хотя традиционные моральные нормы и вступают в конфликты и противоречия, их позитивное моральное значение все же не подвергается сомнению (Scodel 1979: 56). Этот взгляд делает мир драмы довольно хаотичным: амбивалентность возникает и разрешается, по сути дела, беспричинно, без всякой драматической логики, вследствие только лишь желания автора сначала вскрыть неоднозначность нравственных ценностей, а затем утвердить их положительное значение.
В действительности, амбивалентность χάρις в мрачной части драмы не отражает особенность мира вообще, а возникает по вполне определенной причине. Как я сказал выше, в первых стихах пролога милость противопоставлена другому варианту отношений, также предполагающему компенсацию, – неизбежному возмездию. Они сразу же вступают в конфликт друг с другом[6]. Аполлон делает подарок Адмету, избавляя его от смерти, но этот дар сразу же подчиняется закону возмездия – подобно тому, как Асклепий должен был лишиться жизни за воскрешение мертвых, так и жизнь Адмета должна быть оплачена жизнью другого, близкого ему человека (Ἄδμητον ᾅδην τὸν παραυτίκ' ἐκφυγεῖν, / ἄλλον διαλλάξαντα τοῖς κάτω νεκρόν, 13–14). Действие этого закона описывается словами со значением предопределенности, неизбежности и точной меры. В конце своей речи, начинающей пролог, Аполлон говорит о наступлении дня, когда Алкесте предопределено умереть (τῇδε γάρ σφ' ἐν ἡμέρᾳ / θανεῖν πέπρωται καὶ μεταστῆναι βίου, 20–21), и сообщает о появлении пришедшего за Алкестой бога смерти, который συμμέτρως δ' ἀφίκετο, / φρουρῶν τόδ' ἦμαρ ᾧ θανεῖν αὐτὴν χρεών (26–27). Во второй части пролога, в споре с богом смерти, Аполлон пытается преодолеть эту роковую неизбежность. Он стремится убедить своего собеседника оказать ему милость (οὔκουν δοκεῖ σοι τήνδε μοι δοῦναι χάριν; 60) и не уводить Алкесту в царство Аида, но смерть неумолима, и Аполлон вынужден отступить и в бессилии покинуть дом Адмета и Алкесты. В этой сцене вновь действия бога смерти, который исполняет закон возмездия, обозначены словами, указывающими на непреложность и обязательность:
{Απ.} λαβὼν ἴθ' οὐ γὰρ οἶδ' ἂν εἰ πείσαιμί σε.
{Θα.} κτείνειν γ' ὃν ἂν χρῇ; τοῦτο γὰρ τετάγμεθα (48–49).
Милость Аполлона не может преодолеть закона непременного возмездия, с неизбежностью влекущего за собой смерть героини. Именно такова причина амбивалентности в первой части пьесы. Не сам подарок Аполлона, нарушающий естественный порядок вещей, плох, как считает Грегори. Плохо то, что он оказывается неполным. Если бы Аполлон убедил бога смерти и тот согласился бы не забирать Алкесту, никакой трагической амбивалентности, никаких страданий не было бы. Поскольку же Алкеста должна умереть, χάρις Аполлона оказывается безрадостной, как и χάρις, которую Алкеста оказывает Адмету. Скорбь и страдания делают жизнь, подаренную Адмету Аполлоном, более мучительной, чем смерть, самопожертвование Алкесты, приносящее ее мужу одно только горе, уравнивается с предательством, и дары Аполлона и Алкесты ставят Адмета в сомнительное нравственное положение: теперь враги подобно Ферету могут обвинить его в малодушии и в том, что он – причина смерти жены.
Предопределенность и неминуемость гибели Алкесты не раз подчеркивается еще и прежде самой ее смерти, создавая ту самую утрату разграничения между жизнью и смертью, о которой писала Грегори (Алкеста еще жива, но обречена, день ее гибели наступает, и потому она в то же самое время и мертва). Например, в пароде хор говорит о тщетности любых попыток спасти жизнь Алкесты: все обращения к оракулам или к алтарям богов бесполезны, смерть все равно настанет (112– 121); один лишь Асклепий мог воскрешать умерших, но его сразила молния Зевса (122–131). Тема неизбежной гибели звучит и в других хоровых песнях. В первом стасиме хор признает, что исход ясен, но все же умоляет богов, сохраняя некоторую надежду на их силу (218–219). Во втором стасиме, после смерти Алкесты, никакой надежды уже не остается, и хор высказывает лишь неисполнимое фантастическое пожелание вернуть Алкесту назад из царства Аида (455–459). И, наконец, четвертый стасим венчает мрачную линию пьесы гимном богине неизбежности Ананке. Нет никаких средств, которые могли бы одолеть ее, она сильнее всего (κρεῖσσον οὐδὲν Ἀνάγκας ‘ничего нет сильнее Неизбежности’, 965), Зевс исполняет свои решения только вместе с нею (καὶ γὰρ Ζεὺς ὅ τι νεύσῃ, / σὺν σοὶ τοῦτο τελευτᾷ ‘все, что Зевс решит, / он исполняет вместе с тобою’, 978–979), и вот теперь в ее путах, из которых невозможно вырваться, оказались Алкеста и Адмет (καὶ σ' ἐν ἀφύκτοισι χερῶν εἷλε θεὰ δεσμοῖς ‘и тебя [Адмета] охватила богиня путами, из которых не убежать’, 984). Контраст между милостью, которую оказывают друг другу персонажи «Алкесты», и холодной неумолимостью Ананки – тот контраст, который был обозначен в прологе, в сцене столкновения Аполлона и бога смерти – продолжается и здесь. Первая часть стасима, его первая строфическая пара, посвящена Неизбежности, могучей и вместе с тем безразличной к людям, а во второй паре воспевается добродетель Алкесты, отдавшей свою жизнь за мужа. Создаваемый благодаря такой композиции стасима контраст подчеркивается характеристикой Неизбежности, завершающей первую часть: οὐδέ τις ἀποτόμου λήματός ἐστιν αἰδώς ‘Ее крутой нрав не знает стыда’ (982). αἰδώς ‘стыд’ – это чувство, которое совершенно несвойственно смерти и Неизбежности, но которое присуще героям пьесы, которое движет ими, когда они оказывают друг другу милости и благодеяния (об Адмете – 601; 659; 823; 857)
Четвертый стасим провозглашает вроде бы окончательную победу роковой неизбежности над χάρις. По мнению Грегори, утверждая неумолимость смерти, хор выражает здесь главную идею пьесы (Gregory 1979: 269). Однако на самом деле эта песня призвана оттенить неожиданный поворот, который случится сразу же после нее (Lloyd 1985: 124). Геракл окажется способен победить прежде неодолимую смерть и вырвет из ее рук Алкесту, избавив мир драмы от несчастий, горя и нравственной амбивалентности. Если в первой части пьесы торжествует необходимость над милостью, то в финале побеждает χάρις. Нам необходимо теперь ответить на вопрос, как соотносятся друг с другом две главные линии пьесы, мрачная и светлая, что отличает светлую линию от мрачной и что позволяет силам добра в конце концов одержать победу. Ответив на этот вопрос, мы сможем объяснить целостность произведения и понять его идейный замысел.
Прежде всего, стоит обратить внимание на очевидную симметрию между мрачной и радостной линией «Алкесты». Аналогия между ними зиждется на сходстве основных фактов и функций персонажей. Обе линии ведут к перемене в судьбе Адмета, и эти перемены проистекают от его гостеприимства: Адмет проявляет исключительную почтительность к посетителю его дома, сначала к Аполлону, а затем к Гераклу, в благодарность за что посетители дарят ему жизнь, в первом случае – его собственную, во втором – жизнь его жены. Именно гостеприимство в обоих случаях начинает ряд оказываемых друг другу милостей (χάρις)[7]. Сходство роли гостеприимного хозяина, в которой выступает Адмет по отношению и к Аполлону, и к Гераклу, является главной темой третьего стасима. Сначала хор воспевает здесь всегда присущую Адмету добродетель: ὦ πολύξεινος καὶ ἐλεύθερος ἀνδρὸς ἀεί ποτ' οἶκος ‘Всегда гостеприимный дом! Дом благородного человека!’ (569), а затем вспоминает и сопоставляет два ее примера, в ситуации с Аполлоном: σέ τοι καὶ ὁ Πύθιος εὐλύρας Ἀπόλλων / ἠξίωσε ναίειν ‘И Пифиец благолирный Аполлон удостоил тебя / своим пребыванием’ (570–1) и с Гераклом: καὶ νῦν δόμον ἀμπετάσας / δέξατο ξεῖνον νοτερῷ βλεφάρῳ ‘И сейчас, распахнув двери, / он [Адмет] с мокрыми глазами принял гостя’ (597–8). Вместе с тем эти две линии и контрастируют друг с другом, так как помощь Аполлона ведет к неизбежной смерти Алкесты, что оказывается для Адмета ничуть не лучше его собственной смерти, а помощь Геракла Алкесту спасает.
Первое сюжетное движение погружает мир драмы в ту амбивалентность, о которой было сказано выше, – оно стирает границы между жизнью и смертью и заставляет добродетельного Адмета выглядеть бесстыжим эгоистом и превращает оказываемые друг другу милости в милости горестные, а отнюдь не радостные. Второе движение рождается внутри этого амбивалентного мира, и первый же поступок, с которого оно начинается, – прием Адметом Геракла – несет на себе отпечаток все той же амбивалентности. Поведение Адмета, когда он дает возможность своему гостю развлекаться несмотря на траур в доме, поначалу кажется предательством памяти Алкесты. Именно такова первая оценка хора, который говорит Адмету:
τί δρᾷς; τοιαύτης συμφορᾶς προκειμένης,
Ἄδμητε, τολμᾷς ξενοδοκεῖν; τί μῶρος εἶ;
Что ты делаешь? Когда у нас такое несчастье,
Адмет, ты осмеливаешься (τολμᾷς) принимать гостей?
Ты сошел с ума? (551–2).
Амбивалентность ситуации Еврипид подчеркивает, употребляя здесь глагол τολμᾶν ‘дерзать, осмеливаться’ – глагол, который проходит сквозь всю трагедию и применяется к поступкам всех персонажей[8]. Этот глагол может выражать две противоположные оценки, как позитивную, описывая поступок смелый, предполагающий презрение к опасности, так и негативную, характеризуя поступок как отчаянный и дерзкий, происходящий от презрения к моральным нормам. В данном месте τολμᾶν употреблен в негативном смысле, однако уже в ближайшем, третьем стасиме происходит переоценка его. Здесь хор восхваляет тот же поступок, усматривая в нем проявление особенного благородства: τὸ γὰρ εὐγενὲς ἐκφέρεται πρὸς αἰδῶ ‘Благородное увлекается к почтительности’ (600–601).
Первые действия Геракла также не лишены двойственности. Он сразу предстает перед нами и в своем героическом облике, как бесстрашный победитель самых невообразимых опасных чудовищ, готовый не задумываясь совершить любой подвиг, и в то же время несет в себе те качества, которыми его обычно наделяли в комедиях: он обжора и выпивоха, несносным голосом орущий пьяные песни и поклоняющийся «самой приятной богине – Киприде» (790–791). Именно так ведет себя Геракл в гостях у Адмета в момент, когда дом Адмета погружен в траур – когда он, хотя и не зная о смерти Алкесты, но все же видя скорбь хозяина, «осмелился» войти, как говорит слуга Адмета, употребляя в негативном смысле все тот же повторяющийся глагол τολμᾶν:
ὃς πρῶτα μὲν πενθοῦντα δεσπότην ὁρῶν
ἐσῆλθε κἀτόλμησ' ἀμείψασθαι πύλας.
Во-первых, видя, что господин в трауре,
Он вошел и осмелился пройти в двери (752).
Двойственность поведения Геракла, однако, в одном важном отношении отличается от двойственности в положении и поступках Адмета – т. е. от той двойственности, которая господствует в трагедии вследствие дара Аполлона. Та, прежняя двойственность порождалась изменением ситуации и развитием действия. Она неожиданно возникала в самом драматическом движении пьесы, заставляя переоценить или хотя бы поставить под сомнение понятия, которые прежде казались незыблемыми, – такие, как желанность жизни или добродетельность Адмета. Такую амбивалентность, обусловленную движением действия, можно назвать амбивалентностью динамической. Двойственность Геракла, напротив, не подчинена развитию драмы, но задана изначально, она присутствует не в меняющейся ситуации, а в постоянном характере персонажа, и ее можно назвать статической. Динамическая амбивалентность вообще свойственна трагедиям, поскольку трагедии часто «взрывают» привычные, будто бы ясные и безусловные представления о мире. Что же касается статической амбивалентности, то она, особенно в том виде, в котором мы встречаем ее в «Алкесте», как двойственность высокого и низкого, добродетели и наслаждения, заставляет нас вспомнить о другом жанре, следы которого часто ищут в «Алкесте», – о сатировой драме.
В статьях о «Циклопе» (Никольский 2008; 2009; 2011) я попытался показать, что главные сквозные темы этой пьесы, дружба и свобода, воплощены в образах Одиссея и Силена с сатирами в двух своих вариантах, высоком и низком, которые, при всем их контрасте, гармонично сочетаются друг с другом, будучи противопоставлены вообще лишенному этих качеств Циклопу. Эту, статическую амбивалентность высокого и низкого я сравнил с динамической амбивалентностью, которую те же понятия дружбы и свободы несут в себе в некоторых трагедиях Еврипида (например, в «Медее», «Гераклидах» и «Гекубе»), и предположил, что гармонизированная статическая амбивалентность в сатировой драме могла служить разрешением динамического кризиса, создаваемого в предшествовавших ей трагедиях.
Если эта гипотеза верна, то в «Алкесте» мы сталкиваемся с двойной структурой, сразу и трагической, порождающей амбивалентность в ходе действия, и сатирической, освобождающей мир драмы от кризиса через иную, статическую амбивалентность высокого и низкого, присутствующую в образе Геракла. Такое объяснение структуры может служить ответом на старый и постоянно обсуждаемый вопрос, есть ли в «Алкесте» какиелибо признаки сатировой драмы. Дело в том, что, согласно античному свидетельству – сохранившимся в рукописях «Алкесты» дидаскалиям (данным о ее постановке), эта пьеса шла в представлении четвертой, занимая место, обычно отводившееся сатировой драме, и поэтому, хотя она названа была трагедией, могла быть в чем-то близка и сатировой драме. «Эта драма довольно сатирическая», говорит о ней античный ученый.
Сатирический элемент в «Алкесте» часто связывают с образом Геракла, который имеет здесь явно нетрагические бурлескные черты. Геракл нередко появлялся в таком облике в сатировых драмах[9] (как, например, в «Геракле в Тенаре» Софокла, в «Силее» Еврипида, в «Омфале» Иона), выполняя при этом типичную для этого жанра функцию спасителя от чудовища – так же, как в «Алкесте» он спасает от божества смерти. Таким образом, двойственность высокого и низкого, героического и бурлескного, которая есть в Геракле «Алкесты», вполне можно связать с сатировой драмой. Геракл словно соединяет в себе те две противоположности, которые в «Циклопе» представлены в двух разных образах – Одиссея и Силена[10].
Если в «Циклопе» Еврипид показывает два варианта тем дружбы и свободы, то здесь в образе Геракла мы встречаем две формы, возвышенную и низменную, еще одного качества – мужества. При первом своем появлении на сцене Геракл рассказывает о подвиге, который ему предстоит совершить – он отправляется во Фракию, в страну бистонов, за конямилюдоедами, принадлежащими царю Диомеду. Хор предостерегает Геракла: чтобы завладеть конями, нужно сразиться с их хозяином (486), в этом сражении можно и погибнуть (488), и сами кони опасны (492, 494). Ответы Геракла свидетельствуют о его храбрости: он не может уклониться от предстоящих ему трудов и подвигов (ἀλλ' οὐδ' ἀπειπεῖν μὴν πόνους οἷόν τ' ἐμοί ‘Невозможно мне отказаться от трудов’, 487), это не первое его сражение (οὐ τόνδ' ἀγῶνα πρῶτον ἂν δράμοιμ' ἐγώ ‘Не первый это забег, который я побегу’, 489), судьба его тяжела (καὶ τόνδε τοὐμοῦ δαίμονος πόνον λέγεις / σκληρὸς γὰρ αἰεὶ καὶ πρὸς αἶπος ἔρχεται ‘И этот труд, о котором ты говоришь, подходит моей судьбе: она всегда сурова и идет круто вверх’, 499–500), но никто никогда не увидит его дрожащим от страха (ἀλλ' οὔτις ἔστιν ὃς τὸν Ἀλκμήνης γόνον / τρέσαντα χεῖρα πολεμίαν ποτ' ὄψεται ‘Но нет никого, кто сможет когда-либо увидеть, как рожденный Алкменой содрогнется перед вражеской рукой’, 505–506). В следующей сцене, появляясь пьяным и объясняя свое отношение к жизни и смерти слуге Адмета, Геракл являет нам ту же храбрость, только уже в сниженном ее варианте. Всем смертным, говорит он, предстоит умереть, мы не можем знать, будем ли мы еще живы завтра, потому мы должны мужественно отбросить все мысли о смерти, презреть ее и радоваться каждому дню нашей жизни (εὔφραινε σαυτόν, πῖνε, τὸν καθ' ἡμέραν / βίον λογίζου σόν, τὰ δ' ἄλλα τῆς τύχης ‘Радуйся, пей и считай, что твоя – жизнь сегодня, а все остальное – принадлежит судьбе’, 788–789), предаваться любовным утехам (τίμα δὲ καὶ τὴν πλεῖστον ἡδίστην θεῶν / Κύπριν βροτοῖσιν εὐμενὴς γὰρ ἡ θεός ‘Почитай и самую приятную богиню для смертных – Киприду, ведь эта богиня милостива’, 790–791) и пить (οὔκουν τὴν ἄγαν λύπην ἀφεὶς / πίῃ μεθ' ἡμῶν ‘Оставь свою чрезмерную печаль и пей с нами’, 794–795).
В конце концов именно это мужество и презрение к смерти, которое явилось нам в двух формах, позволит Гераклу совершить новый подвиг – сразиться с богом смерти и вернуть к жизни Алкесту.
Две линии «Алкесты», трагическая с ее динамической амбивалентностью и сатирическая, разрешающая трагический кризис через статическую амбивалентность высокого и низкого, не следуют одна за другой, но сосуществуют на протяжении всей драмы, так что эпизод из одной линии чередуется с эпизодом из другой (см. Гаспаров 1997: 470). После прощального разговора Алкесты с Адметом происходит первая встреча Адмета с Гераклом; затем возвращается трагическое движение в агоне Адмета с Феретом, выявляющем моральную двойственность положения Адмета – и сразу за ним сатирическую линию продолжает пир Геракла; далее следует сцена возвращения Адмета с похорон, в которой горе Адмета достигает своего предела – и ее сменяет сцена возвращения чудесно спасенной Алкесты. Освобождение от трагической амбивалентности откладывается вплоть до последней сцены, и даже ее Еврипид строит так, чтобы двойственность сохранялась до самого конца. Геракл, приведя Алкесту, скрывает от Адмета, что это его жена, и просит, чтобы он оставил ее в своем доме. Адмет, который перед смертью Алкесты обещал ей не принимать к себе в дом женщин, в очередной раз попадает в двойственное положение – он должен или нарушить обещание, или отвергнуть просьбу друга. На этот раз, однако, после победы Геракла над смертью двойственность существует лишь вследствие лукавой игры и дружеского шутливого обмана. Никакого трагического противоречия в этой ситуации уже нет: женщина, которую введет в дом Адмет, и есть его жена Алкеста.
Поскольку структуру «Алкесты» определяет параллелизм и контраст двух драматических движений, то именно здесь, в отношениях между ними, и следует искать разгадку главной темы произведения. Противоположность этих двух линий создается, конечно, не тем, что сначала Адмету напрасно дарят жизнь, а затем забирают ее назад, восстанавливая естественный ход вещей, как предположила Дж. Грегори. Причина трагического развития первой, мрачной линии – в том, что Аполлон не смог подарить Адмету жизнь без всякой платы, он смог лишь выкупить его жизнь ценою жизни Алкесты. Переход к счастью происходит оттого, что всякий обмен прекращен – Геракл не выкупает жизнь, но просто захватывает ее, одерживая над смертью и Необходимостью не частичную, а полную победу. Различие между двумя линиями, как мы видим, кроется прежде всего в фигурах спасителей. Только Геракл смог избавить Адмета от горя, как утверждает сам Адмет в конце трагедии: σὺ γὰρ δὴ τἄμ' ἀνώρθωσας μόνος ‘Только ты один исправил мои дела’ (1138). Контраст между Гераклом и Аполлоном является структурным и смысловым центром драмы, и его интерпретация должна дать ключ к истолкованию всей драмы в целом.
Что же отличает Геракла, что дает ему возможность победить смерть? Геракла характеризует одна очень важная черта. Впервые речь о ней заходит уже в прологе. В беседе с богом смерти Аполлон предсказывает приход героя, который победит смерть силой:
ὃς δὴ ξενωθεὶς τοῖσδ' ἐν Ἀδμήτου δόμοις
βίᾳ γυναῖκα τήνδε σ' ἐξαιρήσεται
Он, удостоившись гостеприимства в этом доме Адмета,
Силой отберет у тебя эту женщину (68–69).
В то же время сам Аполлон способен действовать только мирно, с помощью убеждения. Эта его особенность все время подчеркивается. Когда бог смерти, пришедший за Алкестой, видит Аполлона, он выказывает недовольство его луком, опасаясь, что тот может применить силу; однако Аполлон успокаивает своего противника, заверяя его, что будет прибегать только к словесным аргументам о том, на чьей стороне правда: δίκην τοι καὶ λόγους κεδνοὺς ἔχω ‘У меня только правда и разумные речи’ (38). Аполлон напоминает, что и для самого Адмета он добился жизни отнюдь не силой: ἀλλ' οὐδ' ἐκεῖνον πρὸς βίαν σ' ἀφειλόμην ‘Но и его не силой я отобрал у тебя’ (44). Несколькими стихами ниже он высказывает сомнение, сможет ли он убедить бога смерти, и признает, что если не сможет, то придется отказаться от попыток спасти Алкесту: λαβὼν ἴθ' οὐ γὰρ οἶδ' ἂν εἰ πείσαιμί σε ‘Бери ее. Не думаю, что я смог бы тебя убедить’ (48). Геракл, напротив, использует физическую силу своих рук; его поступки обозначаются многократно повторяемыми словами «битва» (μάχη, 486, 502), «сражение» (ἀγών, 489, 504) и «рука» (χείρ). Когда он принимает решение спасти Алкесту, он обращается с призывом к сердцу и руке: ὦ πολλὰ τλᾶσα καρδία καὶ χεὶρ ἐμή ‘На многое отважившееся сердце и рука моя!’ (837). Руками он схватит бога смерти и не выпустит его из своих объятий, пока тот не отдаст ему Алкесту:
κἄνπερ λοχαίας αὐτὸν ἐξ ἕδρας συθεὶς
μάρψω, κύκλον δὲ περιβάλω χεροῖν ἐμαῖν,
οὐκ ἔστιν ὅστις αὐτὸν ἐξαιρήσεται
μογοῦντα πλευρά, πρὶν γυναῖκ' ἐμοὶ μεθῇ
И если, бросившись из засады, я его
Схвачу, сомкнув кольцо моих рук,
Никто не сможет вырвать его,
С болью в его боках, пока он не отдаст мне женщину (846–849).
Эта роль Геракла и это отличие его от Аполлона станет еще яснее, если учесть религиозные и политические ассоциации этих персонажей, которые должны быть очевидны для зрителей трагедии. Сближение и сопоставление их в одинаковой роли спасителей оказывается возможным, поскольку и Геракл, и Аполлон могли выполнять одну и ту же функцию в государстве – ἀλεξίκακοι ‘защитников от несчастий’. В то же время они должны были олицетворять разные способы избавления от бед, Аполлон – мирный, интеллектуальный и политический[11], Геракл – связанный с применением физической и военной силы.
Аполлон ассоциировался с законом и благим устройством государства. Эта его роль прекрасно видна, например, в аллегорической сцене на аттической краснофигурной ойнохое из собрания музея изобразительных искусств Будапешта (Szépművészeti Múzeum T.754) 12 . В центре группы из трех фигур изображен Аполлон, а по сторонам от него – две персонификации, Эвномия («Хороший закон», «Благоустроение») и Эвклея («Добрая слава»). Эвномия, в свою очередь, всегда была тесно связана с миром13. Поэма современника Еврипида Тимофея Милетского «Персы» заканчивается обращением к Аполлону с мольбой послать мир и благозаконие:
ἀλλ' ἑκαταβόλε Πύθι' ἁγνὰν
ἔλθοις τάνδε πόλιν σὺν ὄλβωι,
πέμπων ἀπήμονι λαῶι
τῶιδ' εἰρήναν θάλλουσαν εὐνομίαι
Дальновержец Пифиец, в священный
Город этот приди с богатством,
Неся безгорестному народу
Этому мир, цветущий благодаря благозаконию (fr. 15.240 PMG).
Аполлон предстает мирным божеством в эпиникиях Пиндара (см. Rutherford 2001: 173). Первая Пифийская ода начинается восхвалением лиры Аполлона; звуки этой лиры гасят даже «остроконечную молнию вечного огня» (καὶ τὸν αἰχματὰν κεραυνὸν σβεννύεις αἰενάου πυρός, Пиф. 1.5) и заставляют Ареса отложить в сторону копье (Пиф. 1.10–11). В пятой Пифийской оде перечисляются дары, которые Аполлон принес людям – медицина, музыка и искусство прорицания; благодаря этим дарам Аполлон вносит в души мир и согласие:
ὃ καὶ βαρειᾶν νόσων
ἀκέσματ' ἄνδρεσσι καὶ γυναιξὶ νέμει,
πόρεν τε κίθαριν, δίδωσί τε Μοῖσαν οἷς ἂν ἐθέλῃ,
ἀπόλεμον ἀγαγών
ἐς πραπίδας εὐνομίαν,
μυχόν τ' ἀμφέπει
μαντήϊον
Он мужам и женам
Раздает лекарства от тяжелых болезней,
Он подарил кифару, и он дает
Музу кому пожелает,
Неся в душу
Безвоенное благозаконие,
И он блюдет пещеру
Пророческую (Пиф. 5.63–69)
В «Алкесте» не раз вспоминают об этой описанной Пиндаром аполлонической интеллектуальной культуре, и всякий раз в связи с сожалениями о невозможности преодолеть Неизбежность и победить смерть. К каким оракулам ни обращайся, Алкесту не спасти, говорит хор в пароде (112–119). Единственный был спаситель от смерти, сын Аполлона врач Асклепий, но его поразил своей молнией Зевс (122 сл.). В четвертом стасиме хор заявляет о бессилии перед неизбежностью смерти самых разных искусств и знаний, и их набор очень похож на те дары, что были названы в процитированной выше пятой Пифийской оде Пиндара. Это музыка, философия, медицина и глас Орфея – или произносящий оракулы, или же излагающий мистическое учение, которое обещало жизнь после смерти (962–971).
Все эти высказывания создают контраст ограниченности Аполлона, т. е. мирных средств, со способностью Геракла, т. е. военной силы. Геракл, в свою очередь, предстает воином в мифах (он взял Трою, вел войну против Авгия и элейцев, без его помощи даже олимпийские боги не могли победить гигантов) и часто ассоциируется с войной и военной силой в религиозных культах. Различные примеры, доказывающие связь культа Геракла с военным делом, войском и военными маневрами, собрала К. Сэлоуэй (Salowey 2014: 376). Во-первых, мы знаем немало случаев из классического и эллинистического времени, когда войско разбивает лагерь в святилище Геракла. Во-вторых, святилища Геракла имели важное значение для интерпретации знамений перед битвами. О военном характере культа Геракла свидетельствуют некоторые надписи – например, надписи с острова Фасос, где его культ играл особенно важную роль. Так, в надписи 5 в. до н. э., устанавливающей порядок похорон и посмертных почестей погибшим воинам, предписывается вручать полное вооружение их детям мужского пола по достижении совершеннолетия, и происходить это должно на состязании на празднике Геракла (Pouilloux 1954: 371, №. 141, стк. 16–20).
Наконец, еще одно доказательство связи Геракла с военной силой, причем в Афинах и с афинским войском – это скульптурная группа, поставленная афинским скульптором Мироном в святилище Геры на Самосе и состоявшая из трех статуй «огромных размеров» (τρία Μύρωνος ἔργα κολοσσικά) – Зевса, Афины и Геракла. От статуй сохранились основания и позднейшие копии, а подробнее мы знаем о ней из Страбона (14.1.14; 637b). Очевидно, эти три статуи образовывали прекрасно известную иконографическую группу, изображавшую апофеоз Геракла – Афина ведет героя на Олимп, где его встречает и приветствует Зевс. Вторжение Геракла, представленного в столь торжественный для него момент, на территорию его главного врага, богини Геры, было убедительно объяснено еще в середине 20 в. Бушором (Buschor 1953, см. также Hölscher 1998: 172). Он предположил, что группа была поставлена в честь победы Афин над Самосом, богиней-покровительницей которого являлась Гера[14], во время конфликта между ними в 440–439 гг.; скорее всего, посвятили эту группу афинские клерухи. Афина, ведущая Геракла на Олимп, символизирует в таком случае город Афины, Гера, в святилище которой воздвигнута группа, – Самос, а Геракл, вступающий в сонм олимпийский богов, служит символом победоносного афинского войска.
Контраст Аполлона и Геракла, значения, которыми наделяются эти персонажи и в самой пьесе, и в жизни города, и исключительная роль, которую играет Геракл в развязке «Алкесты» – все это заставляет нас увидеть в трагедии воспевание военного начала. Когда интеллектуальное и мирное начало бессильно и вынуждено отступить, одолеть несчастье может только физическая военная сила.
Очевидно, что такой смысл далеко не всегда может быть актуален. Например, не исключено, что в «Безумном Геракле» в том же образе Геракла подчеркнута, напротив, слабость военного начала, легко становящегося необузданным и неуправляемым. Поэтому можно предположить, что постановка «Алкесты» была приурочена к конкретному событию, к какойто ситуации, в которой требовалось восхвалить военную силу.
В статье, опубликованной в 2012 году, я предположил, что именно события Самосской войны, случившейся за год до постановки «Алкесты», мог иметь в виду Еврипид, когда изображал победу Геракла над смертью: «Вмешательство Геракла – который прибег к силе, преступил законы, благодаря чему только и стало возможно спасение – должно в таком случае означать вмешательство афинского войска» (Никольский 2012a). Однако высказывая эту гипотезу, я недостаточно учел два обстоятельства. Во-первых, в «Алкесте» важную роль играет не только мотив помощи силой, но и мотив исключительного гостеприимства, для которого никакого соответствия в Самосской войне мы не находим. Во-вторых, в «Алкесте» есть один пассаж, который заставляет нас обратиться в нашем поиске событий, к которым могла быть приурочена эта пьеса, совсем к другой области Греции.
Третий стасим, главной темой которого является гостеприимство Адмета, начинается рассказом о пребывании у Адмета Аполлона и о тех благах, которыми Аполлон одарил своего хозяина. Целая строфа здесь воспевает Фессалию, страну богатую скотом и обширную:
τοιγὰρ πολυμηλοτάταν
ἑστίαν οἰκεῖς παρὰ καλλίναον
Βοιβίαν λίμναν. ἀρότοις δὲ γυᾶν
καὶ πεδίων δαπέδοις ὅρον ἀμφὶ μὲν
ἀελίου κνεφαίαν
ἱππόστασιν εἰς τὸ πέραν Μολοσ-
σῶν <ὀρέων> τίθεται,
πόντιον δ' Αἰγαίων' ἐπ' ἀκτὰν
ἀλίμενον Πηλίου κρατύνει
И вот он живет в доме,
Богатом скотом, у прекраснотекущего
Бебейского озера. Пашням своих земель
И почве равнин он ставит предел
У сумрачной солнца
Конюшни по ту сторону
Молосских гор,
И правит до морского эгейского лишенного гаваней
Берега Пелиона (588–596).
На подобные восхваления различных областей Греции в разных трагедиях Еврипида обратили внимание П. Истерлинг (Easterling 1994) и вслед за ней О. Тэплин (Taplin 1999: 44–45). По их мнению, эти пассажи были предназначены для неафинской аудитории, а значит, трагедии были рассчитаны на повторные постановки в других местах. «Алкеста», как считает Тэплин, ставилась затем в Фессалии. С этой гипотезой едва ли можно согласиться. В «Троянках», например, воспеваются сразу и Фессалия, и Сицилия, и мы должны вместе с Истерлинг поверить в то, что Еврипид заранее продумывал будущую судьбу своей трагедии, которой предстояло быть поставленной сразу в двух областях. Разумнее предположить, что хвалебные пассажи рассчитаны на послов союзных государств, которые приезжали в Афины на Великии Дионисии и должны были присутствовать на спектакле. В таком случае и вся трагедия в целом, действие которой происходит в этих странах, могла каким-то образом отражать отношения между ними и Афинами.
Если главные темы «Алкесты» – это гостеприимство и военная помощь, то ближайшей параллелью к содержанию трагедии оказывается формула, распространенная в договорах о союзе и не раз встречающаяся в текстах 5 в.: наряду с обычной формулой «дружба и военный союз» (φιλία καὶ συμμαχία) мы встречаем и другой ее вариант – договор с правителем-иностранцем о «гостеприимстве и военном союзе» (ξενία καὶ συμμαχία). Например, Геродот в первой книге (1.69) рассказывает о договорах ξεινίης πέρι καὶ συμμαχίης, заключенных между Алиаттом и милетцами (ἥ τε διαλλαγή σφι ἐγένετο ἐπ' ᾧ τε ξείνους ἀλλήλοισι εἶναι καὶ συμμάχους, 1.22) и между Крезом и спартанцами(ἐποιήσαντο ὅρκια ξεινίης πέρι καὶ συμμαχίης)15. В отличие от обычных договоров о φιλία между государствами, договор о ξενία предполагает частные отношения, поэтому с одной из сторон в нем должен участвовать частный человек, а не государство – очевидно, это должен быть единовластный правитель. Такого рода личные союзы возможны были между Афинами и представителями проафински настроенных фессалийских аристократических родов, стоявших во главе Фессалии или отдельных ее областей.
С конца 6 в. Фессалия состояла из четырех частей (τετράδες, или τετραρχίαι), которые управлялись несколькими родами; время от времени вся страна объединялась под властью одного правителя, «тага», но эти периоды чередовались с периодами отсутствия всякой централизованной власти – ἀταγία(Dittenberger 1915–1924: No. 55 = Rhodes 2007: 238, No. 388, см. также Ксенофонт «Греческая история» 6.1.8–9). В конце 60-х гг. тагом был Эхекратид, и при его правлении Афины заключили с Фессалией союз. Об этом рассказывает Фукидид, сообщая, что афиняне расторгли свой прежний союз со Спартой и обрели себе новых союзников – аргоссцев и фессалийцев: ἀφέντες τὴν γενομένην ἐπὶ τῷ Μήδῳ ξυμμαχίαν πρὸς αὐτοὺς Ἀργείοις τοῖς ἐκείνων πολεμίοις ξύμμαχοι ἐγένοντο, καὶ πρὸς Θεσσαλοὺς ἅμα ἀμφοτέροις οἱ αὐτοὶ ὅρκοι καὶ ξυμμαχία κατέστη ‘Расторгнув военный союз, заключенный с ними против Мидийца, они стали союзниками их врагам аргоссцам’ (1.102). Этот договор был еще в силе в 457 г., когда в битве афинян против спартанцев при Танагре в Беотии фессалийская конница помогала афинянам «в силу союза», но в ходе битвы перешла на сторону спартанцев: ἦλθον δὲ καὶ Θεσσαλῶν ἱππῆς τοῖς Ἀθηναίοις κατὰ τὸ ξυμμαχικόν, οἳ μετέστησαν ἐν τῷ ἔργῳ παρὰ τοὺς Λακεδαιμονίου ‘На помощь афинянам пришли и всадники из фессалийцев, которые во время сражения перешли на сторону спартанцев’ (Фукидид 1.107). После этого, ранее 454 г., из Фессалии был изгнан сын Эхекратида Орест, и в 454 г. афинские войска безуспешно пытались вернуть его к власти (Фукидид 1.111).
Помощь Афин Оресту могла предполагать существование как раз личного союза между ними.
Мы не знаем точно, была ли централизованная власть в Фессалии до начала Пелопонесской войны, или же с концом правления Эхекратида и после изгнания Ореста в стране наступила ἀταγία[16]. Даже если единый правитель и был, города обладали достаточно большой независимостью. Когда в 431 г., в начале Пелопонесской войны, фессалийцы вновь помогали афинянам «в силу давних союзнических отношений», каждый город, пославший войско, имел собственного военачальника (Фукидид 2.22).
Потому можно предположить, что «Алкеста» приурочена к договору с правителем какой-либо части Фессалии, а не к возобновлению союза с фессалийским тагом. Хотя строфа из третьего стасима, восхваляющая Фессалию, вроде бы славит ее как единую страну, от земли молоссов на западе до Эгейского моря на востоке, однако в финале пьесы подчеркнута связь ее действия с одной только из частей этой страны. В своей последней реплике Адмет объявляет о решении устроить праздник в честь счастливых событий, и этот праздник будет отмечаться во всей «тетрархии»:
ἀστοῖς δὲ πάσῃ τ' ἐννέπω τετραρχίᾳ,
χοροὺς ἐπ' ἐσθλαῖς συμφοραῖσιν ἱστάναι
βωμούς τε κνισᾶν βουθύτοισι προστροπαῖς
Я объявляю гражданам и всей тетрархии:
Устроить танцы в честь хороших событий
И воздымить алтари, принося богам жертвы (1154–1156).
Термин «тетрархия» обозначает одну из четырех частей, на которые делилась Фессалия во время Еврипида[17]. Мы можем предположить, таким образом, что «Алкеста» связана с заключением военного союза и договора о гостеприимстве Афин с правителем только одной из фессалийских областей – той, где происходит действие трагедии, то есть города Фер и окружающих его земель18.
Предложенное объяснение содержания «Алкесты» может быть, конечно, только гипотезой, однако мне кажется несомненным, что эту трагедию – как, возможно, и другие афинские драмы 5 века – следует толковать в символическом смысле и в связи с конкретными событиями современной ей политической жизни. Критики нередко ищут в трагедиях отсылок к политическим событиям, и этот путь исследования в общем представляется мне правильным; нужно только заметить, что трагедия содержит не просто отдельные частные политические аллюзии, но всей своей структурой в целом выражает смысл, актуальный для жизни государства. Политическое событие задает тему, для которой автор находит символическое выражение в мифологическом сюжете.
Литература
- Bicknell, C. D. 1921: Some Vases in the Lewis Collection. JHS 41, 222– 231.
- Smith, W. D. 1960: The Ironic Structure in Alcestis. Phoenix 14, 127–145.
- Burnett, A. P. 1965: The Virtues of Admetus. CP 60, 240–255.
- Burnett, A. P. 1971: Catastrophe Survived: Euripides' Plays of Mixed Reversal. Oxford: Clarendon Press.
- Buschor, E. 1953: Gruppe des Myron. Athenische Mitteilungen 68, 51–62.
- Buxton, R. G. A. 2003: Euripides’ Alkestis: Five Aspects of an Interpretation. In: J. Mossman (ed.). Oxford Readings in Euripides. Oxford: Oxford University Press, 170–186.
- Conacher, D. J. 1967: Euripidean Drama: Myth, Theme and Structure. Toronto, London: University of Toronto Press.
- Conacher, D. J. (ed.) 1988: Euripides. Alcestis. Warminster: Aris & Phillips.
- Dale, A. M. (ed.) 1954: Euripides Alcestis. Oxford: Clarendon Press,.
- Dittenberger, W. 1915–1924: Sylloge inscriptionum graecarum. 3 ed. Vol. 1–4. Leipzig: Hirzel.
- Easterling, P. E. 1994: Euripides outside Athens: a Speculative note. ICS 19, 73–80.
- Ebeling, H. L. 1898: The Admetus of Euripides Viewed in Relation to the Admetus of Tradition. TAPA 29, 65–85.
- Edmunds, L. 1996: Theatrical Space and Historical Place in Sophocles' Oedipus at Colonus. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.
- von Fritz, K. 1962: Euripides Alkestis und ihre modernen Nachahmer und Kritiker. In: von Fritz K. Antike und moderne Tragödie, neun Abhandlungen. Berlin: De Gruyter, 27–70.
- Galinsky, G. K. 1972: The Herakles Theme: The Adaptations of the Hero in Literature from Homer to the Twentieth Century. Oxford: Blackwell.
- Gasparov, M. L. 1997: [Plot composing in Ancient Greek tragedy]. In: Gasparov, M. L. Izbrannye trudy [Selected papers]. Vol. I. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul’tur, 449–482.
- Гаспаров, М. Л. 1997: Сюжетосложение древнегреческой трагедии. В сб.: Гаспаров М. Л. Избранные труды. Т. 1. М.: Языки славянских культур , 449–482.
- Giovannini, A. 1971: Untersuchungen über die Natur und die Anfänge der bundesstaatlichen Sympolitie in Griechenland. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
- Goldfarb, B. E. 1992: The Conflict of Obligations in Euripides' Alcestis. GRBS 33, 109–128.
- Gregory, J. 1979: Euripides’ Alcestis. Hermes 107, 259–270.
- Herman, G. 1987: Ritualised Friendship and the Greek City. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hölscher, T. 1998: Images and Political Identity: The Case of Athens. In: D. Boedeker, K. Raaflaub (eds.). Democracy, Empire and the Arts in Fifth-Century Athens. Cambridge Mass., London: Harvard University Press, 153–184.
- Knox, B. M. W. 1972: New Perspectives in Euripidean Criticism. Review on Burnett 1971. CP 67, 270–279.
- Knox, B. M. W. 1979: Word and Action. Baltimore;London: John Hopkins.
- Launey, M. 1937 : Le verger d'Héraklès à Thasos. Bulletin de correspondence hellénique 61(1), 380–409.
- Lloyd, M. 1985: Euripides’ Alcestis. Greece and Rome 32, 119–131.
- Lloyd, M. 1992: The Agon in Euripides. Oxford: Clarendon Press.
- Lloyd-Jones, H. 1990: Problems of Early Greek Tragedy: Pratinas and Phrynichus. In: Lloyd-Jones H. Greek Epic, Lyric and Tragedy. Oxford: Oxford University Press, 225–237.
- Loew, O. 1908: ΧΑΡΙΣ. Diss. Marburg.
- Lush, B. 2008a: Recognition and the Limits to Knowledge in Euripides. Diss. University of Wisconsin-Madison.
- Nikolsky, B. 2008b: [Themes of freedom and slavery in Euripides’ Cyclops and Athenian democracy]. RSUH/RGGU Bulletin 12, 9–23.
- Никольский, Б. М. 2008b: Темы свободы и рабства в «Циклопе» Еврипида и афинская демократия. Вестник РГГУ 12, 9–23.
- Nikolsky, B. 2009: La philia dionysiaque dans le Cyclope d’Euripide. Gaia 12, 123–132.
- Nikolsky, B. 2011: Slavery and Freedom in Euripides’ Cyclops. In: Alston, R., Hall, E., Proffitt, L. (eds.). Reading Ancient Slavery. London, New York: Bristol Classical Press, 121–132.
- Nikolsky, B. 2012a: [Structure and theme of Euripides’ Alcestis]. History. Online scientific and educational journal. 8 (16).
- Никольский Б. М. 2012a: Структура и тема «Алкесты» Еврипида. «История». Электронныйнаучно-образовательныйжурнал 8 (16).
- Nikolsky, B. 2012b: [The duble aidos in Euripides’ Hippolytus]. Indoevropeiskoe yazykoznanie i klassicheskaya filologiya [IndoEuropean linguistics and classical philology] 16, 620–649.
- Никольский Б. М. 2012b: Двойной aidos в «Ипполите» Еврипида. Индоевропейское языкознание и классическая филология 16, 620–649.
- Nikolsky, B. 2015: Misery and Forgiveness in Euripides: Meaning and Structure in the Hippolytus (transl. from Russian by Mikhail Nikolsky). Swansea: Classical Press of Wales.
- Nikolsky, B. 2016: [«Admetus’ house» in Euripides’ «Alcestis»]. SHAGI/STEPS 2 (2–3), 165–176.
- Никольский, Б. М. 2016: «Адметов дом» в «Алкесте» Еврипида // ШАГИ/STEPS 2, № 2–3, 165–176.
- Nilsson, M. P. 1935: Early Orphism and Kindred Religious Movements. Harvard Theological Review 28, 180–230.
- Parker, L. P. E. (ed.) 2007: Euripides. Alcestis. Oxford: Oxford University Press.
- Parker, R. 1998: Pleasing Thighs: Reciprocity in Greek Religion. In: Gill, C., Postlethwaite, N., Seaford R. (eds.). Reciprocity in Ancient Greece. Oxford: Oxford University Press, 105–25.
- Pfeiffer, R. 1952: The Image of the Delian Apollo and Apolline Ethics. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 15, 20–32.
- Pouilloux, J. 1954: Recherches sur l'Histoire et les cultes de Thasos. Vol. 1. De la fondation de la cité à 196 avant J.-C. [Etudes Thasiennes, III]. Paris: De Boccard.
- Rhodes, P. J. 2007: The Greek City-States: A Sourcebook. 2 ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rusten, J. S. (ed.) 1989: Thucydides. The Peloponnesian War. Book 2. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rutherford, I. 2001: Pindar's Paeans: A Reading of the Fragments with a Survey of the Genre. Oxford: Oxford University Press.
- Salowey, C. 2014: Sophokles’ Philoktetes: The Cult of Herakles Dramatized. In: Daly, K. F., Ricardi, L. A. (eds.). Cities Called Athens. Studies Honoring John McK. Camp II. Lewisburg: Bucknell University Press, 369–388.
- Schein, S. 1990: Philia in Euripides' Alcestis. Metis 3, 179–206.
- Scodel, R. 1979: Admetou logos and the Alcestis. HSCP 83, 51–62.
- Shapiro, A. 1993: Personifications in Greek Art: The Representation of Abstract Concepts, 600–400 B. C. Zürich: Akanthus.
- Shapiro, A. 19936: Athena, Apollo, and the Religious Propaganda of the Athenian Empire. In: Hellström, P., Alroth, B. (eds.). Religion and Power in the Ancient World. Proceedings of the Uppsala Symposium 1993. Uppsala, 101–113.
- Slater, N. W. 2013: Euripides: Alcestis. Companions to Greek and Roman Tragedy. London, New York: Bloomsbury Academic.
- Taplin, O. 1999: Spreading the word through performance. In: Goldhill, S., Osborne, R. (eds.) Performance Culture and Athenian Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 33–57.
- Verrall, A. W. 1895: Euripides the Rationalist: a Study in the History of Art and Religion. Cambridge: Cambridge University Press.
- von Wilamowitz, U. 1906: Griechische Tragoedien. Bd. 1–4. Band 3. Berlin: Weidmann.
- Wilson, J. R.: 1968: Introduction. In: Wilson, J. R. (ed.). Twentieth Century Interpretations of Euripides’ Alcestis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice, 1–13.
[1] Ср., например, замечание Паркера: «От беззаботных слов Бернетт “Ферет созрел для смерти” стынет кровь», Parker 2007: 179, комм. к ст. 614–738. Эту идею Бернетт, которую она повторила и в своей книге Burnett 1971: 30, убедительно раскритиковал Нокс, см. Knox 1972: 274. Впрочем, некоторые критики попадают под чары структурно-символической интерпретации Бернетт, как, напр., Slater 2013: 33.
[2] См. тонкий и убедительный анализ агона «Алкесты» в книге Lloyd 1992: 37–41. Ллойд приходит к выводу: «Ферет заслуживает всех тех обвинений, которые обращает против него Адмет, но в то же время эти обвинения в устах Адмета совершенно неуместны. Ферет в завершающей части своей речи справедливо указывает Адмету, что Адмет находится не в том положении, чтобы осуждать других за их страх смерти (694–705)» (Lloyd 1992: 40). Главная функция агона – показать зрителям (а, возможно, и самому Адмету), что нравственное положение Адмета шатко и против него можно обратить обвинения. Сам Адмет поймет это в одной из следующих сцен, когда вернется с похорон Алкесты в пустой дом (954–959). Но из этого отнюдь не следует, что мы действительно должны счесть его виновным – мы должны сочувствовать ему и опасаться вместе с ним, что его репутация может пострадать.
[3] Ср. точное замечание Нокса: «Публика должна чувствовать неуместность обращенных к жене просьб Адмета не умирать… Последний, кто мог бы умолять Алкесту не покидать его, – это ее муж Адмет» (Knox 1979: 334).
[4] О. Лев (Loew 1908) описал значение χάρις как factum laetificans и res laetificans. См. также Parker 1998: 108–109, MacLachlan 1993: 4–5.
[5] Эсхил «Прометей» 545, «Агамемнон» 1545, «Хоэфоры» 42, Еврипид «Ифигения в Тавриде» 566, «Финикиянки» 1757.
[6] О конфликте между χάρις и возмездием писала Бернетт (Burnett 1965); однако поскольку Бернетт не видит трагизма и амбивалентности первой, мрачной части пьесы, для нее «Алкеста» изображает бесспорную и однозначную победу χάρις (Burnett 1965: 253–254).
[7] Понятия χάρις и ξενία связывались между собой неоднократно. Например, Фукидид (2.13.1), описывая вторжение спартанцев в Аттику, сообщает о том, что отношения гостеприимства, связывавшие Перикла и спартанского царя и полководца Архидама, заставляли Перикла предполагать, что тот окажет ему милость и не станет разорять его имения: Περικλῆς ὁ Ξανθίππου στρατηγὸς ὢν Ἀθηναίων δέκατος αὐτός, ὡς ἔγνω τὴν ἐσβολὴν ἐσομένην, ὑποτοπήσας, ὅτι Ἀρχίδαμος αὐτῷ ξένος ὢν ἐτύγχανε, μὴ πολλάκις … βουλόμενος χαρίζεσθαι τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ παραλίπῃ καὶ μὴ δῃώσῃ ‘Перикл, сын Ксантиппа, один из десяти стратегов, когда узнал, что будет вторжение, подозревал, что Архидам, связанный с ним узами гостеприимства, пожалуй, не тронет и не опустошит его полей, желая оказать ему милость’. В «Эдипе в Колоне» Софокла хор говорит Тесею о том, как вознаградит его Эдип за оказанный ему прием, словами: Ὁ γὰρ ξένος σε καὶ πόλισμα καὶ φίλους ἐπαξιοῖ / δικαίαν χάριν παρασχεῖν παθών ‘Гость считает правильным оказать ответную милость и тебе, и городу, и друзьям за то, что вы для него сделали’ (1496–1497); см. Edmunds 1996: 133–134.
[8] τολμή, τλῆναι, 461–3, 624, 741 об Алкесте; 551f. об Адмете, оказавшем прием Гераклу; 837 о подвиге Геракла. См. Wilson 1968: 3–4.
[9] О Геракле в сатировых драмах см. Galinsky 1972: 81 сл.
[10] Не исключено, кстати, что именно сатирическая двойственность Геракла, одновременно преданного и героической доблести, и низменным удовольствиям, сделала его подходящим персонажем для знаменитой моралистической аллегории Продика о выборе между добродетелью и пороком.
[11] В действительности, Аполлон был двойственным божеством и мог ассоциироваться как с политическим порядком и музыкой, так и с разрушением и войной. Эти две стороны аллегорически передавала его статуя на Делосе, державшая богинь прелести, милости и радости Харит в правой руке и лук в левой, см. Pfeiffer 1952 (о Call. fr. 114, где описывается эта статуя), Rutherford 2001: 121 и прим. 13. В «Алкесте» Аполлон также появляется с луком (ср. его диалог с богом смерти: {Θα.} τί δῆτα τόξων ἔργον, εἰ δίκην ἔχεις; / {Απ.} σύνηθες αἰεὶ ταῦτα βαστάζειν ἐμοί ‘(Бог смерти) Зачем тебе нужен лук, если твое оружие – справедливость? (Аполлон) Привычно мне всегда носить его’, 39–40), но применять его он не собирается; здесь Аполлон являет только одну свою, мирную сторону, создавая контраст воинственному Гераклу.
[12] Об этом изображении см. Shapiro 1996: 112, а также Shapiro 1993: 74f.
[13] Например, у Гесиода говорится о трех Горах – Эвномии, Дике («справедливость») и Эйрене («мир»): Εὐνομίην τε Δίκην τε καὶ Εἰρήνην τεθαλυῖαν «Теогония» 902; о тех же трех сестрах идет речь у Пиндара, Олимп. 13.6–7; в Пиф. 5.66–67 εὐνομία названа «безвоенной» (ἀπόλεμος); в эпиникии Вакхилида сказано о «здравомыслящей Эвномии, которая властвует праздниками и хранит в мире города благочестивых людей» (Εὐνομία τε σαόφˈρων, /ἃ θαλίας τε λέλογχεν /ἄστεά τ' εὐσεβέων ἀνδρῶν ἐν εἰ[ρ]ήνᾱι φυλάσσει, 13.186–189). Ср. также Платон «Законы» 713e.
[14] Например, афинская надпись 405 г., наделявшая самосцев почетными привилегиями, сопровождалась изображением Геры и Афины, пожимающих друг другу правую руку.
[15] О других примерах отношений ξενία см. Herman 1987: 135 и прим. 50.
[16] В годы Пелопонесской войны тагом Фессалии был Даох I. Мы не знаем точно, пришел ли он к власти до начала войны. Эпиграмма на статуе Даоха в Дельфах рассказывает о его двадцатисемилетнем правлении, во время которого Фессалия жила в мире и довольстве; поскольку мира в стране уже не было в 404 г., к этому моменту правление Даоха должно было закончится. Отсутствие его имени в рассказе Фукидида о помощи, которую фессалийцы оказали Афинам в 431 г. (2.22), может быть аргументом за самую позднюю датировку его правления (с конца 431 до 404 г.); то обстоятельство, что каждый город посылает своего собственного военачальника, может свидетельствовать об отсутствии единства в Фессалии (см. Giovannini 1971: 65; Rusten 1989: 130, комм. к 22.3).
[17] В «Алкесте» это слово встречается впервые в греческом языке, однако в таком значении оно употреблено у Демосфена (9.26), а историк Гелланик из Митилены, живший в 5 веке, знает о делении Фессалии на четыре части, которые он называет «тетрадами» (τετράδες) (FGrH 4 F 52 = Гарпократион «Словарь десяти ораторов», τετραρχία). Естественнее всего предположить, что это значение – одной из четырех частей Фессалии – оно имеет и в «Алкесте», см. Dale 1954: 130, комм. к 1154. В схолиях к ст. 1154 предложено иное толкование этого слова: схолиаст предполагает, что Еврипид имеет в виду четыре города, которыми в «Илиаде» правит сын Адмета Эвмел; слово τετραρχία, таким образом, должно обозначать не одно из четырех царств, а власть над четырьмя городами. Однако интерпретация сходиаста, по-видимому, является только лишь попыткой согласовать пассаж из «Алкесты» с гомеровской географией.
[18] О. Тэплин обратил внимание еще на одну специфическую отсылку к реалиям города Фер. Когда слуга рассказывает Гераклу о месте, где похоронена Алкеста, он говорит: ὀρθὴν παρ' οἶμον, ἣ 'πὶ Λάρισαν φέρει, / τύμβον κατόψῃ ξεστὸν ἐκ προαστίου (835–836). Туда и отправляется Геракл, чтобы сразиться с богом смерти. Указания, которые дает слуга, точно совпадают с локализацией северного кладбища древних Фер. См. Taplin 1999: 45 и прим. 35.