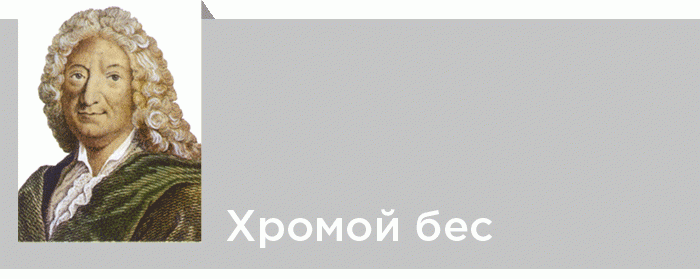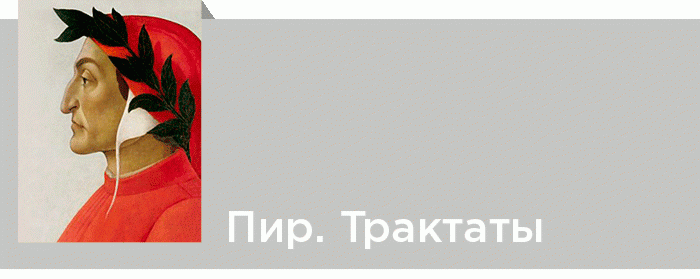Августин в «Secretum» Петрарки и его исторический прототип

Н. И. Девятайкина
«Secretum» («Моя тайна») — первое по времени (1342-1343) и самое известное из прозаических произведений Петрарки. Это философское и вместе с тем литературное сочинение — памятник особого жанра: как говорит автор во вступлении, он написал его для самого себя, втайне от чужих глаз. А поэтому очень взволнованно, искренне, с бесстрашной честностью («Secretum» увидел свет только после смерти Петрарки). М. О. Гершензон имел основания озаглавить свой перевод трактата «Исповедью» хотя в оригинале названия нет этого слова.
Споры вокруг «Моей тайны» не стихают более ста лет. Они вызваны как необычной для того времени формой трактата, так и его сложным, противоречивым содержанием. «Моя тайна» написана в виде живого диалога, который ведут два лица в присутствии Истины. Одному из них дано имя Франциск, другому — Августин. Франциск — латинский вариант имени Франческо, т. е. самого автора. Августин — Аврелий, один из основателей западноевропейский средневековой теологии, гиппонский епископ V в. Первые читатели трактата, очевидно, не были удивлены его воскрешением: средневековые церковные сочинения изобиловали видениями и явлениями. Петрарка воспользовался традиционным приемом: однажды, лежа без сна, говорится во вступлении, он увидел женщину, от которой исходило какое- то неописуемое сияние, назвавшуюся Истиной. А рядом с нею, возникший тоже неведомым путем, стоял «преславный отец Августин». Все трое сели, и началась долгая беседа. Затем Петрарка, как бы отстраняясь от видения, поясняет, что он «решил воспроизвести письменно столь задушевную беседу.., разделив для удобства чтения мысли (sentetiae) своего собеседника и свои не местоимениями, а именами». Этот литературный прием, не без гордости замечает Петрарка, «я заимствовал у любимого мною Цицерона, который сам перенял его у Платона».
Если удовлетвориться пояснениями Петрарки, то его диалог — не что иное, как спор гуманиста (Франциска) с представителем средневековой христианской догматики и этики (Августином). В старой классической литературе так, собственно, и ставился вопрос. Я. Буркхардт, Г. Фойгт, а также Г. Кертинг показали отход Петрарки как от средневекового августинизма, так и от идейной позиции самого Августина. Эту линию продолжил К. Сегре, считавший, что отличие «Confessiones» от «Secretum» уже в том, что Августин описывает свое прошлое состояние, раскаявшись в ошибках языческой поры, усиленно проповедуя христианскую ортодоксию. «Secretum» пишется в состоянии глубокой внутренней борьбы, обнаруживающей серьезное расхождение со старыми средневековыми идеалами в важнейших вопросах: о спасении души, о потусторонней жизни, славе, любви.
Но позже, в 20-30-е годы XX в. раздались другие голоса. Многие авторы, вчитываясь в «Мою тайну», отмечали, что Петрарка в трактате выражает свои мысли не только устами Франциска, но и устами его оппонента. Появились и крайние, тенденциозные суждения об утонченно-августиновском характере «Моей тайны» даже о религиозном кризисе и «обращении» Петрарки в момент создания трактата.
Выводы такого рода сразу же вызвали возражения: ведь гуманизм Петрарки растворялся в августинизме, терял свою новизну и самобытность. С их резкой критикой в 30-40-е годы выступили Дж. Леви и Н. Сапеньо, а в последние десятилетия многие другие авторы. Дж. Леви показал, насколько свободно Петрарка обращается с «Исповедью» Августина, устраняя в своем пересказе самые существенные теологические моменты его сочинения — идею первородного греха и благодати бога. К. Хайтманн выявил в двух «исповедях» противоположность решения вопросов о воле человека, о причинах человеческих несчастий. Вместе с тем автор отметил сходство позиции Петрарки и Августина в отношении к онтологическим проблемам — вечности бога, бессмертия души. П. Курсель показывает, что гуманиста привлекают только первые десять книг «Исповеди» Августина, рисующие отношение ее автора к античности, славе, любви и пр. К последним трем книгам, излагающим собственно христианскую доктрину, Петрарка не обращается.
Интересные замечания о роли Августина для Петрарки содержатся в книге Р. И. Хлодовского. Он считает, что создавая «Тайну», Петрарка оглядывался на опыт Августина, но вовсе не шел по его следам: литературная «Исповедь» первого великого гуманиста резко отделяется не только от «Исповеди» автора «Града божьего», но и от всей религиозно-аскетической литературы европейского средневековья.
Так почему же Петрарка все-таки обращается к Августину, почему дал его имя одному из участников диалога? Насколько адекватно этот персонаж воспроизводит суждения исторического прототипа? Ответить на эти вопросы можно только при сопоставлении текстов двух «исповедей»: «Secretum» Петрарки и «Confessiones» Августина. В первую очередь нас будет интересовать идейное содержание этих памятников, а также их построение, литературная форма, авторские приемы.
Многие исследователи считают, что Августин был для Петрарки прежде всего как бы продолжателем античной философии и культуры. Петрарку несомненно привлекал живой интерес к римскому наследию, проявляющийся во многих сочинениях автора «Града божьего», который мог ругать и проклинать древность, но тут же обращаться к ней за примерами, высказываниями, формулами. С юности, говорит Петрарка в «Моей тайне», он возымел высокое мнение об Августине как о теологе, трактаты которого «воспроизводят в значительной степени учение философов», преимущественно Сократа, Платона, Цицерона.
Петрарку не могла не привлечь также взволнованность и искренность Августина в противовес холодности схоластов. Их псевдоученость, равнодушие к человеку были предметом постоянного осуждения со стороны гуманиста. А у Августина он нашел нравственные проблемы, этический подход к бытию, т. е. то, что меньше всего волновало средневековых схоластов. В известном письме о восхождении на Мон-Ванту, написанном незадолго до «Моей тайны», Петрарка воспроизводит одно из мест «Исповеди» Августина: «Люди хотят удивляться высоте гор, бурным волнам моря, длинным течениям рек, бесконечности океана, вращению звезд, но не заботятся о самих себе». Далее Августин пишет о том, что самое большое удивление в нем вызывают свойства и способности человека. Эти рассуждения были созвучны чувствам и мыслям Петрарки, с ранних лет увлеченного нравственной философией. Слова Августина как бы утвердили его намерения, заставили еще глубже и пристальней исследовать человеческую душу.
Следует отметить еще один важный момент, побудивший Петрарку читать и перечитывать «Confessiones»: он воспринял все здесь описанное, как «историю не чужого, а собственного странствования» (Р. 536). Очевидно, противоречивость Августина, его метания между язычеством и христианством, ярко отразившиеся в «Исповеди», были в чем-то близки внутренним борениям Петрарки. Он берется за свою книгу с намерением разобраться в разладе своей души и мыслей. Августин являл, с одной стороны, пример сложной, мятущейся личности, пытающейся разрешить главнейшие вопросы человеческого бытия, с другой — это был классически образованный христианский мыслитель, заложивший основы западной теологии. Именно такую фигуру естественней всего было избрать в качестве собеседника для Франциска.
Известно, что одной из главных задач для Августина была разработка христианской идеи «двух Градов» — земного и небесного. Только «Небесное царство» объявляется в «Confessiones» целью человеческой жизни, а все мирское — суетой, юдолью плача и страданий (А. XII, 16, 499). Он называет жизнь царством смерти, а смерть — истинной жизнью, вечной жизнью, непреходящим благом (А. IV, 12, 123). Такие идеи развиваются и в «Граде божием», где Августином сформулированы христианско-аскетические принципы жизни.
Аналогичные суждения вкладывает Петрарка в уста своего персонажа. Он противопоставляет «эту» жизнь «той», где человек перестанет быть смертным, земное и небесное, временное и вечное «жилища» (Р. 524, 546 и др.). Так же как автор «Confessiones», Августин «Моей тайны» называет земное бытие и мирские заботы «смертоносным бременем», носящим в себе «образ смерти»; поэтому — «безумие» подчинять душу земным «вещам» (Р. 580, 620). Жизнь называется царством смерти, а смерть — истинной жизнью, «вечной жизнью», о которой следует непрестанно думать. Некоторые речи петрарковского Августина относительно жизни и смерти звучат даже более сурово и жестко, чем в «Исповеди», напоминая средневековые проповеди.
Объявив целью человеческой жизни «град небесный», Аврелий Августин «высшим добром» и «источником всякого морального добра» называет бога, а целью человеческой жизни — спасение души (А. I, 4, 5-6; XII, 15, 495). Едва ли не дословно повторяет эти слова оппонент Франциска в «Моей тайне»: «Единственный и чистейший источник подлинного добра — Бог» (III, 184), равно как и «единая высшая цель» — потусторонняя жизнь (I, 77). Высшее счастье и высшее благо — нематериальны (I, 5556), поэтому никакие земные невзгоды никого не могут сделать несчастливым (I, 38).
Теологически определяет оппонент Франциска самую цель человеческого существования и пути ее достижения. Человек должен «алкать высшего», избегая торной дороги, «утоптанной толпою» (I, 38), устремлять глаза к вечности, к богу, сбросив с себя груз земных забот (II, 108). Он должен слушать голос духа, «неустанно зовущего и понукающего словами: «Вот путь в отчизну» (Р. 680). Перед нами не что иное, как аскетическая проповедь спасения души. Литературный восприемник епископа Августина призывает Франциска любить «вещи», «служащие ко спасению» (II, 127), считает совершенно непреложным правилом посвящать заботам о спасении души, высшим нуждам лучшие, и во всяком случае, последние годы и дни жизни. Для Августина «Тайны» нетерпима мысль, что Франциску и людям его времени спасение души кажется «наименьшею из забот» (Р. 670).
Августин «Моей тайны» определяет и вполне традиционный путь для достижения высшего счастья и блага. Он уверяет Франциска, что главное в деле спасения — «вполне пожелать его» (I, 47). Для этого нужно «полное сознание своего бедственного положения, рождающее полную готовность подняться» (I, 50). Главное же — беспрерывно размышлять о смерти, обуздывая себя мыслями о ней, — только тогда можно возжелать «той» жизни (I, 64). В конце бесед Августин вновь настойчиво повторяет то, с чего начал: «...думай о смерти ...к ней одной своди все, что представляется взору и мысли твоей» (Р. 676). Такое обесценивание земной жизни вполне соответствует учению гиппонского епископа.
Стержнем этического учения Аврелия Августина была идея первородного греха и благодати. Она не была его изобретением, но под его пером получила четкие и жесткие контуры. После грехопадения Адама, вина которого легла на всех его потомков, люди стали нуждаться в помощи бога, помиловании, прощении грехов, т. е. в благодати... Ее силой сообщается «искусство нравственно жить», обеспечивается спасение души (А. XIII, 8, 538). Изливается благодать через церковные таинства (А. XIII, 34, 587).
Августин «Моей тайны» почти по-пелагиански преувеличивает собственные возможности человека в деле спасения, редко вспоминая о необходимости благодати. Но и у него «воля» человека обращаться на то, чтобы отказаться от жизни, сломить себя, выбраться из «тесноты этой смертной юдоли» (I, 40). Да и нельзя сказать, что Августин «Тайны» игнорирует благодать вовсе. Мотив милости, как заметил К. Хайтманн, четко звучит в третьем диалоге. Августин увещевает Франциска: «Стучись в небо благочестивыми молитвами, умоляй слух небесного царя набожными речами, не проводи ни одного дня, ни одной ночи без слезных молений, в надежде, что Всемогущий, сжалившись над тобой, быть может, положит конец столь тяжким страданиям...» (III, 214).
Даже в рассуждениях о спасении души Августином высказано поразительное равнодушие к судьбам других людей. «Так, точно стоя в безопасности на сухом берегу, — говорит он Франциску, — ты будешь созерцать чужие кораблекрушения и молча выслушивать горестные вопли тонущих. И сколько жалости внушит тебе это печальное зрелище, столько же радости будет возбуждать в тебе собственная безопасность по сравнению с опасным положением других» (II, 146). Персонаж «Моей тайны» раскрыл суть средневекового аскетизма, смысл покаяния и исповеди, монашеского отказа от мира и людей.
Наиболее отчетливо дуализм земного и небесного отразился в представлениях автора «Confessiones» о человеке. Он постоянно противопоставляет душу человека его телу, видя в нем «рабствующую часть, отягчающую душу», осуждает «безобразия», с которыми тело рождается, называет его «вечной темницей». Каясь, Августин Гиппонский называет себя «землей и пеплом», «смиренным рабом», носящим в себе смертность свою, греховность свою, гордыню свою» (А. I, 16, 6-12).
Августин «Моей тайны», пожалуй, даже усиливает противопоставления души телу и негативные характеристики человека. Так, он считает обязательным для человека «сознание собственной ничтожности» (I, 31), жалкой доли (I, 40), униженности своего положения (II, 89), немощности и бедности (II, 106). С особенным негодованием обрушивается он на свойства человеческого тела, называя его бренным и омерзительным (III, 211, 214), гадким и отвратительным (I, 42), порицая его красоту, силу и здоровье (II, 88). Оппонент Франциска едва не доходит до манихейского отрицания плоти. Он мрачно объявляет тело зловонной и сырой темницей. Душа человека «обмазана» ужасной грязью этой темницы. Безумно и жалко поступают те, которые силятся изукрасить ее, тогда как следовало бы ненавидеть (II, 92). «Сам» человек, многократно подчеркивает Августин «Моей тайны», — это душа, которая лишь временно обитает в теле (II, 92). Причем из-за соприкосновения с телом она утрачивает «значительную часть своего благородства» (I, 75). Эти аскетические рассуждения явно почерпнуты из средневековых проповедей.
Исторический Августин осуждал не только физическую, но и духовную сторону человеческой природы. Главной причиной грехопадения Адама он, в отличие от предшественников, считал не столько телесную, материальную субстанцию, не столько Еву, сколько «свободное соизволение», с которым бог сотворил первого человека. Адам именно потому совершил грех, отпадение, что имел свободу, мечтал утвердить свою гордыню, надеялся на самого себя, а не на бога (А. VII, 16, 249).
Оппонент Франциска, едва ли не дословно повторяя подобные рассуждения, проклинает «надменную уверенность души в своих силах и самодовольство, доходящее до ненависти к творцу», которые от первых дней творения ввергали в гибель души людей (II, 83).
«Confessiones» наполнена призывами обучаться «искусству нравственно жить», сообщаемому благодатью. Первый и непреложный закон: «Бог гордым противится, смиренным дает благодать». Смирение пролагает верный путь к небу, это — сокровище, неисчерпаемый кладезь истинной нравственности, величайшая из добродетелей (А. VIII, 2, 264). Отсюда закономерно и негативное отношение Августина к земной славе. Для него людская слава — безделица, пустое стремление и гнусное тщеславие, удаление от истины, порок, поскольку отвращает от бога. Великой добродетелью человека является презрение к славе, сопротивление ей. (А. X, 36, 413-414).
К полному отказу от земной славы пытается призывать своего собеседника и Августин «Моей тайны». Он называет ее «пустым бессмертием, закрывающим пути к истинному бессмертию, к спасению души» (III, 215). Некоторые определения славы буквально взяты из «Confessiones» или «Града божия»: она — «вздорные пустяки» (II, 85), «пустое дуновение» (III, 222), «опасная болезнь» (III, 215) «самое гибельное бремя» (III, 169). Августин «Моей тайны» не забывает уроков исторического прототипа, настаивая на необходимости жаждать «истинной славы» и «истинной добродетели» (III, 232), называя «прекрасными» труды и заботы о спасении души» (III, 221).
Обратимся к одному из важнейших моментов этической доктрины гиппонского епископа — концепции любви. Она целиком теоцентрична: единственным объектом истинной, неисчерпаемой и неизменной любви является бог. «Блажен тот, кто любит Тебя, кто любит и ближнего в Тебе и врага ради Тебя». Эта библейская фраза повторена в «Confessiones» многократно. Августином совершенно отрицается человеческая любовь, ее возвышенность, естественность, красота. Любовь к женщине лишь пагубная и преступная страсть, адский позор, гнусная проказа, нечистые помыслы, мнимое и жалкое счастье (А. III, 1, 69-70).
Многочисленным осуждениям и порицаниям подвергаются человеческие чувства и Августином «Моей тайны». Он называет их «чумной ратью химер» (1, 77), которым должна противостоять власть «добродетели», понимаемой лишь как отказ от всего человеческого (II, 107). В полном соответствии с «концепцией любви» гиппонского епископа земная любовь оппонента Франциска — «худший вид безумия» (II, 153), оковы и болезнь души (III, 191-192), заблуждение и порок (III, 163-164), чума (III, 180)). Августин понимает под любовью людей лишь «плотские воспаленные похоти» и «влечения» (II, 114, 119), яд «опьяняющего сладострастья» (III, 213). Он, так же как его исторический прообраз, отрицает духовную сторону любви. Точнее, эту сторону он переносит на любовь к богу, называя ее — «высшим блаженством» (I, 55).
Аскетизм Августина «Моей тайны» проявляется более всего в настойчивом противопоставлении любви к женщине и любви к богу. Его беспокоит н раздражает мысль, что любовь к Лауре удалила Франциска от любви к Творцу. «Ничто в такой степени не порождает забвения бога или презрения к нему, — внушает он Франциску, — как любовь к преходящим вещам, в особенности та, которую называют собственным именем «Амор» и (что превосходит всякое кощунство) — Богом» (Р. 632). Возвышенные и прекрасные чувства к Лауре, горячо и убедительно защищаемые Франциском, потому еще осуждаются отцом церкви, что они «извращают» порядок в любви, тот самый августиновский «ordo amoris», который значил презрение ко всему земному и любовь лишь к небесному царству. Чувства Франциска «отдаляют душу от любви к небесным вещам и отвращают желание с Творца на творение, — что есть самая покатая дорога к смерти» (III, 170).
Таким образом, Августин «Моей тайны» проповедует идею дуализма земного и небесного бытия, призывает презирать все мирские блага, жизнь, непрестанно размышлять о смерти и спасении души, о ничтожности, бессилии и порочности человека. В устах этого персонажа звучит многое, созвучное «Confessiones» по поводу мирской и небесной славы, любви. В данных вопросах Августин «Моей тайны» представляет противоположное мировоззрению Франциска и Петрарки средневековое мировоззрение, почти ни на шаг не отступая от исторического оригинала в проповеди аскетизма.
Вполне возможно, что Петрарка вложил в уста своего Августина эти средневеково-христианские речи, чтобы рассуждениями Франциска определить свое к ним отношение. Вопрос о позиции Франциска требует особого рассмотрения. В целом он либо бунтарски отвергает Августина (в вопросе о любви и славе), либо, не отрицая небесного спасения, стремится отстоять самостоятельную ценность и первостепенную значимость земного мира, права человека на активность в нем, либо, наконец, просто молчит там, где должен был сокрушаться сердцем и многословно каяться.
Но конечно, было бы упрощением утверждать, что в «Тайне» Петрарка говорит только устами Франциска, а Августин лишь персонификация враждебной автору средневековой идеологии, исторически точная копия гиппонского епископа. Наличие известных элементов неисторичности отмечал еще Дж. Леви, показавший, что у Августина «Моей тайны» нет, скажем, рассуждений о первородном грехе и абсолютном предопределении, т. е. главных моментов в учении гиппонского епископа.
В спорах о причинах несчастий, в рассмотрении человеческих пороков и прегрешений, в рассуждениях о непродолжительности жизни Петрарка обходит еще одну августиновскую идею — о «вменении вины». Августин доказывает Франциску, что все несчастья происходят лишь по собственной вине человека: если же он не захочет впасть в грех, никто и ничто его к этому не принудит (I, 42-43). Последние слова — самые важные. Не говоря о Франциске, даже Августин Петрарки не теряет веры в человека, не считает, что первородный грех бесповоротно исказил его природу. Всякий человек способен уклониться от зла, пойти по стезе добродетели. Автор «Моей тайны» решился изменить первоначальный смысл речей гиппонского епископа, не разделяя его идеи об извечной порочности, бессилии и ничтожестве человека.
Можно отметить еще ряд диалогов «Моей тайны», где в уста Августина вложены речи, которые не могли быть почерпнуты из «Исповеди» и других сочинений гиппонского епископа. Во-первых, Августин «Тайны» при всяком удобном случае осуждает современных философов-схоластов, награждая их едкими эпитетами: это — «надменное, попусту любопытствующее отродье» (I, 62-63 и др.). Вся их наука отвергается, поскольку ее предметом не является человек с его сложным внутренним миром. Здесь Петрарка определяет свое отношение к средневековой философии. В других высказываниях оппонента Франциска осуждается феодальная действительность, нравы «черни» (II, 109-110), презрение ко всему отечественному (II, 86-87). Не по-августиновски, как заметил А. Ренодэ, рассуждает Августин в диалогах о бедности, отрицая аскетическую нищету и призывая к умеренной середине (II, 102-104). Равным образом далеки от позиции автора «Града божия» гневные филиппики против богатства и связанных с ним тревог и забот (98-100). Интересны высказывания Августина о творческой роли уединения, полезности слияния человека с природой, где также ясно слышен голос гуманиста (II, 98-100).
Есть и еще одна примечательная особенность в речах Августина «Моей тайны». Порою он «забывается» и говорит противоположное тому, что сам же утверждал ранее. Так, называя Франциску многочисленные «лекарства» от любви, он повторяет рецепты Цицерона, Сенеки, других античных авторов (III, 185-200), совершенно забывая порекомендовать любовь к богу как лучшее избавление от всех земных чувств. Или, увлекшись рассуждениями о славе, договаривается до понимания «вечной смерти» как забвения на земле (III, 230-231), хотя прежде сам рисовал страшные картины Орка (I, 68).
В этой непоследовательности оппонента Франциска проявляется противоречивость отношения Петрарки к Августину: он и авторитет, и противник, и уважаемый писатель, и далеко не во всем приемлемый средневековый идеолог. Петрарка читает Августина по-новому, как гуманист и пытается освятить его авторитетом свои новые идеи.
Особо стоит выделить суждения Августина «Тайны» по поводу природы. Он часто апеллирует к ней, рассуждает о ее порядке (III, 161), доброте (III, 168), о необходимости жить с ней в согласии (II, 110). Он даже человеку в одной из бесед, между прочим, дает определение, далекое от христианской догматики: «...это — одаренное разумом и смертное животное» (I, 63). Более того, именно природа наделяет человека душой (III, 210). Душе присуще «врожденное благородство» (II, 83). Жизнь человека протекает по законам природы (III, 208). Вообще, «природа — мать всего сущего» (III, 207). Влияние античных источников и привычность для Петрарки нового взгляда на мир тут очевидны. Петрарка, быть может, не отдавая себе отчета, начинает заменять всемогущего Творца, ирреальную силу, неистощимой силой природы. Большего антиавгустинизма, пожалуй, не найти в «Моей тайне».
Двойная роль Августина «Тайны» показывает, что перед нами литературный персонаж, но наделенный многими чертами исторического прототипа. Когда речь идет о главных вопросах человеческого бытия, Августин диалогов также проповедует презрение к миру, отрицает ценность земной деятельности и земных чувств человека, призывает все силы отдать приготовлению к потусторонней жизни, к спасению души, как и автор «Исповеди».
Вместе с тем нельзя не отметить, что Петрарка уже гуманистически свободно начинает обращаться с исходным идейным материалом и его реальным носителем. Скажем, Августин «Тайны» почти не обращается к авторитету священного Писания, тогда как в «Confessiones» цитаты из Писания заменяют многие доводы. Персонаж Петрарки беспрерывно обращается к античным авторам: 25 раз вспоминает Цицерона, 21 — Вергилия, 15 — Сенеку, 8 — Горация и т. д.
Исторический Августин был канонизирован церковью и широко признан как высший авторитет католической теологии. Но у Петрарки — он лишь равный участник полемики, его доводы далеко не всегда более убедительны, чем контраргументы Франциска. Чтобы подчеркнуть равноправие участников диалога, Петрарка вводит третье лицо — Истину. Она молчит, но неизменно присутствует при разговорах. Августин, таким образом, не становится верховным судией, непререкаемым наставником и пастырем. С другой стороны, этот апологет церкви и гонитель ересей ведет себя у Петрарки до странности мягко, когда из уст Франциска вырываются очень смелые, если не сказать еретические речи — о правомерности мирской славы, важности земных устремлений человека, о возвышенности человеческих чувств и т. д.
В этом отчетливо проявляется новизна и смелость гуманистического диалога: собеседники спорят о том, что тысячелетие почиталось бесспорным, решенным раз и навсегда. Как верно заметил Р. И. Хлодовский, форма диалога продиктована у Петрарки антидогматизмом нового, ренессансного мышления. Такой прием резко выделяет «Тайну» из средневековых сочинений.
Попытаемся сопоставить форму и общее содержание «Secretum» Петрарки и «Confessiones» Августина. Сочинение Августина написано прекрасным латинским языком, ярким, образным, впечатляющим. Но это — бесконечный монолог — молитва, начинающийся и кончающийся обращением к богу, его прославлением. Автор пылко, не щадя красок, пишет о грехах своей молодости, жизненных ошибках, идейных заблуждениях. Рассказ о себе ведется покаянным тоном, с вытекающими отсюда самоуничижением, самобичеванием. Успокоение в боге далось гиппонскому епископу большой ценой. Он, как свидетельствуют страницы «Исповеди», мучительно переживал разрыв с античностью, перемешивая порицания с похвалами. Очень часто сквозь ригоризм прорывается восхищение красотой земного мира. Августин сознает свою двойственность, но в самом этом осознании заложено осуждение. Он отрекся от всего, чему поклонялся до принятия христианства. «Confessiones» — это раскаяние перед богом. Но одновременно это — и проповедь. Августин пишет для людей, чтобы они видели, какими путями надо идти к благодати божией. Через всю книгу проходит мотив презрения к миру; человек четко ориентируется на первостепенность забот о спасении души и потустороннем царстве обетованном. Августин поглощен обоснованием «бытия» бога, религиозными спекуляциями, сквозь которые проступают контуры средневекового идеала нищих духом, кротких, плачущих, алчущих, с сердцами сокрушенными и смиренными.
«Secretum» Петрарки тоже написан прекрасным «цицероновским» языком, возвращаться к которому пришлось через дебри средневековой латыни. Петрарка апеллирует не к Евангелию, как Августин, но к собственной совести, разуму, жизненному опыту. Сознавая двойственность своей позиции, Петрарка не спешит осуждать себя, отрекаться от всего, что стало ему дорого. Мы не найдем в его «Исповеди» покаяния и раскаяния. Гуманисту важно было шаг за шагом разобраться в своем отношении к средневековью — и закономерным следствием его раздумий и духовной борьбы явилось торжество ренессансных представлений во многих принципиальных моментах.
Наконец, нельзя не отметить полемический прием, впервые использованный Петраркой в «Моей тайне». Этот трактат имеет подзаголовок «О презрении к миру» («De contemptu mundi»), но всем своим содержанием утверждает ценность, красоту и значимость земного. Книга написана против презрения к миру. Она озаглавлена как бы «от противного».
Внутренний динамизм, столкновение полярных точек зрения для выявления истины, неоднозначность позиции персонажей, глубокая авторская взволнованность делает «Secretum» по-настоящему художественным произведением, идейное содержание которого во многом противостоит сочинению гиппонского епископа Аврелия Августина.
Л-ра: Филологические науки. – 1980. – № 6. – С. 28-35.
Критика