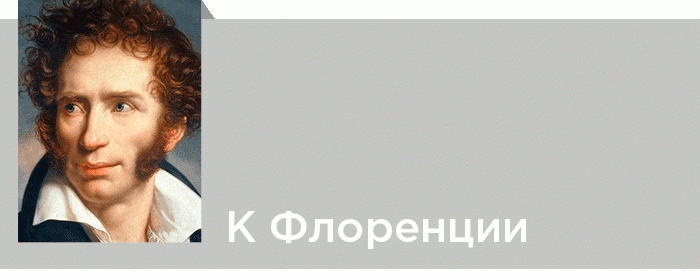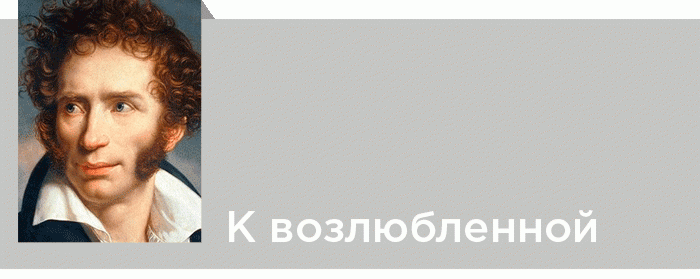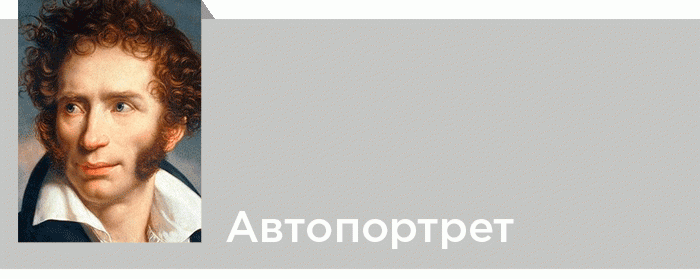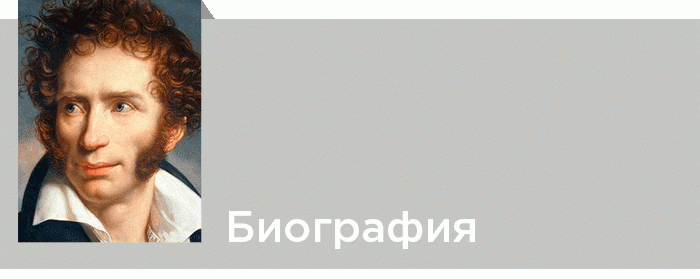На пороге новой эпохи (Поэзия Уго Фосколо)
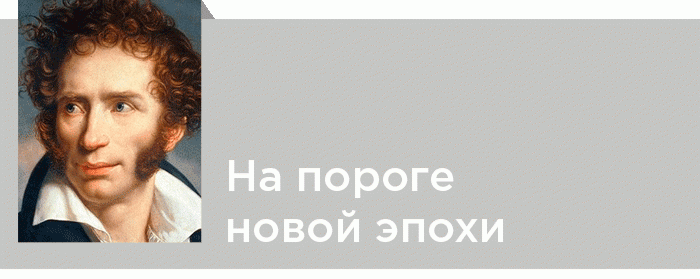
С. Г. Ломидзе
Одним из наиболее интересных, внешне противоречивым, а на деле закономерным явлением развития итальянской литературы последней трети XVIII — начала XIX в. стал факт утверждения в ней предромантизма, вступившего в определенные «взаимоотношения» и с классицистической традицией и с наследием Просвещения. Насколько неожиданной была эта очевидная переориентация вкусов от «светлых Греции брегов» (выражение Парини) к заальпийскому северу? Был ли предромантизм для итальянской литературы осознанной необходимостью, или же его появление объяснялось лишь увлечением иностранной и прежде всего английской поэзией, т. е. иностранным влиянием? Насколько сильно его «отталкивание» от классицизма и Просвещения? Или же внешняя антагонистичность оборачивалась подчас определенной близостью? В чем социальный и эстетический смысл итальянского предромантизма?
Лишь уяснив, какие задачи стояли в это время перед итальянским обществом и его литературой, можно будет отделить литературную моду от порожденной самой действительностью и ее проблемами необходимости поиска иных идейных и художественных решений.
Задача же была поистине грандиозна: «...создать искусство, с наибольшей глубиной и точностью выражающее потребности итальянского, так же как и европейского, общества той эпохи: освобождение страны от тирании и завоевание свободы — гражданской, национальной и личной» Слова эти, сказанные о Витторио Альфьери, могут быть с полным правом отнесены и к итальянской литературе. Именно эта остро ощущавшаяся историческая необходимость в создании нового общества и в воспитании новых его граждан, неудовлетворенность лишь только прежними методами заставили ее пойти непривычной дорогой.
Проблемы эти в том или ином виде были поставлены и решались уже просветителями, поэтому необходимо подчеркнуть, что итальянский предромантизм генетически связан с Просвещением и идеи его родились не столько в оппозиции, сколько под определенным влиянием культуры Просвещения.
Остановимся вкратце на том новом, что внес предромантизм в итальянскую литературу, отметив при этом специфику восприятия ею некоторых общих черт (в качестве некоего классического образца предромантической литературы будем иметь в виду литературу английскую).
Как указывал В. М. Жирмунский, предромантизм предвосхитил такие основные тенденции романтизма, как его антибуржуазную и антирационалистическую полемику. Определяющей же особенностью данного этапа развития итальянского общества и итальянской литературы было то, что их борьба носила прежде всего антифеодальный характер. Итальянцам еще предстояло создать единую нацию и единое национальное государство. Эти особые по сравнению с другими европейскими государствами задачи во многом определили специфические черты итальянского предромантизма.
Интерес к своему древнему прошлому, к фольклору, к скандинавскому и кельтскому поэтическому наследию «становится мощным фактором развития английской литературы», но и не только английской. Борьба за свою национальную литературу была тесно связана с зарождающимся историзмом, со спорами об «оригинальности» поэтического творчества, с отказом от образца.
Таким древним прошлым для Италии прежде всего была античность. У итальянцев к ней было совершенно особое отношение. Процесс создания «своего» — итальянского — классицизма, в противовес французам, идет на протяжении всего XVIII в. и является борьбой за национально самобытную литературу. Если для других наций и литератур классицизм и опора на античность означали «всеобщность», то для итальянцев античная литература (римская прежде всего) в известной степени была своей, национальной традицией, играла едва ли не ту же роль, что средневековье для Англии. «Итальянцы всегда, а особенно в эпоху классицизма, считали себя потомками, хотя бы и выродившимися, древних римлян». Классическая древность участвовала, таким образом, весьма активно в процессе создания нового искусства. Поэтому даже тогда, когда английское влияние по видимости было очевидно, привычный «кладбищенский» антураж скрывал иной идейно-эмоциональный заряд — в «Римских ночах у гробницы Сципионов» Алессандро Верри на первом плане оказываются не размышления о жизни и смерти и тщете всего земного, а раздумья исторического и гражданского характера, связанные с надеждой на возрождение нации. Еще отчетливее эта тенденция проявится в «Гробницах» Уго Фосколо.
Вместе с тем, с обращением к народной поэзии перед европейскими литературами, в том числе и перед итальянской, открылась новая, дотоле неизвестная область прекрасного, что привело к пересмотру ряда устоявшихся эстетических понятий, к расширению эстетических горизонтов. «Это была особая форма поэзии, как будто прямо противоположная классическим идеалам. Знакомство с ней сыграло важную роль в эстетической культуре XVIII века. Так называемые северные литературы и восточный стиль подрывали абсолютный авторитет античности, который ограничивал вкусы современников одной-единственной «правильной поэзией». Несмотря на приверженность к античной культуре, этот процесс не мог не затронуть и Италию, которая после споров о Данте, длившихся в течение всего XVIII в., на пороге новой эпохи словно открывает его заново, истолковывая творчество своего великого поэта как в свете задач борьбы за национальную литературу, за общественный прогресс, так и признавая еще недавно подвергавшиеся сомнению высокие поэтические достоинства «Божественной комедии».
Предромантизм принес с собой в итальянскую литературу новое чувство природы, природы свободной, величественной, прекрасной в своей «дикости», так не похожей на изящно-опрятные лесочки и сады аркадцев. В природе не было больше гармонии, она перестала быть уютным прибежищем для влюбленных. Пейзажи стали таинственны, безмолвны, мрачны. Природа завораживала и пугала своим вечным существованием, она навевала не только сладостную меланхолию, но грусть и тоску. Такой именно она и предстала в «Песнях Оссиана». С «Оссианом» в итальянскую поэзию пришли новые темы, новые поэтические образы. По выражению В. Бинни,«Оссиан» стал своего рода «поэтической сельвой новых мотивов».
«Оссиан» был чрезвычайно привлекателен своей лиричностью, чувствительностью, сентиментально-меланхолической окраской. Но широко распространившаяся меланхолия отнюдь не у всех стала просто модным и утонченно-благородным чувством. Она несла в себе ощущение разлада в том мире, что был выстроен на незыблемых, казалось бы, основаниях разума, ясности и простоты. Если еще у Пиндемонте меланхолия — это «pudica ninfa gentil», «ninfa tranquilla», то у Альфьери она — «furia atroce», и поэт с почти романтической тоской одинокого, страдающего человека вопрошает:
Malinconia, che vuoi? ch’io ponga fine A questa lunga insopportabil noja?
Предромантизм активно утверждает в литературе чувство личной свободы, осознание бесконечной ценности и мощи человеческой личности. «Я» в итальянской поэзии начинает звучать уже у Парини; затем появляется фигура Альфьери, драматургия и поэзия которого характеризуется резко возросшей интенсивностью духовной жизни, сильными чувствами и страстями, героико-индивидуалистическим импульсом.
Наряду с английским влиянием собственные идейно-художественные достижения — теории Вико, альфьерианский культ героической личности, гражданская традиция классицизма — в значительной мере определили своеобразие итальянской литературы на данном этапе.
Принципиальная особенность итальянской литературы последней трети XVIII — начала XIX в. сформулирована Б. Г. Реизовым: «Это влияние (английское. — С. Л.) находилось как будто в полном противоречии с классицизмом, но в действительности сосуществовало и сливалось с ним в едином процессе литературного творчества. Шекспир и Эсхил составили трагическое единство, чувствительность уживалась с правилами Аристотеля. Оссиан казался не столько противоположностью Гомера, сколько соперником его в поэтическом примитивизме. Примитивизм, чувствительность и драматизм были средством борьбы за национальную литературу и способом воспитания нового человека, который должен былсоздать новое общество».
Всю сложность, пестроту, неоднозначность этого периода воплотили в себе два поэта — Винченцо Монти и Уго Фосколо.
В творчестве В. Монти, наряду с его сильными сторонами, выявляется и уязвимость неоклассической эстетики с ее ориентацией на изобразительные искусства, с ее стремлением непременно добиться античной величавости и непогрешимости, что нередко оборачивалось холодностью абстракций, декоративностью и статуарностью, приводило к отказу от яркой детали и живой конкретности.
Признанный неоклассик, Монти был хорошо знаком с английской поэзией того времени, сентиментальными романами, шекспировским театром. Но новые веяния во многом были восприняты им довольно поверхностно. Монти почти всегда вдохновлялся современными событиями, но его реальность не реальна, так как он пытался Италию раздробленную и разоренную загримировать под процветающую империю или республику. Историческая основа его произведений — всего лишь предлог, чтобы оживить и вывести на сцену старые мифологические фигуры; мифология становится средством упорядочения динамичной, чреватой взрывами действительности. Монти возрождает мифы ради них самих, вдохновение его носит во многом литературный, книжный характер. На эту особенность его поэтического дарования — идти не от чувств, а от воображения, писать стихи о поэзии — обратил внимание еще Б. Кроче, сравнив литературу подобного рода с кубками, сохранившими лишь запах некогда; бывших в них ароматических веществ.
Различие в подходе к традиции у Монти и романтиков удачно сформулировал Дж. Барбаризи: при создании «Прометея» вместо того, чтобы сконцентрировать свое внимание на титанической борьбе Прометея против высшей власти, на сопротивлении, которое делает его великим, несмотря на поражение (именно этот аспект привлек бы романтиков), Монти основное внимание уделяет предыстории персонажа, отвлекается на собирание всякого рода рассказов и легенд, связанных с Прометеем. Воспевание свободы и Наполеона уходит на второй план, хотя цель поэмы была именно такова.
В творчестве же Уго Фосколо, вышедшего из той же школы, что и Монти, неоклассическая поэтика питается романтическими соками, что и приводит к принципиально новым художественным открытиям. Ценность и значимость его «Гробниц» (Dei Sepolcri, 1807) состоит в том, что произведение это, стоя на пороге нового времени, воплотило в себе важную для Италии и всего романтизма в целом проблему соединения классицистической традиции и романтического новаторства.
Поэма Фосколо как будто бы принадлежала к «кладбищенской поэзии». Но сам поэт подчеркивал, что сходство с Греем или Юнгом чисто внешнее и разговор о гробницах носит политический характер, имея своей целью возрождение доблести сограждан. Для этого поэт и прибегает к сопоставлению времен нынешних и минувших, начиная традицию не только многих произведений Леопарди и романтической лирики, но и, пожалуй, всей литературы Рисорджименто. В «Гробницах» поднимаются, таким образом, наряду с философскими и сугубо злободневные темы, важные для сегодняшней Италии, порожденные конкретной политико-социальной ситуацией, определенными историческими обстоятельствами. И вместе с тем события в поэме не хроникальны, персонажи, даже и исторические, даны весьма обобщенно; в этом сказывается влияние классицистической поэтики. Жанр «Гробниц» обычно определяется как поэма, хотя на самом деле это и не совсем верно. Программную новизну своего творения подчеркивал и сам автор, который назвал «Гробницы» carme. Слово это в русском переводе звучит приблизительно как «лирическая песнь». Тем самым поэт хотел подчеркнуть лиро-эпический характер своего произведения, его отличие от жанра поэмы в том виде, в каком он существовал. Уже в этом принципиальном отказе от строгой классицистической иерархии жанров было движение вперед. С другой стороны, несомненно, что «Гробницы» связаны с многовековой эпической традицией, продолжая линию поэзии рационализирующей, дидактической, и примечания к поэме, написанные самим Фосколо, пестрят именами Гомера, Лукреция, Вергилия.
Однако для последующего развития итальянской поэзии гораздо существеннее оказалось то, что наряду с тенями Парини и Альфьери, Микеланджело и Галилея, героев «Илиады» в «Гробницах» появляется еще одно действующее лицо — сам Уго Фосколо. Отпечаток его личности лежит на всей поэме. Именно его судьба поэта-изгнанника, навсегда лишенного «священных берегов» своей родины, помогала ему остро ощутить чужую боль. Ему рок судил «неоплаканную могилу», тем сильнее его желание любви, добрых человеческих отношений, заботы и ласки, тем более убедительно и страстно звучат основные мотивы поэмы (см., например, w. 3-15, 145-150, 186-188, 226-229). Усиление субъективно-эмоционального начала, соединение собственного жизненного опыта, своей судьбы и переживаний с объективно-мифологическим, историческим материалом приводит к новым художественным открытиям, подлинно творческому синтезу старого и нового.
Особо доказательным и ценным свидетельством «необычности», новизны «Гробниц» являются оценки современников. Один из наиболее авторитетных и крупных деятелей итальянской литературы начала XIX в. патриарх итальянского просветительского классицизма — Пьетро Джордани, которого трудно упрекнуть в ограниченности и косности, назвал детище Фосколо «fumoso enigma». Современникам поэма казалась не только требующей расшифровки, но и довольно хаотичной и сумбурной. Потому, должно быть, и в настоящее время почти во всех итальянских литературоведческих работах, посвященных «Гробницам», доказывается «единство» поэмы, ее стройность и непротиворечивость. Это, безусловно, так. При всей кажущейся внешней непоследовательности поэма Фосколо — весьма сложное по своей архитектуре, тщательно выстроенное и гармоничное произведение, отличающееся четкостью, ясностью мысли, продуманным развертыванием и ' сочетанием различных тем.
Преодолевая механистичность, свойственную Монти, — так, например, в «Шварцвальдском барде» песни соединены между собой и привязаны к любовному эпизоду искусственно, — отказываясь и от непрерывного, жестко мотивированного действия, Фосколо использует, как справедливо указывает Л. Каретти, ассоциативную технику. Части поэмы соединяются либо по контрасту, либо по аналогии. Переходы могут облегчаться своеобразными эпиграфами, в сжатом виде представляющими содержание той или иной части (см., например, w. 41, 51, 151 и др.).
Начало поэмы, по видимости, не предвещает нового в решении извечной антиномии жизни и смерти, краткой человеческой жизни и вечности времени и природы. И совершенно неожиданным, новым по своему значению и содержанию является переход от меланхолично-пессимистического, печального, лишенного надежды ощущения жизни к тону оптимистичному, светлому, жизнеутверждающему (w. 23-50). Фосколо опровергает здесь свой собственный, казалось бы неопровержимый, тезис о бесполезности могил, убеждает, что и для отдельного человека, индивида существует возможность, даже необходимость отдалить свой смертный час, потому что пока человека помнят, он жив. Забвение равнозначно смерти. Поэт разделяет теперь природу и человека, универсальное и единичное; то, что справедливо и верно для вечности, далеко не всегда совпадает с опытом человека.
Две начальные части связаны между собой, и тем, что одна относится к другой как негатив к фотографическому снимку, один и тот же образ выполняет здесь различные функции, опровергает сам себя: то, что в одной части было иллюзией, становится реальностью в другой. Казалось бы, ненужные в первой части «ombra de cipressi; urne/Confortate di pianto; un sasso / Che distingua le mie dalle infinite/Ossa».., во второй части становятся необходимы: «di fiori odorata arbora amica/Le ceneri di molli ombre consoli; serbi un sasso il nome». Акценты сместились, образ включился в иную смысловую и эмоциональную систему и, повернувшись к читателю другой своей гранью, обнаружил свою многозначность. Достигнут этот эффект весьма скупыми поэтическими средствами. Именно этой особенностью своей техники Фосколо предвосхищает Леопарди.
Новизна структуры, иные принципы оформления материала сказываются не только в контрастном переходе от одной части к другой, но и в диалектическом многообразии полутонов, свойственных второй части: здесь и мягкая грусть, и твердая уверенность, и нежность, и презрение к недостойным... Именно так выражаются полнота и богатство бытия.
Поэтому неправы те исследователи, которые склонны рассматривать стихи 75-90 как не вполне органичное, инородное включение в поэму, объясняемое главным образом влиянием «кладбищенской поэзии» и тем, что поэту здесь изменяет строгий художественный вкус (в костях усопших роется голодная, бездомная собака, печальным криком оглашает окрестности вылетевшая из черепа ночная птица). Думается, что это не так. Появление и необходимость этих стихов объясняются не тем, что неоклассик Фосколо сделал уступку Фосколо-предромантику, а именно теми новыми принципами чувствования, а следовательно, и оформления поэтического материала, о которых уже шла речь. Неоклассицизм этого времени довольно безбоязненно шел на компромисс и не чурался предромантических «кошмаров» — пример тому «Шварцвальдский бард» Моити. Уллин и Мальвина видят юного воина, лежащего в луже крови, сжимающего в руке окровавленную шпагу, но эмоциональная окрашенность текста не соответствует тому, о чем идет речь, интонация остается все так же приподнято-торжественной, ритм — все так же плавным и замедленным, лексика — возвышенно-архаичной. Введение «ужасов» не сделало Монти предромантиком, предромантические темы и краски выступают у него как дань моде, носят внешний, необязательный характер. Его интересует не столько глубокий смысл трактуемой материи и то, какие чувства может возбудить она в сердце читателя, сколько то, что ее можно выразить и таким способом, придать ей и такую форму.
У Фосколо же мрачная картина заброшенных кладбищ тесно вплетена в ткань поэмы и противопоставляется несуществующей величественной могиле, которую должен был бы иметь Парини, а с другой стороны, контрастирует со светлыми ясными красками стихов 29-40. Именно быстрота переходов от одной эмоционально-смысловой части к другой, богатство обертонов, контраст не внешний, а присущий поэме изнутри, позволили Фосколо сделать и эту часть художественно необходимой и оправданной (см. также w. 104-114). Использование антитезы — и широкой, и локальной — роднит Фосколо с романтиками, предвосхищая одну из наиболее важных особенностей поэтики Леопарди.
Вместе с тем на Фосколо не могла не повлиять его тесная связь с классической культурой.
Влияние классицизма сказывается прежде всего в поэтическом синтаксисе — в длинной фразе, пространном широком периоде (см., например, w. 3-15, 202-212), в усложненном, почти постоянно инверсивном порядке слов (инверсируется даже существительное с предшествующим предлогом — см., например, w. 5, 39, 61, 73, 74, 205, 206). Этим Фосколо близок Монти, которому также свойствен крайне сложный, запутанный порядок слов. В большинстве случаев, правда, такое построение фразы у Монти служит выделению наиболее важного члена предложения, но порой становится просто привычной манерой изложения.
Лексика, как и синтаксис, у Фосколо еще несет на себе сильный отпечаток классического стиля. Она характеризуется использованием латинизмов, архаизмов, особой торжественностью, возвышенностью, не преодоленной еще абстрактностью (эти же черты свойственны и поэтике молодого Леопарди). Отметим также заимствования отдельных поэтических образов из античных авторов. Часты персонификации (w. 7, 15, 16, 17, 50, 95, 96, обращение к Флоренции), использование мифологических имен собственных (w. 25, 44, 54, 129,134, 140, 159, 176, 177, 179, 225, не говоря уже о заключительном эпизоде). Аналогичные наблюдения можно сделать и в отношении Монти, многие образы которого также были навеяны поэтической традицией. Мальвина перевязывает героя, но della piaga che occulto strale già le apria nel seno La meschinella ancor non s’accorgea.
Этот эпизод не только заставляет вспомнить о соответствующей сцене в «Неистовом Роланде», но и восходит к гораздо более древнему мифологическому образу Амура, своими стрелами поражающего людей и наносящего им раны (см. позже у Леопарди, «Вечер праздничного дня», w. 9-10). Схождение на землю Справедливости с колчаном раскаленных стрел в том же «Барде» напоминает традиционный, идущий из греческой мифологии и от Гомера образ Аполлона. Но Монти, в отличие от Фосколо, недоставало живости, конкретности, они заменяются описательностью. Поэт как бы создает ряд следующих друг за другом, лишенных внутреннего динамизма сценок (1 песня «Барда»). 1 песня — это песня Уллина, но менее всего она похожа на лирический монолог; здесь отсутствуют всякие личностные ноты, это скорее хор какой-нибудь трагедии.
Различие в поэтическом методе Фосколо и Монти не должно, однако, отнимать у последнего все достоинства его дарования. В области формы Монти достиг весьма значительных высот. Обилие поэтических размеров в «Барде», свободное владение ими говорят о виртуозной технике. Строки, посвященные Италии, словно отзовутся потом и в «Гробницах», и в патриотических канцонах Леопарди. Подкупает и искренность чувства Уллина, говорящего о Мальвине:
E in lei comincia, in lei tutta finisce La mia cura, il mio regno. Ella m’è tutto.
Поэтическую манеру Монти прекрасно передает этот нарочито изысканный, отдающий стариной образ:
Il cor sospinse і suoi purpurei rivi Novellamente a risvegliar le rose Delle pallide guance.
В поэме Фосколо отчетливо прослеживается тенденция к одушевлению, олицетворению окружающего мира (см. хотя бы w. 6, 17-22, 124, 125, 168, 169, 218-220, 291). Л. Галди, исследуя стилевые особенности романтической поэзии, говорит о своего рода антропоморфизме у романтиков, который осуществляется посредством прилагательных или глаголов. У Фосколо эту функцию выполняют глаголы. Однако эту особенность его поэтики, быть может, не следует безоговорочно причислять к романтическим, более того, она скорее связана с предшествующим поэтическим опытом. Дело в том, что все олицетворения Фосколо в достаточной степени традиционны и восходят к греко-латинской поэзии, мифологии. Время, смерть, океан, луна, земля в античной мифологии были персонифицированы, такими же, действующими, они и предстают перед нами в поэме. От романтиков Фосколо отличает практически полное отсутствие сравнений и сложных метафор (то же и в первых канцонах Леопарди).
Однако стремление преодолеть классицистическую отвлеченность отличает уже поэзию Уго Фосколо. Новые принципы творчества требовали и нового поэтического языка. Особенно характерными в данном случае являются эпитеты, существенно реформированные романтиками.
В «Гробницах» соединяются две тенденции: эпитеты традиционные (pia terra, pie stelle, sacro vate, santa terra, imminente fato и др.) и эпитеты, субъективно окрашенные, отражающие личность поэта, его пристрастия (vita raminga, mesta armonia, squallida notte, liberal carme, guisto cenere, dolci vigilie и др.). Количество эпитетов возрастает в тех частях поэмы, где особенно важно вызвать у читателя то или иное настроение, определенную гамму чувств (w. 72-90, 108-129). Именно там, где поэт говорит о чем-то особенно дорогом, любимом, о том, что у него самого вызывает живой, непосредственный отклик, там его поэтический язык становится более индивидуальным и выразительным. Тогда и появляются felici aure pregne di vita; луна... lieta dell’ аёг tuo; lavacri/Che da suoi gioghi a te versa Appenino (обращение к Флоренции); le fontane ...Amaranti educavano e viole; Rapian gli amici una favilla al sole/A illuminar la sotterranea notte (описание античного кладбища).
Логически обобщенный и продуманный материал поэт как бы пропускает через себя, и именно это новое ощущение личности художника-творца, его субъективных переживаний отличает «Гробницы». Перед нами не холодное совершенство мраморной статуи, а озаренное теплом, необычайно привлекательное в некоторой своей неправильности человеческое лицо.
Так, доказывая поначалу бесполезность могил для усопшего, Фосколо ссылается прежде всего на свой опыт, свои субъективные ощущения и переживания (w. 4, 7, 10, 12); он не просто описывает некие абстрактные жизненные приметы, но говорит о том, что составляет суть и радость именно его жизни, что дорого именно ему, поэту-изгнаннику. Эта субъективность придает первым стихам поэмы особую силу и убедительность. Вопрос поставлен с точки зрения отдельного человека, личности. А ответ дается с позиций некоей вечной истины, когда человек выступает лишь как часть постоянно меняющейся природы (w. 16-22).
В целом поэма характеризуется переплетением двух планов — универсального, философского, и конкретно-исторического. И в этом конкретно-историческом поэт вычленяет еще и индивидуальное.
Именно для сопоставления общего и частного Фосколо нужен миф, который выступает здесь как средство сближения двух разных эпох, как средство выявления вечного, общечеловеческого. Миф — не только слепок с прошлого, он — аналог настоящего. Происходит как бы двуединый процесс: «очеловечивание», оживление мифических героев и своего рода мифологизация реальных исторических лиц, тем не менее отличная от классицистической. Такой процесс становится возможным именно потому, что мифология в «Гробницах» — не искусственный, декоративный элемент, а правдивая, неотъемлемая часть жизни и человеческой истории. На эту особенность поэмы указывает и итальянский литературовед Дж. Мардзо, подчеркивая, что именно поэзия, передаваясь из поколения в поколение, т. е. некая идеальная история, сближает Гектора с Нельсоном, Гомера с Альфьери; временные и пространственные границы сжимаются. У Фосколо обращение к событиям «Илиады» помогает выявить близость судеб Трои и Флоренции, сопоставить их (см. w. 182-185 и 267-288). Подобно тому, как Гомер обессмертил аргосских воителей и Гектора, пролившего кровь за родину, так же и итальянского поэта «воспеть героев призывают Музы», и он вступает в отважный бой с временем и забвением.
Поэзия возвышает реальное до идеального, облекая это реальное в оболочку мифа, сказки, предания, которые будут жить вечно. Но Фосколо умеет «вскрыть» символическую оболочку мифа, умеет установить связь символа с действительностью, умеет ввести в эту оболочку и свою индивидуальность, и противоречивость окружающего мира. Заключительная часть поэмы — не довесок ко всему остальному тексту, не простая дань традиции, это неотъемлемая часть целого, связанная с ним структурными связями. Миф не только дает концентрированное выражение общности двух бесконечно далеких событий и эпох, но и подчеркивает, выделяет присущее им единичное, особенное.
«Гробницы» — и это отмечают итальянские исследователи творчества Фосколо — новый этап в духовной эволюции поэта. Они представляют собой принципиально иное решение жизненных проблем по сравнению с «Якопо Ортисом». В романе герой Фосколо кончил жизнь самоубийством, рабство родины, несчастная любовь, изгнание привели его к этому роковому исходу. Он был еще духовно связан с тираноборцами Альфьери, его образ незримо встанет с Брутом Леопарди. В «Гробницах» же Фосколо пытается преодолеть несоответствие между реальностью и мечтой, не довольствуясь более лишь иллюзорным существованием идеалов родины, свободы, человеческого счастья; он стремится к восприятию жизни, не отрицающему историю и неумолимый ход мирового развития, выражающегося в постоянных материальных трансформациях (w. 17-22). Принятые поэтом истины скорбны, однако они не лишают человека способности действовать. «Гробницы» дают надежду. Фосколо утверждает бессмертие человека, достигнутое благодаря славным героическим деяниям и навсегда сохраненное в веках поэзией. Идея вечности искусства идет еще от Пиндара, Горация, оно одно в силах победить забвение и противостоять неумолимому бегу времени (вдохновенно и сильно эта мысль прозвучала в канцоне Леопарди «К Италии»). И этот старый, излюбленный античными поэтами мотив предстает в поэме как откровение:
Il sacro Vate, Placando quelle afflitte alme col canto,
I prenci Argivi eternerà per quanto Abbraccia terre il gran padre Oceano.
E tu, onore di pianti, Ettore, avrai Ove fia santo e lagrimato il sangue Per la patria versato, a finché il sole Risplenderà su le sciagure umane (w. 287-295).
Поэт учит своих современников не бояться смерти и забвения, ибо священна кровь, пролитая за родину. Могилы нужны живым, они утишают боль утраты; скрывая в себе прах великих людей, вдохновляют живущих на славные, героические деяния. Всем пылом своего сердца и своих стихов Фосколо хочет пробудить живых покойников, забывших о славе, чести и свободе, погрязших в роскоши и лести. Поэма закладывала предпосылки национального возрождения, утверждая связь поэзии и жизни, воспитывая нового человека.
Этот процесс весьма сложно и противоречиво будет развиваться в поэзии Джакомо Леопарди; взаимодействием двух этих линий будет отмечена и поэтика Джозуэ Кардуччи. Можно утверждать, что синтез нового и старой классической традиции проникает собой крупнейшие индивидуальности итальянской романтической поэзии. Д. Петрини справедливо отмечал, что итальянский романтизм запечатлевался в классических формах; это был новый мир, продолжавший старую традицию.
Л-ра: Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – 1976. – Т. 35. – № 1. – С. 67-76.
Критика