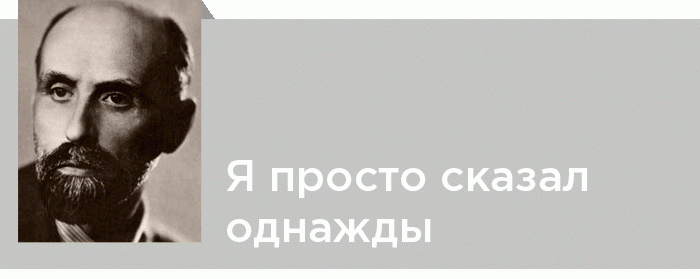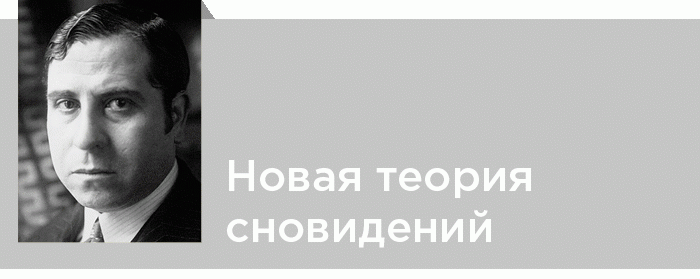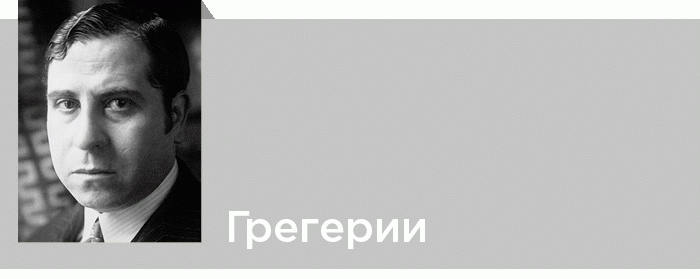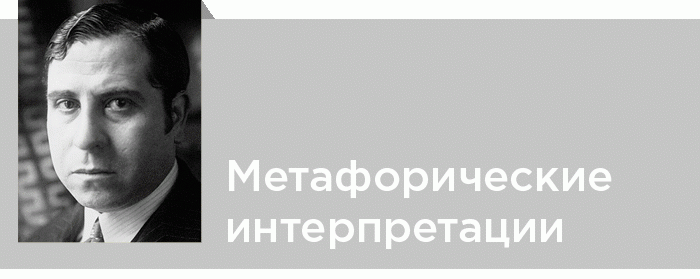Рамон Гомес де ла Серна. Гойя

(Отрывок)
Чудища, призраки, колдуньи (Глава из книги)
У Гойи колдуют расхристанные старухи со сверлящим взором — те самые, что наводят ужас в нищих предместьях, мелькая в дверных проемах своих грязных лачуг.
Во времена Гойи эти замызганные притоны начинались едва ли не у Пуэрта-дель-Соль, а нищета грозила каждому.
Старухи, глядящие вслед художнику, — ведьмы, властвующие над жизнью.
Визгливые, навязчивые, прожорливые ведьмы в старости всегда безобразны. Вечно они спешат с пузатыми кувшинами к реке клеветы и лжесвидетельствуют, не упуская случая.
Гойя видел их глаза в глаза — это они, снуя вокруг, наводили на него порчу. Он знал их в лицо и потому выволок на всеобщее поношение из смрадной человечьей кучи, из общего могильного рва, куда угрюмое чудище — старость — затащило суеверную юность.
Всегда у Гойи эти старые шептуньи — ше-по-ту-ньи —шныряют вблизи молодых.
Эти адские вестницы, жрицы мести, ворожеи и колдуньи неустанно вредят красоте, губят счастье и рушат доверие.
Злое горение жизни, ее ядовитое цветение и черный наговор воплотил в них Гойя.
И душевную низость. У Гойи, как и впоследствии у Ларры, всегда ощутимо отвращение к сводням.
Надменные гордецы, недоумки, болваны, юные сумасбродные ветреницы… И как апофеоз всего этого мелкого зла — те, в ком оно сгустилось и закаменело: проваленные жадные рты, грызущие свои же собственные тощие руки, кости, раздирающие сморщенную желтую кожу, — вот они, ведьмы, средоточие земного раздора, губительной женской сущности.
Гойя знает, что это они, ведьмы, жабье отродье, примешивают к жизни и ржу, и ярость, и азарт; это они толкают к самому краю, манят во тьму, склоняют к самой черной неблагодарности, подлым обманам, измене.
Это они на радость завистницам расставляют красавицам ловушки, смущают их дурными советами, стравливают людей, сеют раздор. Главное — взбаламутить, изгрязнить жизнь, заронить семена страха, разбудить бурю и преподать нам очередной горький урок: нет верности на земле! Вот она, беззубая ведьмина радость!
В те времена инквизиция еще свирепствовала и наводивший ужас трибунал, клонясь к упадку, еще выносил приговоры последним своим жертвам — этим жутким старым курицам, продавшим, по слухам, душу дьяволу.
Щербатые рты реликтов, дряхлых врагинь прогресса, все еще мелькали и в больших городах, и в самых жалких городишках, и нигде прогресс не давал им спуску.
В подписях, Гойи к своим офортам ирония смешана с ужасом. Вот он рассуждает о нечистой силе: «Известно, что это племя показывается только ночью, во тьме. Никто до сих пор так и не разузнал, где они прячутся днем.
Если б кому-нибудь удалось обнаружить их убежище, поймать хоть одну тварь и засадить ее в клетку, чтобы показывать по утрам на Пуэрта-дель-Соль, он бы и думать забыл о некогда желанном наследстве».
До Гойи художники не давали такой воли своему воображению, у него же все несусветное, парадоксальное, осененное смертью не просто живет, но трепещет на холсте. Пристрастие к пляскам смерти — вообще отличительная черта испанского духа.
Гойя идет на бой с ведьмами потому, что видит в них воплощение тех пороков, что ужасали его в иных совсем еще не старых женщинах, — о них он не хочет упоминать. Ведьмы представляются ему жрицами неискоренимой низости — не зря же они готовы осмеять и втоптать в грязь все, чем живет душа.
Из века в век гении испанской словесности обрушивают свою ярость на неистребимую Селестину — сводню. Вслед за Протопресвитером Итским и Рохасом ее клеймит Кеведо. И есть в этой страстной ненависти к одному из древнейших ведьмовских занятий у каждого из них свой счет — своя боль и тягостная память о предательстве.
Гойя сроднился с испанскими сумерками, темным часом для художника, и, процарапывая на медных пластинах рисунки своих «Капричос», он, казалось, врезал в них черноту своей ночи, кишащей ведьмами. Ведь ночь, когда их своры застят небо, — их время, глухая пора их силы и разгула.
Есть в этих гойевских ведьмах — всегда себе на уме, закоренелых язычницах, злоязычных ехиднах, разжигающих суету сует, тщеславие и пагубные страсти, — горькая насмешка над человеческой трагикомедией.
Ежевечерне в театре, где Гойя был зрителем, эти ночные призраки играли свой зловещий спектакль, воплощая его тревоги и страхи.
Призраки, тени, чудища — всех их, а не только ведьм Гойя вывел на сцену.
Он жаждал необычайных, неслыханных и невиданных зрелищ — и на его полотнах возникали исчадия ада. Он хотел предостеречь, растревожить сонные людские скопища, разбудить фантазию.
Все сильнее Гойю притягивала драма разлада. Своими трагическими работами он выправлял картину мира, явленную прежде в придворном цикле. Там была одна половина правды — радостный праздник, шум веселья, шелест шелка и блеск огней.
А вот другая: чудища, ведьмы и ринувшиеся вслед им толпы с безумно горящими глазами, черный хор мелкой дряни, ликующей при виде своих кумиров.
Гойя нашел противовес обыденности и веселью — черную тайну, сокрушившую ангельскую мелодию.
С ведьмами низшего пошиба — доносчицами, наушницами, кляузницами — Гойя расправляется жестоко, только перья летят! Вот эти дщери сумрака корчатся под его взглядом, бессильно отступая перед истинной любовью.
Но в страстной гойевской ненависти иногда проскальзывает не просто сочувствие — почти нежность к ведьме. Ведь не летай она на помеле, наводя страх на всю округу, как беспросветно унылы были бы деревенские ночи!
Гойя — последний бытописатель ведьм, когда-то непременных персонажей испанской жизни.
Педро де Валенсиа, автор старинного трактата о колдовстве и колдуньях, упоминает о разных снадобьях, потребных ведьмам: «Следует запасти цикуту, паслен, мавританскую траву, белену, корень мандрагоры». Эрнандо Кастрильо подробно говорит о мавританской траве: «По уверениям Лагуны, мавританская трава, иначе называемая основой, это не что иное, как черный паслен. Отвар его корня (достаточно одной драхмы), погружает в сон, исполненный наиприятнейших видений — мерещатся празднества, цветущие сады, балы. Мануэль Рамирес полагает, что именно из мавританской травы изготовляется мазь, которой натираются ведьмы, чтобы заснуть и унестись на свое сборище. Трава эта на ощупь влажная, словно бы даже мокрая и сильно холодит; если же давать ее три дня подряд в двойной дозе, можно вызвать буйное помешательство, неминуемо влекущее за собой смерть».
Надо бы упомянуть и другие колдовские травы: вороний глаз и болиголов крапчатый — иначе свистульник, полынь-чернобыльник и дурман вонючий, багульник болотный, дулькамару и волчье лыко, адамову голову и кошачью лапку, бузину, спорынью, мышатник, собачью петрушку, дикий мак, черную чемерицу, белену, могильник, не говоря уж о таких ведьмовских снадобьях, как змеиная кровь и печень неокрещенного младенца.
Все перечисленное надлежит особым образом смешать, ссыпать в горшок и, перекрестившись левой рукой и крикнув: «Гори, очаг! Кипи, котел! Варись, трава!» — тихонько помешивать, приговаривая:
Шатун и пролаза, рыкастый обжора,
отравное зелье болота и бора,
Нахрапистый, хваткий, крысиный, кротовий,
обманчиво тройственный, будь наготове,
Эреб, нестерпимый для смертного взгляда,
кем были зачаты свирепые чада,
предстань предо мной и взойди на порог,
где знак Зороастра кладу как зарок.
Можно также призывать тех, кого упоминает каббала:
«Цебаот! Цебаот! Татагран! Мазагран! Стильметикон! Синдитокон!»
Сервантес устами ведьмы Каньисарес рассказывает о знаменитой андалузской колдунье Камаче из Монтильи: «Захочет она — и черные тучи скроют солнце, а дождь обратится в град; повелит — и в тот же миг стихнет буря. Пальцем шевельнет — и перенесет человека за тридевять земель… Она может обрюхатить честную вдову и тем лишить ее доброго имени; вздумается Камаче — и муж разлюбит жену, бросит дом и детей и с той сойдется, к кому его Камача приворожила. В декабре у нее сад цветет, в январе на полях ее — жатва; весной у ограды палку воткнет — к осени груши уродятся. А еще может она в зеркале или в ноготочке мизинца того тебе показать, кого попросишь, все равно, живого или мертвого. Говорят, умеет она людей в зверей превращать и будто бы обратила однажды ризничего в осла — так он на нее семь лет изо дня в день ишачил! Уж как Камача это делает, не знаю, сама не умею, а вот что попроще… голову заморочить, туману напустить да всучить дрянь какую-нибудь!»
Знает ведьма, как отлить свечу с травным порошком, что «скалы крушит и стены», и владеет искусством энвольтования (а нужны ей для черного обряда две вещицы — иголка без ушка и булавка без головки).
Творится энвольтование насмерть над восковой фигуркой, которой придают сходство с тем, кого хотят погубить.
А уж причинить кому-нибудь с помощью той же фигурки да иглы болезнь, к примеру, каменную — и вовсе плевое дело.
В Германии в ночь Святой Вальпургии ведьмы слетаются на шабаш под Нюрнберг или на берег Рейна близ Майнца — одно из таких сборищ описано в «Фаусте».
У Гёте ведьма — красавица и пляшет она так, что сводит с ума: совсем уж готов влюбиться, да улыбнется она — и посыплются изо рта жабы.
Собираясь на шабаш, ведьмы натираются своей мазью и бормочут заклинания:
«Эмен! Атан! Эмен! Атан! Падуль! Ваалбериит! Астарот! Призовите поскорей! Эй! Ветер, взвей!»
И пока летят, каркают да приговаривают:
«Карр! Карр! Карр! Выше туч клубись, угар! Карр! Карр! Карр! Заклубись да рассейся! Рассейся да заклубись! Карр! Карр! Карр!».
Метла от природы непоседлива, — поди ее удержи! — то под ноги кинется, то хвост распустит, а хвост у нее не простой, особенный. Дело в том, что в дроке, растении из семейства бобовых (иначе — мотыльковых), называемом по латыни Spartum scorparium (а именно из него мастерят метлы), обнаружен чудодейственный алкалоид аспаргин, или анагирин, выравнивающий сердечный ритм.
Итак, оседлав это великолепное и на редкость резвое средство передвижения и не позабыв о горючем — колдовской мази, ведьма взмывает в небеса и поспешает к месту сбора, чтобы вовремя приземлиться там, где ее ждет Ночной Повелитель Великий Козел (Hyrcus Nocturnus), и вопит что есть мочи:
«Карр! Карр! Эй, славьте Козла! Славьте Козла на Лугу! Славьте! Карр! Карр!»
В такие ночи пропадают целые стада баранов — их угоняют ведьмы.
Любопытное наблюдение есть у Теофиля Готье в «Путешествии в Испанию»: «Кастилия называется Старой должно быть, потому, что населяет ее необыкновенное множество старух — да каких! Ведьмы, явившиеся Макбету на вересковой пустоши близ Дунсинана, в сравнении с ними — воплощение юной чистоты и прелести. Прежде я полагал, что омерзительные фурии гойевских „Капричос“ — плоды болезненного воображения художника, но теперь знаю, что ошибался. Эти портреты Гойя писал с натуры — сходство поразительное!»
Да, ведьмы, неотступно преследовавшие Гойю, как две капли воды походили на этих кошмарных старух.
Долина Мансанареса, любимейшее место Гойи, где он в конце концов и поселился, издавна славилась ведьмами не только потому, что в темные ночи они там кишмя кишат, но и потому, что именно там произрастает на сухих речных руслах тот самый дрок (из семейства бобовых, иначе говоря — мотыльковых), в котором содержится аспаргин. Тряся метлами, ведьмы разносят семена дрока, как моль на своих драных юбках, — и скоро, должно быть, места голого не останется во всей округе.
Гойе всюду мерещились ведьмы и призраки, да и не зря он, истинный испанец, питал пристрастие к вареным бобам — ведь боб, если разглядывать его под микроскопом, — это настоящая ведьмина голова!
И все-таки нельзя сказать, что Гойя безоговорочно верил в ведьм — тоже ведь колдовское наваждение! — и потому рисовал их просто старухами, морщинистыми, дряхлыми, костлявыми.
Чаще всего это сводни — злейшие враги искренней, бескорыстной любви.
И Гойя предостерегает, напоминая о ведьмовских кознях, уловках и приманках, — им жизнь не в жизнь, если не случится навредить, передернуть, сбить с пути истинного. А самая большая ведьмовская удача — растлить юное существо.
Поэтому так часто на метле впереди или позади ведьмы оказывается совсем еще молодая девушка, дрожащая от страха.
Она уже поняла, чем грозит ей неминуемый шабаш.
Ведьма же просто обязана затащить на дикое ночное сборище юную девушку или приволочь для жарки младенца — это входит в круг ее злокозненных профессиональных обязанностей.
Старые ведьмы (впрочем, есть на свете и добрые старушки — честь им и хвала!) только и помышляют о том, как бы погубить цвет жизни — их-то жизнь кончена! — и в самое сердце ранить любовь.
Но все же почему ведьмы стали для Гойи навязчивой идеей?
Отчего именно в них Гойя воплотил всю жуть испанского сумеречного часа? Отчего они мерещились ему и в Монклоа, и на холмах Эль Пардо, где Мансанарес так скуден, что и для крестильного ведьмовского обряда воды не наскребешь?
Всю свою тревогу вложил в них Гойя, все свое бессонное горе, все свои ночные страхи и беды.
До умопомрачения доходила в Гойе эта страстная ненависть. Во всякой старухе ему виделась ведьма, а старость казалась обиталищем зла. У этой слепой ярости была своя причина.
Наверное, некая ведьма — не сводня ли с офорта о ревности? — разрушила его союз с герцогиней Альба.
Говорят, одна из прислужниц герцогини, старуха, перепутала — или подложила нарочно — письмо или подарок с запиской и тем приблизила разрыв.
Не с той ли поры в каждой сводне Гойе мерещится ведьма? Не с той ли норы всякая старуха, служанка или родственница, — кажется ему злым гением, увлекающим красоту на путь порока? Ведь это по ведьмовскому наущению любимая отвергла его!
Ведьмы — сама смерть в старушечьем обличье, сама ненависть.
Вечно ведьмовская воронья стая кружит над любовью.
И шамкает над доверчивым ушком беззубый рот: «Уж поверь моему опыту: не обманешь — не продашь, а не продашь — не пробьешься! На том мир стоит и стоять будет!»
Немало горя причинили ведьмы художнику, и он расправился с этим адским отродьем в своих офортах: вот старая ведьма наводит красоту — у смертного порога, вот изверги-старухи терзают младенцев, вот они, ликуя, рвут любовные узы, а вот, завидев, что звезды меркнут, в бессильной злобе бормочут: «Когда рассветет, мы уйдем».
Гойя понял, что старушечья низость и подлость — это мерило всеобщего человеческого падения. Чем больше на земле этих тварей, тем тяжелее благородной душе и тем она обреченней.
Горе тому времени, когда женщине отказал разум и опостылела честь! Горе той, что не способна смириться со старостью и помышляет об этом — как бы в отместку испоганить чужую молодость!
Но, к счастью, у жизни другой закон, а не будь его, мир оказался бы омерзителен — и только. Ты терпишь, смиряешься, отрекаешься от жизни, повинуясь этому мудрому закону, и твоя старость облагораживается и обретает право на уважение.
Искусству старения надо учиться — и учить, раз нет ничего ужаснее искореженной злобой старухи, отравляющей нашу жизнь.
Гойя знал это по себе и пригвоздил к листам своих офортов всех этих старых ведьм, будь то торговки или великосветские дамы.
Гойевские ведьмы и призраки — плоть от плоти древней, восходящей к античности мифологической традиции; они в родстве и с василисками, и с демонами, и с нимфами.
Они из той же когорты — этот болван-соглядатай и эта ведьма с мехами, которые у нее всегда под рукой: чем иначе раздуешь клевету, зависть, ревность?
А вот и всем ведьмам ведьма — меха у нее в позолоте, а вместо метлы — карета. Вот она, Мария-Луиса собственной персоной, искуснейшая мастерица плетения интриг, предводительница дворцового шабаша — страшна как тысяча чертей! Такой, не пощадив и не сжалившись, явил нам ее Гойя.
Испания издревле слыла ведьмовским краем, а Страна басков — в особенности, не зря же из басконского языка в испанский пришло для обозначения шабаша слово «акеларре», что означает «Козлиный луг». Надо сказать, что в Испании слово «шабаш» вообще малоупотребительно, потому что ведьмовские сборища совершаются у нас не только по субботам, но и в ночь на пятницу.
Конечно же, инквизиция преследовала ведьм, но не столь рьяно, как это описал Моратин.
Кстати, если вам самой захочется выяснить, можно ли, оседлав метлу, вознестись выше туч и поразвлечься на Козлином лугу, отыщите рецепт колдовской мази — мы перечислили ингредиенты — и упросите старика аптекаря изготовить снадобье. Натритесь — и в путь!
Критика