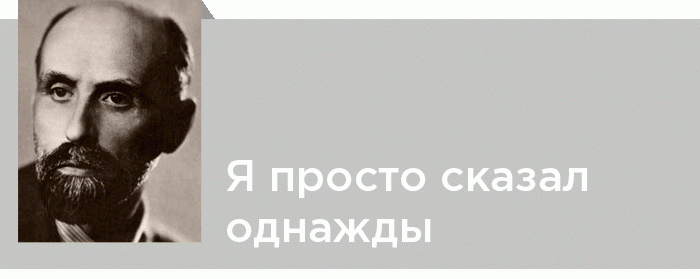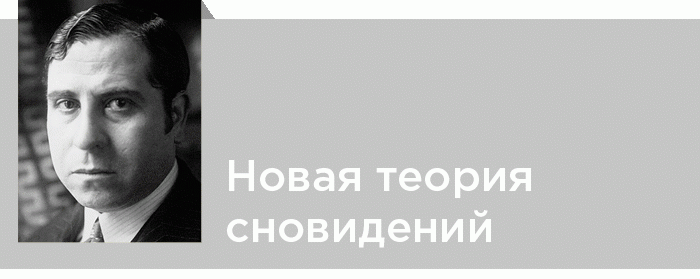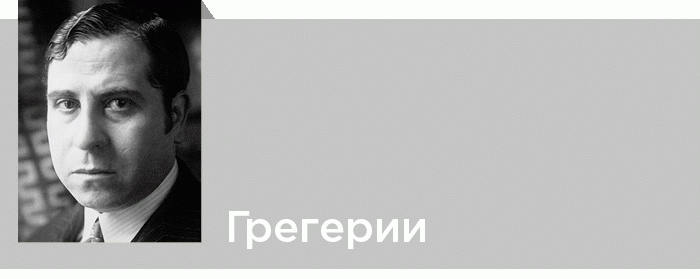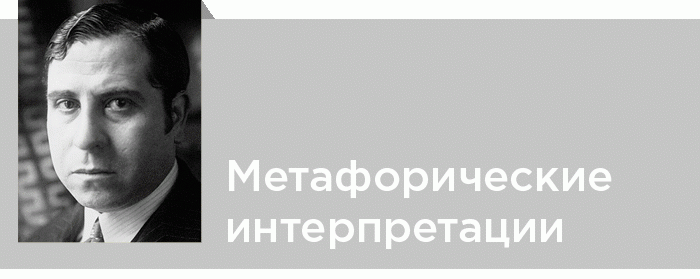Охранная грамота улыбки

А. Солянов
Имя испанского писателя Рамона Гомеса де ла Серны стало известно в Европе в 1915 году, когда вышел сборник его рассказов «Растро» — о самом заброшенном мадридском квартале. По признанию Пабло Неруды, «своими руками Гомес де ла Серна изменил синтаксис языка, и отпечатки, которые он оставил, никто уже с языка не сотрет».
В далекой древности в Андалузию прибыл иракский певец Зириаб, изменивший жизнь Кордовы. Научив испанцев рецептам багдадской кухни, он упорядочил хаос в местной трапезе: благодаря Зириабу испанцы привыкли начинать с подачи супа, затем мясных блюд и заканчивать десертом.
Поэтическая гастрономия Рамона Гомеса де ла Серны пошла в обратном порядке.
В «Растро» мы бредем по заброшенным мадридским кварталам, где царствуют Хлам и Барахолка. Описывая любой предмет, де ла Серна дает ему массу определений, высветляя его со всех сторон и ни на одной из них подолгу не останавливаясь.
Во всяком старье — шляпе, гонимой ветром по мостовой, разинувшей рот туфле, обрывке газеты, птичьих перьях на земле и лохмотьях на телеграфных проводах — де ла Серна отыскивает общую черту, которую он фиксирует, раскрывая многоликую суть предмета: «Хлам глумится над нелепой и мелкой жизнью города, сбивая с нее чиновничью или офицерскую спесь своей настырностью, наглостью, ветхостью, своей неоспоримой подлинностью».
Описывая мелочи, пустяки, варьируя в своих рассказах, хронике и эссе многогранность и богатство будничного, писатель постоянно помнит о социальной стороне, старательно скрываемой под фасадной позолотой. Памятник пресловутому герою позорной войны против Кубы кажется Рамону Гомесу де ла Серне тоже хламом, который можно за бесценок сбыть на барахолке: «Мало того, что люди терпят генералов, зачем-то еще они совершают подвиги!.. Куда достойнее подвиг тех, кто не хочет стать героем».
Фонари на свалке раньше дружили с властями и воплощали недобрый общественный порядок, теперь же «...безродные, беглые, ненужные — они и знать не хотят города, глумятся над ним, каются, раскрывают профессиональные тайны, скандальные делишки, аферы, полицейский произвол».
В любом предмете, в любой мелочи де ла Серна умеет разглядеть суть, формирующую только эту мелочь, этот предмет, не навязывая извне ничего субъективного, надуманного или преднамеренного.
Мертвые краны писатель сравнивает с ящерами, у которых могучие длинные шеи.
И тут же без видимой логической связи идет на другое сравнение: они «чем-то похожи на рабочих, которые... таят в себе мятеж, желание избавиться от власти, и в душе их живет суровая, опустошительная правда, а мысли возвышенны и крепки». И вновь переход к иной грани описываемого предмета. Казалось бы, стоило углубить социальный анализ до глобальных масштабов. Но де ла Серна остается верен себе: он работает не в кузнице с молотом, а в жанре миниатюры с резцом.
[…]
Рамон Гомес де ла Серна – поэт, хотя и пишет прозой. Четкий, торжественный ритм сбивается у него часто неповторимой, «рамоновской» улыбкой.
Он отличен от Гейне, который всегда ироничен: на первый план у Гейне выступает личность автора, у де ла Серны автор отходит на задний план, чтобы обнажить лицо самого предмета.
В сборник произведений писателя включена книга «Цирк», вышедшая в 1918 году. Французская Академия юмора принимала в свой состав только отечественных деятелей искусства. После выхода «Цирка» она сделала исключение для испанского писателя и избрала его своим действительным членом. Вторым таким исключением был Чарли Чаплин.
Раскрывая жизнь цирка как праздничную игру, Рамон Гомес де ла Серна показывает также и тяжелый изнурительный труд цирковых артистов. Книга полна печального юмора. О многом говорит даже такая короткая реплика, брошенная писателем в адрес гимнаста, держащегося за планку одними зубами: «...да и как иначе удержать на весу всю семью!» Хлеб цирковых артистов замешен на полыни, но капли пота творческой муки они вытирают со лба не на манеже, а за кулисами. Эти капли де ла Серна называет «прозрачной кровью».
Профессиональные трюки он рассматривает с общечеловеческой точки зрения: для него важны не столько мастерство и великолепная техника, сколько общение единомышленников, их духовное единение, что особенно необходимо в цирковом искусстве. Если этого нет, искусство вянет. Вот почему писатель так остро переживает за тех, кто вместе с партнером теряет и свое лицо: «Иной раз можно простить политикана, когда он приносит в жертву своих лучших друзей и плохо обходится с ними; можно простить зазнавшегося премьера, когда он меняет партнерш, хотя и разыгрывал с ними самые пылкие любовные сцены, но поведение клоуна, порывающего со своим товарищем, — непростительная, чудовищная жестокость, и жертва ее страдает сильнее, чем другие жертвы, ведь нежность верного клоуна, оплакивающего разлуку с другом, глубже всякой иной, он навсегда останется печальным клоуном... клоуном-мизантропом...»
В поисках выхода из безликого холода языковой всеобщности в писателе неизбежно зреет потребность обрести вне рассудочных логических форм неповторимую конкретность жизненной стихии, запечатлеть мгновение в его вечном движении. Сюрреализм пытался преодолеть холод безликих рассудочных категорий выходом в сферу подсознания. Эту опасность — выход за пределы собственно искусства в безумие — видел в сюрреализме Федерико Гарсиа Лорка: «Иногда я подходил вплотную ко сну, но не впадая в него целиком и имея, естественно, барьер смеха и надежные мостки здоровья... Когда я делаю чисто отвлеченную вещь, у нее всегда есть (по-моему) охранная грамота улыбки и достаточно человеческое равновесие».
Де ла Серна тоже избежал этой опасности: вскрывая суть, душу предмета, он исходил не из идеи и ее антипода — бреда, а из соучастия образа в жизни как игре душевных и духовных сил. Он чувствовал, что банальность неподдельна, первична, и задача писателя — вскрыть за мелочностью и пошлостью подлинность человеческого лица.
Грегерия и есть тот самый пустячок, мелочь, безделушка, в основе которой лежит метафора. Термин «грегерия», придуманный де ла Серной, когда он, идя к балкону, споткнулся, по его собственному признанию, «между небом и землей», писатель дает любой метафоре: грегерия — след из бесконечного мира безобразности, улыбка, нашедшая живые губы, то есть обретшая образ. И если афоризм претендует на глубокомыслие и всеобщность, то грегерия — это всего лишь случайность, необязательность, однако необходимая более, чем фанатический канон.
Метафора, как и вообще поэзия, появляется на стыке горнего и дольнего, «между небом и землей», как в реальном, конкретном случае с де ла Серной. От взаимной шлифовки этих миров, подобно грани алмаза, и рождается поэзия.
Пересказывать содержание грегерий, помещенных в сборнике, бессмысленно. Но одна из грегерий, написанных в самом начале века, звучит как написанная сегодня: «Последняя бомба атомного словаря пробьет в небе дыру, заткнуть которую будет некому и нечем».
Задолго до прихода к власти генерала Франко Валье-Инклан подведет итог: «Испанский интеллигент — тот же цыган: их общий удел — жить преследуемым жандармерией».
В годы франкизма де ла Серна уехал в Аргентину, где, по его словам, «вещи покорно откликаются не на свои собственные имена, а на звон монет». Он продолжал работать, словно памятуя о завещании расстрелянного франкистами Лорки: «Иногда, когда вижу, что творится в мире, у меня руки опускаются — «для чего пишу?» Но надо работать, работать. Работать и помогать тому, что достойно помощи. Работать в виде протеста. Потому что каждое утро, просыпаясь в мире, переполненном несправедливостью и грязью, хочется крикнуть: «Протестую, протестую, протестую...»
Чтобы испытать свободу от каторги, Рамон Гомес де ла Серна сначала узнал, что такое каторга от свободы, от той мнимой свободы, которую узаконили на его родине. Он писал до последних дней, и неподкупное тепло его строчек помогает тому, чтобы человек в мелочах и пустяках, в море «бессмертной пошлости людской» умел оставаться человеком.
Л-ра: Иностранная литература. – 1984. – № 9. – С. 238-239.
Критика