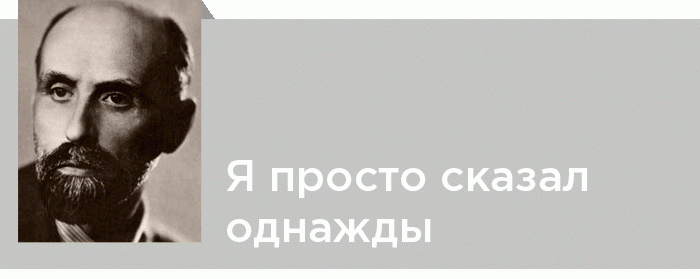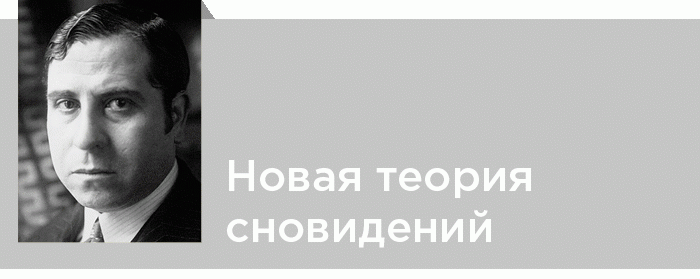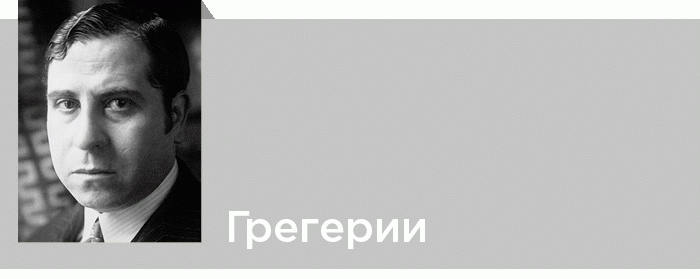Метафорические интерпретации в биографическом жанре (Рамон Гомес де ла Серна)
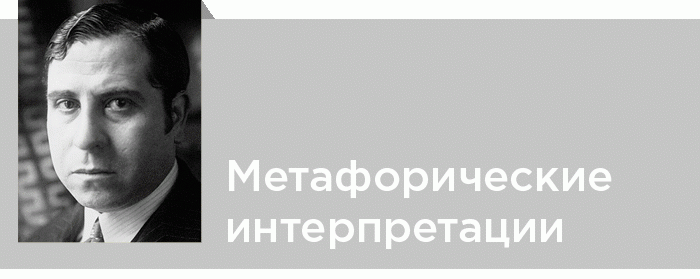
В. Е. Багно
В последние десятилетия неуклонно растет интерес к жанру биографии — жанру пограничному, совмещающему историческую достоверность и художественный вымысел, что обусловлено бурным развитием новых наук, возникающих на стыке других, ранее существовавших. В молодости он пишет эссе о Реми де Гурмоне, Жераре де Нервале, Эдгаре По, Верлене, Бодлере, Марке Шагале и о многих других. В его книгу «Измы» включены литературные портреты Тулуза-Лотрека, Архипенко, Леже, Риверы, Дали, Аполлинера, Маринетти, Кокто, Элюара, «Новые современные портреты» посвящены испанским писателям: Хуану Рамону Хименесу, Пио Барохе, Валье-Инклану, Унамуно, Пересу Гальдосу, Бласко Ибаньесу, Габриэлю Миро, братьям Мачадо и другим. Рамоном Гомесом написаны биографии Эль Греко, Кеведо, Веласкеса, Гойи, Эдгара По, Асорина, Хосе Гутьереса Соланы, Каролины Коронадо.
Только ли необходимость зарабатывать на жизнь («Сейчас ночь, и я в отчаянии, потому что надо писать биографии и биографии; это заказ, который подавляет, вот так мы теряем нашу сущность, занимаясь другими людьми, умершими или живущими») заставляла писателя снова и снова обращаться к этому популярному жанру? Эта необходимость действительно была велика во второй, «аргентинский», период его творчества, когда он, эмигрировав из Испании во время национально-революционной войны, так на родину больше и не вернулся. Гаспар Гомес де ла Серна смотрел на занятия своего племянника более оптимистично. Рамон Гомес, по его мнению, с большой любовью работал в жанре биографии. Для него это была возможность изучить человеческую жизнь: свою и жизнь других людей, «в первую очередь тех, кто в той или иной мере является другим „я“, таких же писателей и артистов, как и он, превратности судеб которых превращаются в зеркало его собственной души». Да и сам Гомес де ла Серна, думается, был ближе к истине, когда признавался: «Мне всегда нравилось заниматься биографиями, окунаясь с головой в жизнь этих самобытных, оригинальных людей, окруженных бескорыстием, богемой, кристальной чистотой, верностью, симпатией».
«Во всем течении ускользающих веков есть люди, кистью, резцом или пером спасшие века, в которые им пришлось родиться», в этом заявлении Гомеса де ла Серны, в его отношении к творчеству писателя и художника как к высшему человеческому проявлению, по-видимому, главная причина его верности биографиям, тем более что Рамон Гомес, несомненно, принадлежал к числу тех писателей, которые, согласно Г. Винокуру, и человеческую жизнь рассматривают как «особый вид творчества».
Обосновывая свои литературные и художественные пристрастия в выборе героев, Рамон Гомес утверждал, что писать об инженерах, полководцах и философах — это значит «писать о людях, одержимых всякого рода вредными теориями, эгоизмом и маниями». Однако не меньшее значение имела вторая фаза — выбор героев, «тональность души» (А. Моруа) которых совпадала с его собственной. В этом коренилась причина его удач. В 1926 г. в лекции «Биография как средство выражения» А. Моруа писал, что романист окольным путем, занимаясь персонажами, отдаленными от него событиями, приходит к высказыванию о себе самом. «Почему же, — продолжал он, — биограф не может воспользоваться той же возможностью через людей, действительно существовавших». Эта тенденция нашла достаточно полное воплощение в творчестве Рамона Гомеса де ла Серны, заявившего как-то: «Биография — не пример. Пример — абстракция. Биография — это сосуществование». Рамон Гомес не только историк, но и соперник; он по ходу биографии модернизирует творческую индивидуальность писателя или художника, руководствуясь собственным вкусом, своими художественными исканиями и в какой-то мере вкусом читателей («Публика требует обновления, новых точек зрения, требует, чтобы герой биографии был отмечен печатью сегодняшнего дня»).
Хотя Рамон Гомес достаточно верно воссоздавал время, в которое жили его герои, он неизменно вкладывал в биографию «собственную историю, собственные краски, собственные пути». «Я представляю вам, — признавался он, — моего Кеведо, однако каждый, кто до меня писал о Кеведо, был уверен, что его Кеведо получится истинным». Более того, некоторые биографии — это не только сосуществование автора и исследуемых героев, но и сотворчество. Например, в биографии Кеведо Рамон Гомес продолжает на современном материале генеалогию глупцов, изложенную «великим насмешником». К глупцам, перечисленным Кеведо, к тем, кто высовывает язык во время работы, кто разговаривает сам с собой, кто, оказавшись где-нибудь наверху, плюет вниз, кто внимательно изучает встретившийся по пути камень, Гомес де ла Серна добавляет своих: тех, кто проходит по жизни, разглядывая галстуки, кто стряхивает пепел на портсигар или на стол, кто приписывает Сократу слова, которые тот не говорил, кто пересказывает сюжет фильма тому, у кого билеты на завтра, кто, глядя на летящий самолет, восклицает: «Как высоко летит!». Причем список, предложенный Рамоном Гомесом, гораздо внушительней, чем тот, который привел Кеведо. Для подтверждения своего метода и тезиса о том, что в каждой биографии есть автобиография, Рамон Гомес пишет: «История Испании была для него его собственной историей». И наконец, замыкая круг, в произведениях Кеведо он находил фразы, удовлетворявшие требованиям, которые сам предъявлял к изобретенному им жанру грегерий: «Рыбы — это влажное пламя»; «Сыр — это копченое молоко»; «Косоглазые — это одноглазые, которые пока еще не решили, какого же глаза у них нет».
В биографиях, написанных Гомесом де ла Серной, поражает сочетание огромной эрудиции, энциклопедичности в подходе к различным областям литературы, искусства, жизни с блестящей импровизацией, смелостью крайне произвольных и парадоксальных, но подкупающих своей искренностью интерпретаций. «Я обращаюсь к искусствоведению не как критик, а как творец. Конечно, чувствовать себя творцом рискованно, но еще рискованней критиковать творцов, не чувствуя себя таковым и не будучи таковым», — так определяет Рамон Гомес свою позицию в той области, с которой профессионально он не был связан. Метафоричность его мышления сохраняется и в описаниях картин. «Маятник нового времени раскачивается в этих картинах с качелями». Имеются в виду некоторые из картонов для шпалер Франсиско Гойи, радостная, светлая и динамичная цветовая гамма которых предвосхитила во многом открытия французских импрессионистов.
Гомесом де ла Серной была подмечена взаимозаменяемость ангелов, святых и дворян на картинах Эль Греко, проявление которой он видел не только в схожести черт, что само по себе ни о чем не говорит, ведь художник пишет с натуры, а в необычайной тяжести обнаженного человеческого тела на религиозных полотнах Эль Греко (серафимов, ангелов и архангелов) и в их непомерно больших и прочных крыльях. Действительно, достаточно внимательно присмотреться к картине «Погребение графа Оргаса», чтобы увидеть, что при всей четкости, статичности и кажущейся незыблемости двух миров, сосуществующих на ней, небожители (заметнее всех ангел, несущий душу графа Оргаса) не столько поднимаются вверх, сколько медленно опускаются, а участники похорон, несмотря на их тяжелые одежды и большую скученность, кажутся способными к столь же медленному вознесению. Рамон Гомес так объяснял этот феномен: «Эль Греко чувствовал ритм своей эпохи и не желал отделять кругами святых и простых смертных. Дворянин становится понятней рядом со священником, священник — рядом с апостолом». И в то же время все они представляют собой одно целое — обобщенный образ его современника. Эль Греко «знал, что вырваться из собственной оболочки и тянуться к другим мирам — это страдание, он видел силы, которые противоборствуют в душе человека подлинно религиозного: страстное желание и мучительная попытка. И хотел запечатлеть это». Стремление ввысь и ощущение своей беспомощности составляют основное противоречие, обусловленное крахом иллюзий людей Возрождения о безграничных возможностях человека, — противоречие, которое послужило причиной трагизма полотен Эль Греко. Гомес де ла Серна снова и снова возвращается к описанию ног участников небесных сцен, к их плотской тяжести, — ног, которые, как балласт, тянут их к земле.
Появление жанра грегерии в творчестве писателя оказывается совершенно закономерным, если внимательно присмотреться к его романам, пьесам и биографиям, которые представляют собой не столько развитие сюжета, сколько нанизывание одной на другую лирико-юмористических метафор. Пожалуй, наиболее чужд природе грегерии на первый взгляд, казалось бы, наиболее близкий ей афоризм. «Если пользоваться терминологией Поколения 1898 года, — отмечает Н. Р. Малиновская, — то афоризм — это история, официальное лицо мудрости, годное на любой случай, а грегерия — интраистория события, вещи, явления».
Гомес де ла Серна исходил из того, что внешний мир — мир природы, мир вещей и мир людей — еще недостаточно полно и точно описан литературой, потому что описание шло по нескольким направлениям. По его мнению, отношения между этими тремя мирами должны даваться во взаимосвязи, ибо между всем в мире существует глубокая связь, и задача писателя найти ее. Рамон Гомес находил эту связь в грегериях. «Надо все грегеризировать (greguerizarlo)», — утверждал он. «Наши души состоят из грегерий, и если бы можно было посмотреть на них в микроскоп, — а когда-нибудь это будет возможно, — мы увидели бы живущими в них, вздрагивающими и мельтешащими, представляющими их единственную подлинную жизнь миллионы грегерий». Во всех произведениях Гомеса де ла Серны постоянно.
присутствует это сопоставление явлений природы с людьми и людей с вещами и явлениями природы. Мир грегерии, составляющий второй после мира исторических событий мир его биографий, отличается от сборников грегерий лишь тем, что сопоставление стягивается к единому центру — герою, в отличие от сборников, в которых грегерии ничем не связаны. Эта особенность творческого метода писателя истолковывалась как сознательный отказ от хронологического изложения событий. «Мы это расцениваем как неспособность придумать фабулу, наметить план и развивать его ... Не будем искать в этих биографиях хронологического метода и объективной документации. Рамон руководствуется интуицией», — категорично заявлял, например, Г. Торренто Бальестер.
Автор биографии — раб фактического материала. Это прекрасно понимал Гомес де ла Серна. В написанных им биографиях нашло отражение множество богатейших историко-культурных фактов. Но в то же время он сознавал, что добьется немногого, если не сумеет воспользоваться своей интуицией, если будет только хронистом, особенно, когда речь идет о биографиях давно умерших людей. «Главное, — утверждал он, — распределить детали, опуская те из них, которые одним своим присутствием, наводящей скуку беспомощностью разрушают единство. Эрудиты заставляют второй раз умереть героев своим червеобразным, словесным недержанием». Там же, в обширном предисловии к биографии Гойи, он писал: «И хотя в художественном произведении всегда остается в какой-то мере фантазия, которая необходима биографии, чтобы волновать людей, нет ни одной придуманной истории, которая могла бы разрушить у впечатлительного читателя иллюзию присутствия при реально происходящих событиях. Люди увлекающиеся и без каких-либо предубеждений в отношении жанров и методов могут мне целиком довериться». В известной мере все творчество Гомеса де ла Серны является результатом интуитивного подхода к действительности, который в первую очередь сказался в грегериях. Его метод в качестве биографа также следует признать интуитивным, хотя бы основанным на надежном фактографическом фундаменте.
Рамон Гомес предполагал, что читатель уже знаком в общих чертах с биографией героя, его эпохой и, что немаловажно, коль скоро речь идет о творческой личности, его поэтикой. Для художественной манеры Гомеса де ла Серны показательна, например, следующая фраза из биографии Кеведо: «Кеведо — это хохот и смерть». Чтобы выбрать эти два слова из многих тысяч других, надо было прекрасно знать жизнь и произведения великого писателя-сатирика, творчество которого проникнуто трагическим мироощущением. Но чтобы оценить эту фразу и выбор этих двух слов, надо иметь хотя бы самое общее представление о барокко вообще и о творчестве Франсиско де Кеведо в частности. Имя Кеведо в этой фразе нельзя заменить именем Сервантеса, Лопе де Веги или Гонгоры. Пришлось бы искать другие слова, которые соответствовали бы данной формуле, которые также предполагали бы целый комплекс свойств, вбирали бы в себя широкий круг значений. Метафоры Рамона Гомеса, на первый взгляд экстравагантные и ни к чему не обязывающие, на деле почти всегда поддаются рациональной расшифровке.
Субъективный элемент в биографиях Гомеса де ла Серны чрезвычайно силен, и не каждый читатель согласится с тем, что «облака на картинах Эль Греко — мертвые», что «Дева Мария на его картинах боится быть девой». Многим покажется, что о Гойе («Гойя сохраняет лоскут времени со всеми его волнениями и цветами. Сохраняет трепещущий жилет с целой эпохи, с тем, что осталось на нем от каждой груди, с которой его сорвали») или о Толедо («Ударение (acento) Испании падает на Толедо, как будто огромная свеча горит на его вершине») можно было сказать точнее, познавательнее и проще. Как классическая биография нуждается в читателе любознательном, романизированная — в увлекающемся, так биография Рамона Гомеса — в читателе впечатлительном и доверчивом.
Л-ра: Iberica: культура народов Пиренейского полуострова в ХХ в. – Ленинград, 1989. – С. 100-105.
Критика