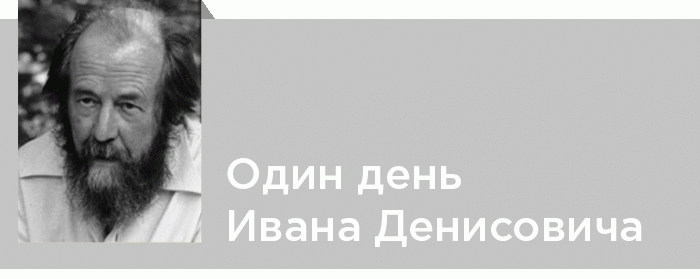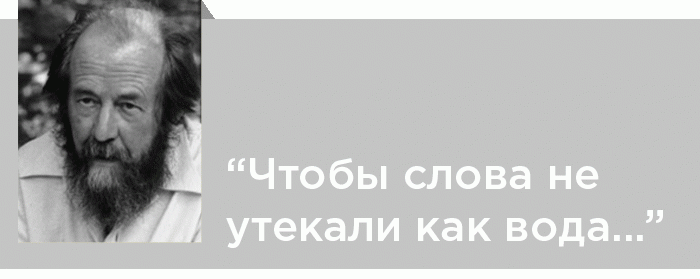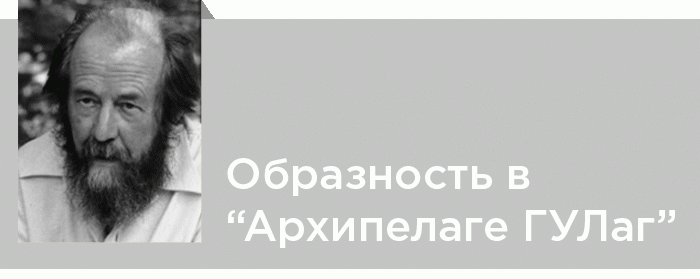Военный палимпсест: личность маршала Жукова в интерпретации Александра Солженицына

УДК 82-32
Р. Темпест
Солдаты - это цифры, которыми
разрешаются политические задачи.
Наполеон
В статье рассматривается концептуально-художественная трактовка образа маршала Г.К. Жукова в рассказе А.И. Солженицына «На краях». Особое внимание обращено на демифологизирующее начало в произведении, связь текста с мемуарной книгой маршала «Воспоминания и размышления» и репрезентацию в нем военной телесности и военной харизмы. Функция «двучастной» структуры рассказа. Текстуальные перерывы постепенности. Сравнительный анализ сцены встречи Г.К. Жукова с М.Н. Тухачевским и описания Наполеона в «Материалах для современной военной истории» Д.В. Давыдова. Повествовательно опосредствованная оценка полководческого искусства маршала в рассказе. Восприятие протагонистом Сталина. Солженицынский Жуков - фигура в историческом смысле подчиненная, а в нравственном - неавтономная. «На краях» и стихотворение И. Бродского «На смерть Жукова» как дополняющие одна другую художественные интерпретации личности маршала.
Солженицын А.И., «На краях», персонаж, маскулинность, телесность, военная история.
The conceptual and artistic treatment of Marshal Georgy Zhukov in the story «Times of Crisis» by Aleksandr Solzhenitsyn. Special attention is paid to the demythologizing element in the work, its representation of martial masculinity and martial charisma, and its connection to Zhukov's book of memoirs, «Reminiscences and Reflections». The function of the story's binary structure. Textual discontinuities. A comparative analysis of the passage describing Zhukov's encounter with Tukhachevsky and the portrait of Napoleon in Denis Davydov's «Materials for a Modern Military History». The narratively mediated evaluation of Zhukov's generalship. The protagonist's attitude to Stalin. In a historical sense, Solzhenitsyn's Zhukov is a subaltern figure that lacks moral autonomy. «Times of Crisis» and Joseph Brodsky's poem «On the Death of Zhukov» as complementary literary interpretations of the marshal's personality.
Solzhenitsyn, «Times of Crisis», literary character, masculinity, bodies, military history.
R. Tempest
WAR PALIMPSEST: ALEXANDER SOLZHENITSYN'S LITERARY INTERPRETATION OF MARSHAL GEORGY ZHUKOV'S IMAGE
The paper analyzes Alexander Solzhenitsyn's literary interpretation of Marshal Georgy Zhukov's image in the story «At the Edge». The author maintains that A. Solzhenitsyn's work, which relies on Marshal Zhukov's «Reminiscences and Reflections», is devoid of mythicizing and adopts a realistic and charismatic view of war. The author provides a comparative analysis of Solzhenitsyn's description of the meeting of Zhukov and Tukhachevsky and D. Davydov's account of Napoleon which can be found in «The Materials for Modern Military History». The author maintains that Zhukov, who is considered by A.Solzhenitsyn to be a protagonist of Stalin, is depicted by the writer as a person devoid of both historical and moral autonomy. The author compares A. Solzhenitsyn's story «At the Edge» and J. Brodsky's poem «On the Death of Zhukov» as two complementary interpretations of the Marshal's personality.
Solzhenitsyn, «At the Edge», personality, masculinity, realism, military history.
В двучастном рассказе «На краях» (1995) автор осуществил деконструкцию военно-патриотического мифа, героем которого является маршал Георгий Константинович Жуков. Как пример художественного текста, ориентированного на критическое осмысление этой видной фигуры новейшей истории, данное произведение стоит в одном ряду с «ленинскими» главами «Красного колеса». Его публикация совпала с полувековым юбилеем победы над нацистской Германией, в связи с которым покойный военачальник официально обрел статус национального героя, если не спасителя отечества. Благодаря этому процессу прославления, Жукову установлена конная статуя на Манежной площади в Москве. Странным образом сдвинутый к тыльной стороне Исторического музея, монумент маршалу стал очередным культурным объектом, водруженным не совсем там, где надо, мановением пухлой десницы власти.
В рассказе последовательно описаны четыре эпохи в жизни Жукова. Мы видим молодого кавалериста, сражающегося с врагами революции; генерала средних лет, проигрывающего и выигрывающего грандиозные сражения на Восточном фронте; маститого полководца, вознесенного Н.С. Хрущёвым после сталинской опалы, но вскоре им же смещенного; старого солдата, медленно угасающего на подмосковной даче в застойные брежневские годы. Первая часть произведения своим содержанием примыкает к другому позднему рассказу Солженицына - «Эго», ибо, как и в нем, главным описываемым событием здесь является Тамбовское восстание и его подавление. Во второй части действие происходит в период Второй мировой войны и последующих десятилетий.
Двучастные рассказы представляют собой очередной пример жанрового эксперимента в творчестве писателя. Каждое произведение состоит из двух частей, причем связь между ними не сюжетная, а тематическая, даже когда главный персонаж в них один и тот же. Читатель сталкивается с неожиданным, подчас шокирующим сопоставлением исторических обстоятельств и нравственных ситуаций. Семантический пробел между первой и второй частью выполняет функцию стержня или, если угодно, неартикулированной паузы. «Белизна» текстуального пропуска формально подтверждает, что «в центре всех этих рассказов находится тема отсутствия» [1]. Заметим также, что «Эго» и «На краях» суть миниатюрные продолжения эпопеи «Красное колесо», в которых текстуализи- рованы последующие узлы русской истории. «На краях» - вещь в своем роде не менее эпическая, чем солженицынский magnum opus, и являет сходные качества повествовательной сжатости, дробности и лаконизма.
К моменту начала работы над рассказом писатель давно уже утвердился в своем мнении о Жукове: «Несостоявшийся наш де Голль... холоп, как все маршалы и все генералы. До чего же пала наша национальность: даже в военачальниках - ни единой личности» [2]. «На краях» можно рассматривать как художественное обоснование этого брутального суждения. Жуков представлен как личность неавтономная, несуверенная, но честолюбивая и в определенной степени - но лишь в определенной - одаренная. На протяжении десятилетий военной службы он неизменно послушен воле коммунистических руководителей, а за громкие его победы русский народ заплатил чудовищную цену кровью, к чему маршал вполне равнодушен. Будучи на пенсии, он правит рукопись своих мемуаров дрожащей рукой в стремлении угодить сиюминутным партийным приоритетам и даже партийному тщеславию. Он сохраняет пиетет к своему прежнему патрону Сталину, хотя прекрасно осведомлен о его промахах и преступлениях и, более того, не раз испытал на себе неправедный гнев Генерального секретаря, имевшего привычку оскорблять его самым вульгарным образом.
Текстуальным истоком для А.И. Солженицына является мемуарная книга маршала «Воспоминания и размышления», вернее, ее бесцензурный вариант, опубликованный незадолго до распада Советского Союза. Под солженицынским пером «деревянная» проза Жукова волшебным образом преображается. Несобственно-прямая речь, преобладающая в повествовании, есть творчески обработанная экстраполяция речи маршала. Как и в случае глав «Красного колеса», посвященных царской семье, осведомленный читатель различает контуры первичного мемуарного нарратива, на котором покоится текст рассказа. «На краях» - это палимпсест. «Воспоминания и размышления» «просвечивают» сквозь весь текст рассказа. Взятые оттуда факты и подробности искусно интегрированы во внутренний монолог главного героя. Таковы, например, «ярко-малиновые, с каких-то гусарских складов» брюки [3], в которых юный Жуков щеголяет в качестве вновь произведенного начальника эскадрона, или мысли маршала о Сталине как политическом и военном деятеле.
Образ маршала сложен по-толстовски плотно («...хотя не рослый, но крепкий, широкоплечий...» [С. 297]). Мы узнаем о его боевых ранениях («...контузило его от австрийского снаряда...» [С. 297], «…ранило от ручной гранаты…» [С. 297-298]), болезнях («…перележал в сыпном тифу. перележал и в возвратном…» [С. 298]), искусстве верховой езды («...с хорошей выпрямкой...» [С. 297], «…безупречно подчиняется тебе твоё тело, взмах руки с коня, сам конь…» [С. 308]), чертах лица («...один подбородок чего стоит, челюсть!» [С. 314]) и даже тембре голоса («...голос металлический...» [С. 314]). Эти подробности поданы «изнутри», через восприятие самого героя. А к концу второй части, когда отставной маршал тихо стареет на своей удобно устроенной даче, его инфаркты, мигрени и бессонные ночи становятся все более текстуально значимыми. Портрет Жукова не только историчен, но и физиологичен.
Что касается психологических нюансов, то здесь их практически нет, ибо повествовательная перспектива всегда исходит от главного героя, сурового экстраверта, личности, к самоанализу решительно не расположенной. Лапидарная формулировка «...он и правда полюбил военное дело больше всякого другого» [С. 304] заставляет вспомнить начало юношеской повести Наполеона Бонапарта «Клиссон и Евгения» (1795): «Клиссон был рождён для войны» («Clisson était né pour la guerre») [4]. Вот ключевой топос боевого героического нарратива, из которого проистекают все остальные. Впрочем, в том, что касается классового происхождения и первых лет жизни, у Жукова было мало общего с Наполеоном: «Ёрка Жуков, сын крестьянский, с 7 лет поспевал с граблями на сенокосе, дальше - больше в родительское хозяйство, в помощь…» [С. 297]. Тут больше точек соприкосновения с биографиями наполеоновских маршалов, таких как Жан Ланн (тоже крестьянский сын), Иоахим Мюрат (сын трактирщика) и Мишель Ней (сын бондаря).
В первой части рассказа дан образ Ёрки - красного кавалериста времен Гражданской войны: Жуков до того, как он стал Жуковым. Полуграмотный малый, для которого каждый большевистский лозунг есть прописная истина, отважный Ёрка - храбрости ему не занимать - рубится с врагами революции: уральскими казаками, калмыками, кубанскими казаками и, наконец, тамбовскими «бандитами» [С. 299], то есть участниками крестьянского восстания Антонова. Но уже в этот начальный период военной карьеры он представляет из себя нечто большее, чем тип простого или лихого кавалериста: «...пёрло из него командное» [С. 298].
Согласно концепции произведения важнейшим моментом в становлении Жукова и как военного, и как личности стала встреча с Михаилом Тухачевским во время Тамбовской карательной операции. В числе других красных офицеров главный герой присутствует на выступлении знаменитого военачальника перед командным составом 14-й отдельной кавалерийской бригады. Судьба сводит одного будущего маршала с другим. Впечатляет статичность, даже картинность этой сцены, в которой описано разительное действие полководческой харизмы Тухачевского на молодого конника.
«Ростом Тухачевский был невысок, но что за выступка у него была - гордая, гоголистая. Знал себе цену.
<...>
Жуков неотрывно вглядывался в командарма. Кажется, первый раз в жизни он видел настоящего полководца - совсем не такого, как мы, простые командиры-рубаки... И как в себе уверен! <…> А лицо его было - совсем не простонародное, а дворянское, холёное. Тонкая высокая белая шея. Крупные бархатные глаза. Височки оставлены длинными, так подбриты. И говорил сильно не по-нашему. И очень почему-то шёл ему будёновский шлем - наш всеобщий шлем, а делал Тухачевского ещё командиристей.
<…>
<…> подал белую руку одному лишь комбригу, той же гордой выступкой вышел вон и тут же уехал бронелетучкой» [С. 302-303].
Взор Ёрки Жукова скользит по формам и поверхностям тела командарма почти любовно, визуально их ощупывая, даже лаская. Сначала Ёркино внимание сосредоточено на общем облике и повадках Тухачевского («ростом... невысок», «выступка… гордая»). Затем молодой командир замечает детали внешности. Траектория его взгляда показательна - повествовательна. Он движется только по вертикали, вверх - вниз - вверх. Голова, шея, голова, рука… Главный герой, за плечами которого три года классовой войны, вычитывает в чертах полководца знаки благородного происхождения (породистое лицо, белая кожа, правильная речь). Тухачевский - аристократ-революционер. Сведущему читателю приходит на ум синдром Катилины, патриция, возглавившего армию плебеев.
Жуков очарован военизированной маскулинностью командарма, обаянием дисциплинированной силы. Природа и действие харизматического эффекта этого типа не зависит от культурной ситуации или исторических обстоятельств. Ёрка мог бы быть впавшим в экстатический трепет гиппархом конницы Александра Македонского или центурионом в одном из легионов Юлия Цезаря. Лишь немногие полководцы прошлого обладали такой способностью завораживать своих солдат - и даже солдат противника. Сравним приведенный выше отрывок с пассажем из «Материалов для современной военной истории» Дениса Давыдова - книги, в которой славный гусар оставил свои впечатления от столкновения лицом к лицу с Наполеоном.
Дело было в Тильзите летом 1807 года, когда гвардейский штаб-ротмистр Давыдов был адъютантом Багратиона и в момент встречи с великим императором находился в толпе офицеров, как и Жуков, в момент встречи с Тухачевским.
«Я пожирал его глазами, стараясь напечатлеть в памяти моей все черты, все изменения физиономии, все ухватки его. <...> он... сошёл со ступеней крыльца, надел шляпу, сел на лошадь, толкнул её шпорами и поскакал… почти во все поводья.
<…>
Я увидел человека малого роста, ровно двух аршин шести вершков, довольно тучного... Я увидел человека, державшегося прямо, без малейшего напряжения... какая-то сановитость благородно воинственная. Не менее замечателен он был непринуждённостию и свободою в обращении… Я увидел человека лица чистого, слегка смугловатого, с чертами весьма регулярными. Нос его был небольшой и прямой, на переносице которого едва приметна была весьма лёгкая горбинка. Волосы на голове его были не чёрные, но тёмно-русые, брови же и ресницы ближе к чёрному, чем к цвету головных волос, и глаза голубые, - что, от почти чёрных ресниц, придавало взору его чрезвычайную приятность.
В этот день... мундир на нём был конно-егерский, темно-зелёный…» [5].
Та же траектория взгляда. Те же детали. То же опьянение аурой Вождя.
Именно после встречи с Тухачевским в Жукове зарождается жажда славы, внеидеологическое стремление побеждать и блистать. Ситуация, когда человек судьбы впервые осознает свое историческое призвание, порождает еще один героический топос. Процитируем Наполеона: «Только в вечер после сражения при Лоди я ощутил себя личностью высшего порядка и почувствовал честолюбивое желание осуществить великие проекты, которые до тех пор занимали моё воображение подобно фантастическим мечтам» [6]. Будущему императору было 26, когда он, встав во главе колонны солдат, приступом взял знаменитый мост; Жуков был годом моложе, когда впервые увидел Тухачевского.
Меж тем кампания против тамбовских повстанцев достигает своего кровавого апогея. Главный герой с солдатской прямотой комментирует набор карательных мер, используемых Тухачевским, - расстрел заложников, применение ядовитого газа: «Слишком крепко? А без того - больших полководцев не бывает» [С. 306]. Первая часть рассказа испещрена такими приемами, как пролепсис, который отсылает нас к каноническому образу маршала Жукова времен Второй мировой войны.
Во второй части преобладает аналепсис. Вектор повествования направлен в прошлое. Отставной маршал воспоминает и размышляет. В начальных абзацах проскальзывают мифоавтобиографические ноты, связанные с домашними обстоятельствами эмпирического автора в период работы над произведением: «Последний простор старости. Подумать-подумать, посмотреть на реку, что-нибудь и дописать» [С. 307]. Перед нами Жуков «на последнем плёсе». Солженицын даже дарует своему персонажу пару прочувствованных строк, которые вполне могли бы найти себе место в одной из «Крохоток»: «Какой тут вид! С высокого берега, и рядом - красавицы сосны, взлётные стволы, есть и лет по двести» [С. 307].
Вторая часть в большей степени, нежели первая, характеризуется хронологическими перерывами постепенности: «Скучней всего писать о временах давно прошлых. <.. .> Настоящий интерес начинается с того времени, как уже прочно уставился советский строй» [С. 307-308]. Но даже этот «настоящий интерес» избирателен. Жуков постоянно внимает голосу внутреннего цензора. «Да ещё надо хорошо взвесить: о чём вообще не надо вспоминать. А о чём можно - то в каких выражениях» [С. 307]. При этом темп повествования более спокоен, размерен, отражая меланхолическое настроение стареющего, страдающего возрастными недугами воина. Время от времени ткань текста разнообразят элементы эллипсиса, то есть пропуска структурно необходимых слов в предложении (этот прием часто встречается в «Красном колесе», особенно в последних двух Узлах): «Стал и недослышивать. Не всякую птицу, не всякий шорох» [С. 307].
Пожилой глава молодой (второй) семьи, Жуков с тревогой думает о будущем жены и семилетней дочери. Его беспокоит сознание зыбкости номенклатурного образа жизни: «Дача-то хороша-хороша, да только государственная, и на каждой мебелюшке - инвентарный номер прибит. Владение - пожизненное» [С. 307]. Таковы нарративные прелиминарии повести победных лет маршала.
За беглым описанием служебного продвижения протагониста от комдива до комкора и его переживаний в годы Великого террора, когда Жукову удалось избежать ареста, следует столь же краткое изложение военных операций во Внешней Монголии летом 1939 года. Там будущий маршал возглавлял советский экспедиционный корпус во время необъявленной войны между СССР и Японией. «Кинул танковую дивизию, не медля ждать артиллерию и пехоту, - в лоб; две трети её сгорело, но удалось японцам нажарить!» [С. 309]. С этой версией можно поспорить. Эпизод, о котором идет речь, имел место в начале июля, когда Жуков, у которого был как раз недостаток пехоты, предпринял контрудар против наступавших японцев силами бронетанкового резерва. Большинство военных историков впечатлены его полководческим искусством на этом этапе операции, и особенно впоследствии, когда 24 августа советские войска перешли в наступление. Разработанный командующим план, который предусматривал использование танковых клиньев против обоих флангов противника, предвосхитил завершающий маневр Красной армии под Сталинградом. В течение недели японцы потерпели полный разгром. Впрочем, в рассказе эти события обойдены молчанием.
Назначенный на пост начальника штаба Красной армии незадолго до германского вторжения, Жуков пытается осуществить профессиональное руководство войсками в период катастрофических поражений Красной армии летом 1941 года. Затем следует вереница фронтовых назначений («Жуков был для него - пожарной, успешной командой, которую Верховный и дёргал и посылал внезапно» [С. 311] и великие победы под Москвой, Сталинградом и Берлином, стоившие неисчислимых жертв, что отнюдь не волнует Генерального секретаря, да и Жукова тоже. «А вот чему нельзя бы не научиться у Сталина: он с интересом выслушивал, какие людские потери у противника, и никогда не спрашивал о своих» [С. 313]. Маршал прекрасно осведомлен о стратегических просчетах партийного главы, от его нелепого доверия Гитлеру накануне германского вторжения до беспомощных в военном смысле приказов в первые месяцы войны. Не забывает он и о нередко оскорбительном отношении Сталина к нему лично. Тем не менее, Жуков чтит память генералиссимуса, в отличие от Хрущёва со товарищи - «балабанов», которые «чуть не оплевали разными баснями» [С. 310] имя покойного правителя. Местами внутренний монолог протагониста воспроизводит «катехизисный» сталинский стиль с поправкой на казарменную инфлекцию: «А почему наша Ставка оказалась сильнее гитлеровской? А вот по этому самому: она опиралась на марксизм-ленинизм» [С. 316]. В тексте даже различим проблеск юмора, когда маршал вспоминает о полученных им после победы над Германией наградах союзников: «Эти крупные их ордена уже приходится спускать на живот» [С. 322].
Главный герой одобрительно оценивает военный талант генерала Власова [С. 318] (впрочем, мельком, в скобках). В книге «Архипелаг ГУЛАГ» и в некоторых других текстах Солженицын пытался восстановить репутацию главы русской освободительной армии, так что в этом случае образ маршала использован для этой внетекстуальной цели. Менее спорными представляются замечания протагониста о примитивном уровне советской военной историографии: «Впрочем, у немцев армия была - первоклассная. Об этом у нас совсем не пишут, или презрительно. Но это обесценивает и нашу победу» [С. 316]. Очень верно рассуждение о неадекватности сталинской стратегии в последние два года войны: «А после Курска уже не давал времени на разработку операций по окружению, а только - фронтально и безвыигрышно толкать немцев в лоб, давая им сохранять боевую силу...» [С. 321]. С другой стороны, упоминание о 150 000 мирных жертвах англоамериканской бомбардировки Дрездена не соответствует историческим фактам. Поясню. Согласно официальным немецким данным, число погибших в результате налета достигло 25 000 [7], однако нацистский министр пропаганды Йозеф Гёббельс преувеличил количество жертв. «Он превратил ужасающую действительность в ещё более ужасающий - и долговечный - миф» [8]. В 1963 году сочиненный Гёббельсом миф перекочевал в книгу писателя Дейвида Ирвинга «The Destruction of Dresden» («Разрушение Дрездена»), которая стала международным бестселлером. Научная несостоятельность этой и других работ Ирвинга, пытавшегося реабилитировать репутацию Третьего рейха и даже самого Гитлера, была доказана на знаменитом судебном процессе 2000 года в Лондоне [9].
Вернемся к Жукову. За великой победой следует сталинская немилость, малопочетное назначение в Одессу, а затем ссылка «на армейские кулички» - в Уральский военный округ. Верный партиец Жуков покоряется судьбе и готовит чемоданчик с бельем, хотя отказывается верить, что виновником его опалы был Сталин, предпочитая винить в нем Берию. После смерти генералиссимуса он получает возможность воздать главному гэбисту по заслугам, когда новое партийное руководство поручает маршалу руководство операцией по его обезвреживанию. Некоторые из колоритных подробностей ареста приведены в тексте: «...и за локти его, рывком, медвежьей силой, оторвать от стола: может у него там кнопка…» [С. 325]. Впрочем, версия Хрущёва, изложенная им в своих «Воспоминаниях», превосходит версию Жукова-Солженицына в смысле сюжетной занимательности, если не исторической точности [10]. Маршал становится министром обороны, внимает решениям XX съезда («…сколько же открылось злоупотреблений! сколько! И подумать было немыслимо» [С. 326]) и вполуха прислушивается к намекам армейских коллег о желательности военного переворота, но только прислушивается. Год спустя он спасает Первого секретаря ЦК КПСС от внутрипартийного заговора. В награду «прыщ кукурузный» [С. 328], Хрущёв, отправляет маршала на пенсию. После свержения Первого секретаря Жуков вновь осыпан почестями и мемуары его приняты в печать, хотя ему приходится заплатить за это высокую текстуальную цену. Он опять должен угождать политическим приоритетам партийных боссов и даже их тщеславию и покорно вставляет в «Воспоминания и размышления» фронтовой эпизод с политруком Леонидом Брежневым на «плацдармике под Новороссийском» [С. 333].
Существуют литературные тексты, в которых негативное авторское отношение к главному герою приводит к удачным художественным решениям, к примеру осмысление личности Ленина в эпопее «Красном Колесе». В рассказе «На краях» протагонист предстает как яркий, неординарный человек, лишенный однако самой ценной для Солженицына черты характера - способности делать выбор между добром и злом. Именно поэтому в сфере высокой политики маршал фигурирует как лицо подчиненное, действующее «на краях» истории. Вместе с тем солженицынский Жуков не лишен положительных качеств. Возьмем, например, факт его дружбы с двумя другими маршалами, Рокоссовским, которого он вызволил из ГУЛАГа еще до войны, и Василевским, который преданно защищает Жукова от мелочных нападок в период второй, хрущевской, опалы.
Хотя «На краях» - это художественная биография, но семейные обстоятельства героя почти целиком остаются за пределами повествования. Первая супруга будущего маршала и дочери от нее едва упомянуты в тексте, а второму браку с женщиной, которая была на тридцать лет моложе Георгия Константиновича (событие, исполненное потенциальным сюжетным интересом), уделено лишь три-четыре строки. Основным источником для Солженицына всегда остаются мемуары маршала, а в них он пишет об этих материях сдержанно или ничего не пишет.
«На краях» одновременно подтверждает и дополняет чеканный поэтический вердикт в стихотворении Иосифа Бродского «На смерть Жукова» (1974):
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою [11].
Солженицын, отношение которого к творчеству младшего его «соседа» по Нобелевской премии было вполне прохладным, тем не менее, положительно отозвался об этой тренодии [12]. Так личность маршала Жукова стала причиной того, что два очень разных и очень крупных художника оказались в литературном согласии.
Список литературы
- Бродский, И.А. Сочинения [Текст] : в 7 т. - СПб. : Пушкинский фонд, 2001. - Т. 3.
- Давыдов, Д.В. Военные записки [Текст]. - М. : Воениздат, 1982.
- Солженицын, А.И. Бодался телёнок с дубом : очерки литературной жизни [Текст] . - М. : Согласие, 1996.
- Солженицын, А.И. Иосиф Бродский - избранные стихи : из литературной коллекции [Текст] // Новый мир. - 1999. - № 12. - С. 180-193.
- Солженицын, А.И. Рассказы и крохотки [Текст] // Собр. соч. : в 30 т. - М. : Время, 2006. - Т. 1.
- Хрущёв, Н.С. Воспоминания. Время. Люди. Власть [Текст]. - М. : Московские новости, 1999. - Кн. 2.
- Bonaparte, N. Oeuvres littéraires [Text]. - Nantes : Le Temps Singulier, 1979.
- Dwyer, P. Napoleon : The Path to Power [Text] . - New Haven : Yale University Press, 2007.
- Evans, R. Lying About Hitler : History, Holocaust, and the David Irving Trial [Text]. - N.Y. : Basic Books, 2001.
- Kershaw, I. The End : The Defiance and Destruction of Hitler's Germany, 1944-45 [Text]. - N.Y. : The Penguin Press, 2011.
- Wakamiya, L.R. Locating Exiled Writers in Contemporary Russian Literature : Exiles at Home [Text]. - N.Y. : Palgrave Macmillan, 2009.
[1] Wakamiya L.R. Locating Exiled Writers in Contemporary Russian Literature : Exiles at Home. N.Y. : Palgrave Macmillan, 2009. Р. 94.
[2] Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом : Очерки литературной жизни. М. : Согласие, 1996. С. 129.
[3] Солженицын А.И. Рассказы и крохотки // Собр. соч. : в 30 т. М. : Время, 2006. Т. 1. С. 298. (Далее ссылки на данное издание даются в тексте статьи с указанием в скобках номера страницы.)
[4] Bonaparte N. Oeuvres littéraires. Nantes : Le Temps Singulier, 1979. P. 25.
[5] Давыдов Д.В. Военные записки. М. : Воениздат, 1982. С. 101-102.
[6] Цит. по : Dwyer P. Napoleon : The Path to Power. New Haven : Yale University Press, 2007.
[7] Kershaw I. The End : The Defiance and Destruction of Hitler's Germany, 1944-45. N.Y. : The Penguin Press, 2011. P. 238.
[8] Ibid. P. 239.
[9] Evans R. Lying About Hitler : History, Holocaust, and the David Irving Trial. N.Y. : Basic Books, 2001.
[10] Хрущёв Н.С. Воспоминания. Время. Люди. Власть. М. : Московские новости, 1999. Кн. 2.
[11] Бродский И.А. Соч. : в 7 т. СПб. : Пушкинский фонд, 2001. Т. 3. С. 73.
[12] Солженицын А.И. Иосиф Бродский - избранные стихи : Из литературной коллекции // Новый мир. 1999. № 12. С. 183.