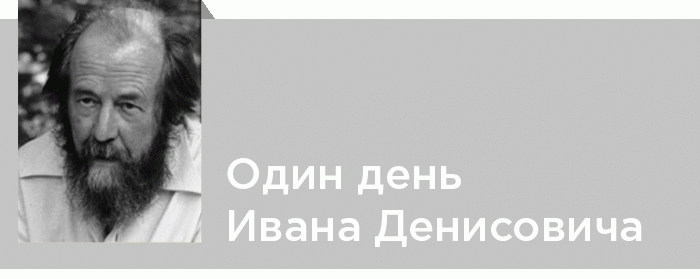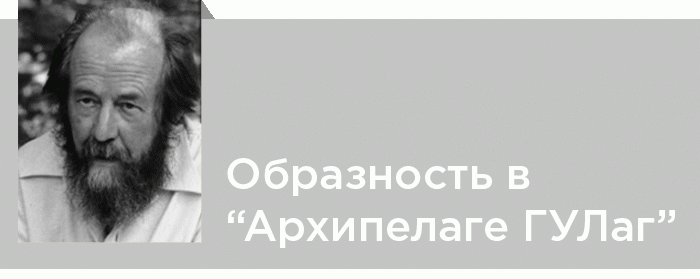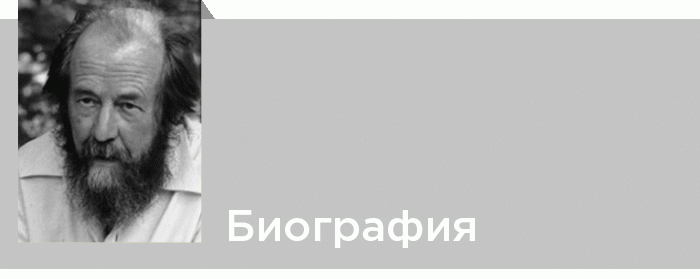«Чтобы слова не утекали как вода...» О языке произведений А. Солженицына
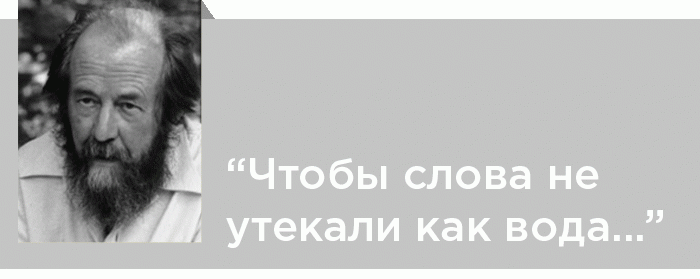
Г.П Семенова
А.И. Солженицын принадлежит к тому нередкому в отечественной литературе типу писателей, для кого Слово равно Делу, Нравственность состоит в Правде, а политика - вовсе и не политика, а «сама жизнь». По мнению некоторых критиков, это-то и уничтожает «мистическую сущность искусства», порождая перекос на политическое плечо в ущерб художественному. В лучшем случае такие критики говорят: «При однозначном восхищении Солженицыным-человеком я, к сожалению, невысоко ставлю Солженицына-художника». Впрочем, есть и другие, что «невысоко ставят» его и как мыслителя, как знатока российской истории и современной жизни и даже как знатока русского языка. Это не значит, будто на отношении к этому писателю подтверждается известное русское правило: в отечестве пророка нет. Как раз именно он и выдвигается многими на такую роль, причём, кое-кто считает, что время для критики А. Солженицына не наступило и, возможно, не наступит. Вот так, по-русски, не знает сердце середины: или-или...
Известно, что одна из постоянных тревог писателя - о том, почему люди часто не понимают друг друга, почему не каждое слово - художественное или публицистическое - доходит до сознания и сердца, почему иные слова уходят, не оставив следа. Отчасти он сам ответил на этот вопрос, сказав в «Нобелевской речи» (1970), что правдивое слово не должно быть безликим, «без вкуса, без цвета, без запаха», ему пристало соответствовать национальному духу, этой праоснове языка.
В поиске и отборе таких слов, в изменении словообразовательных элементов у наиболее «затёртых» из них - одна из немаловажных составляющих его творчества, его поэтики. Размышляя, к примеру, о тех, кто «самозабвенно или опрометчиво» называет себя интеллигенцией, по существу ею не являясь, он предлагает называть их «образованщиной», что, с его точки зрения, «в духе русского языка и верно по смыслу» («Образованщина»). Употребительный вариант «интеллигентщина» был отвергнут, вероятно, потому, что смысл исходного понятия «интеллигентность» шире, чем смысл, заключённый в понятии «образованность», и, значит, существительное «интеллигентщина» не выразило бы того, что хотел сказать автор.
При установке на гармоничное, адекватное языковое оформление всякого содержания А. Солженицын порой использует разный шрифт, чтобы выделить наиболее значимые, ключевые понятия и термины, связанные с темой, специфические слова и выражения, комментируя и объясняя их или в специальных примечаниях или непосредственно в тексте. «Ах, доброе русское слово - острог \ - читаем в его книге «Архипелаг Гулаг» (часть 1, глава 12), - и крепкое-то какое! и сколочено как! В нём, кажется, - сама крепость этих стен, из которых не вырвешься. И всё тут стянуто в этих шести звуках - и строгость, и острога, и острота (ежовая острота, когда иглами в морду, когда мёрзлой роже метель в глаза, острота затёсанных кольев предзонника и опять же проволоки колючей острота), и осторожность (арестантская) где-то рядышком тут прилегает, - а рог? Да рог прямо торчит, выпирает! прямо в нас и наставлен». Оценив слово как «доброе», писатель имеет в виду то, что оно добротно, хорошо, удачно сделано.
А вот то, что язык наш называет «добром» предметы быта, одежду, домашнюю утварь, ему представляется странным (см. «Матрёнин двор»). Странно, однако, другое - что при столь внимательном отношении к слову писатель в данном случае не почувствовал едва ли не на поверхности лежащей предопределённости этого просторечного словоупотребления народными этическими ценностями, бережным отношением к тому необходимому, что служит человеку в его повседневной жизни и что наживается не вдруг и не лёгким трудом. Чтобы выразить ироническое отношение к накопительству, скопидомству, повышенному интересу к вещам, народ пользуется другими словами - такими, как «тряпки», «барахло». Может быть, в этом случае писатель и сам оказался в каком-то смысле во власти тех «штампов принудительного мышления», которые, по его наблюдениям, так мешают людям понять друг друга, и захотел быть «нравственнее» веками складывавшихся и утверждавшихся элементов народной этики.
А вот темпераментная характеристика слова «массовизация» и обозначаемого им процесса как «мерзкого» таких сомнений не вызывает, хотя можно было бы сказать, что и здесь форма и содержание удивительным образом совпали: каков процесс, таково и слово, казённое, внеэстетичное, наскоро слепленное по канонам революционного новояза. Но А. Солженицын прав в том, что долгие годы такой массовизации из многих голов «выбили... всё индивидуальное и всё фольклорное, натолкали штампованного, растоптали и замусорили русский язык», наводнили его выспренними идеологизированными клише, проникшими в речь даже наиболее образованных и думающих представителей общества, вынужденно или привычно использовавших этот «подручный, невыразительный политический язык» («Образованщина»).
Феномен солженицынского «Одного дня из жизни Ивана Денисовича» - в нерасторжимости правдивого содержания и правдивого языка, которые в начале шестидесятых годов шли «вперерез» привычным политическим догмам, расхожим эстетическим штампам и моральным табу: никому не известный автор ошеломившего современников произведения выбрал для себя свободу «в устроении... собственного языка и духовного мира» (Вопросы литературы. 1991. № 4. С. 16). Тогда для многих стали событием не только герой и тема рассказа, но и язык, которым он был написан: в него «окунались с головой, дочитывали фразу - и нередко возвращались к её началу. Это был тот самый великий и могучий, и притом свободный, язык, с детства внятный, а позже всё более и более вытесняемый речезаменителями учебников, газет, докладов» (Новый мир. 1990. № 4. С. 243). Тогда А. Солженицын «не просто сказал правду, он создал язык, в котором нуждалось время - и произошла переориентация всей литературы, воспользовавшейся этим языком» (Новый мир. 1990. № 1. С. 243). Этот язык был ориентирован на стихию той устной речи, которую писатель слышал в «гуще народной», где, по его наблюдениям, ещё сохранилось «невыжженное, невытоптанное» массовизацией («Образованщина»).
Как известно, на основе аналитической проработки существующих словарей русского языка, а также лучших образцов отечественной литературы и всего слышанного «в разных местах... из коренной струи языка» А. Солженицын составил «Русский словарь языкового расширения», цель которого видел в том, чтобы послужить отечественной культуре, «восполнить иссушительное обеднение русского языка и всеобщее падение чутья к нему» («Объяснения» к «Русскому словарю...»).
Конечно, суть этой работы не в том, как это представляется некоторым лингвистам, чтобы попытаться вернуть современников к прошлому языковому сознанию. Не о замене иностранного слова «калоши» на русское «мокроступы», как предлагали задолго до него ревнители чистоты русского языка, идёт у него речь. И не о замене широкоупотребительной лексики забытыми или почти забытыми словами, собранными им: «зрятина» вместо «напраслины», «смехословие» вместо «иронизирования», «тщесловие» вместо «суесловия», «женобесие» вместо «женолюбия», «школить» вместо «воспитывать» или, может быть, «ругать», «звёздохват» вместо «хватающий звёзды с неба», «авосьничать» вместо «делать что-нибудь на авось» и т.д. Собранные слова предлагаются им лишь в качестве возможных синонимов к распространённым на том основании, что содержат дополнительные смысловые или экспрессивные оттенки. Подобно тому как исторически и философски творчество А. Солженицына нацелено на восстановление не вообще прежних порядков, а именно «дееспособных норм прежней российской жизни» (Вопросы литературы. 1991. № 1. С. 193), так и с лингвоэстетической точки зрения его словарь и писательский труд движимы стремлением вернуть в речевой обиход соотечественников, в русскую литературу из запасников языка «ещё вполне гибкие, таящие в себе богатое движение слова», которые могут найти применение, обогатить современную речь, выразить содержание, может быть, в должной мере невыразимое известными языковыми средствами.
Показательно, что сам А. Солженицын смог, как он считает, «вполне уместно» использовать в собственных произведениях лишь пятьсот лексических единиц из своего Словаря. Такой же осторожности в словоупотреблении он ждёт и от собратьев по перу, не приемля «языковых разухабств», когда литератор стремится «не в лад, не в уровень к предмету рассмотрения, не к задуманной высоте открытий напихать в текст грубых выражений, не слыша фальши собственного голоса» («...Колеблет твой треножник»). Несомненный образец такой безвкусицы для А. Солженицына - лагерный жаргон в эссе А. Терца (А. Синявского) «Прогулки с Пушкиным»: «насобачившийся хилять в рифму» и т.п. Со свойственной ему категоричностью он обвиняет уже не только этого автора, а отечественную эмиграцию вообще в стремлении «развалить именно то, что в русской литературе было высоко и чисто». «Распущенная и больная своей распущенностью, до ломки граней достойности, с удушающими порциями кривляний, она, - пишет А. Солженицын, - силится представить всеиронию, игру в вольность самодостаточным Новым Словом, - часто скрывая за ними бесплодие, вспышки несущественности, переигрывание пустоты» (Там же). Разумеется, это не может быть отнесено ко всей русскоязычной эмигрантской литературе, которая в лучших своих образцах немало сделала и для славы российской словесности, и для сохранения русского языка. И «Прогулки с Пушкиным» тоже никак не исчерпываются оценкой А. Солженицына. Но неистовство - в русском духе.
Не это ли неистовство порой мешает и самому А. Солженицыну в его работе над словом? И не проигрывают ли в таком случае его собственные тексты от того, что после первых публикаций на родине профессионально их, видимо, никто уже не редактировал, а в отечественных изданиях последних лет неприкасаемой оказалась даже его орфография: «девчёнка» («Раковый корпус»), «мьюзикал» («Нобелевская речь»), «мятель» («Архипелаг Гулаг»), «семячки» («Бодался телёнок с дубом») и др.? «Один день Ивана Денисовича», может быть, лучшее художественное произведение А. Солженицына, только выиграло от того, что, не уступив в главном - в подлинности характера и языка, - автор согласился «реже употреблять к конвойным слово «попки»... пореже - «гад» и «гады» о начальстве; сначала этих слов в тексте было «густовато»«, - признаётся он в «Очерках литературной жизни». Вот так же густовато бывает на некоторых страницах других его произведений от нарочитых языковых исканий, заставляющих читателя, как сказал бы сам Александр Исаевич, то и дело «упинаться», отвлекаясь от содержания, теряя остроту восприятия.
Возможно, к числу подобных неудач следует отнести такие словоупотребления писателя, как «обиходчивый Макс» («В круге первом»), что в контексте означает «обходительный», но по форме тяготеет к значению причастия «обихаживающий»; в выражении «нагуживает в душу нам» («Нобелевская речь») глагол смущает той же нечеткостью смысловой ориентации - «гужевой», «гадить»?.. Интересен, свеж, ритмически и даже по смыслу оправдан последний глагол в предложении об острогах: «... стало это всё опять подниматься, сужаться, строжеть, крожеть» («Архипелаг Гулаг»), напоминающем знаменитые цветаевские словесные эскапады, но взятый отдельно, без контекста, этот же глагол становится совершенно непонятным («раж», «рожа»?..). Вызывают сомнение и некоторые словообразования вроде «травы вокруг сочают после дождя» («Дыхание»), хотя ни один из «правильных» оборотов (источают аромат, распространяют запах, сочатся влагой и т.д.) - а писателю, к тому же, нужно только одно слово - не передал бы всей информации, обеднил прекрасную и живую картину, ибо травы после |дождя в самом деле не только пахнут свежестью, но ещё и, напоенные влагой, полнятся ею, дышат, роняют избыток, испаряют вовне, дымятся... Впрочем, при такой страстной увлечённости языкотворчеством и при таком абсолютном неприятии «расхожего языка», «расхожих понятий», издержки и передержки - воспользуемся его словом - «необминуемы»; к тому же их в произведениях А. Солженицына всё-таки куда меньше, чем находок.
Выпалывая из своих текстов приевшиеся формы, писатель не только борется со штампами, но часто уточняет или утяжеляет смысл, делает слово более значимым и содержательно, и эмоционально. При этом используемые им приёмы весьма разнообразны. Так, разговорные, просторечные слова продуктивно работают в языке не только героев, но и самого А. Солженицына. В одних случаях они употребляются, чтобы разнообразить, оживить речь, избавить её от повторений, как, например, глагол «пособить» наряду с нейтральным «помочь» в «Нобелевской речи»; в других - фонетико-грамматические просторечия, включённые в авторскую речь, становятся средством дополнительной характеристики персонажей, как «выпимши» и «для прилики» в «Пасхальном крестном ходе»; в третьих - просторечие, например, «роженые» должно нейтрализовать неуместное в контексте названного рассказа высокое звучание слова «рождённые». Попробуем в этом же рассказе вернуть на место «законный» глагол «обступили» или «окружили», и тотчас исчезнет эффект слова-находки, и упростится, обеднится смысл: «Девки в брюках со свечками и парни с папиросами в зубах, в кепках и в расстёгнутых плащах... плотно обстали и смотрят зрелище, какого за деньги нигде не увидишь». Этим целям служит и глагол «одерзел», употреблённый вместо «осмелел» («Бодался телёнок...»). При этом А. Солженицын по обыкновению строго следит за уместностью употребляемых слов: девчонки в брюках «перетявкиваются» в церкви со старухами («Пасхальный крестный ход»), а вот врач Гангарт и медсестра Зоя в присутствии неравнодушного к обеим Костоглотова - «перерекнулись». Оба глагола несут на себе печать авторского отношения к героям, авторской оценки - в этом ещё один немаловажный смысл производимых писателем замен.
Чтобы разъять привычный штамп, писатель то вместо нейтральных слов использует сниженные, скажем, «ухватки», а не «способы» или «приёмы» («Пасхальный крестный ход»); то вводит неожиданные, неизбитые определения, вроде «смутьянского Ленинграда» («В круге первом»), «раскалённого часа» («Нобелевская речь»); то соединяет слова, не очень подходящие с точки зрения нормативного употребления: «вперерез марксизму» («На возврате дыхания и сознания»), «бойкий оценщик» - о литераторе-критике («...Колеблет твой треножник»), «зудело ли ... оптимистам» (Там же); то в сложном слове заменяет одну из частей или меняет их местами - «немоглухой» («Матрёнин двор»), «средолетний старик» («Раковый корпус»), «печалославная советская «Литературная энциклопедия»« («...Колеблет твой треножник»), «хвалословили тирана» («В круге первом»), «политические мимобежные нужды» («Нобелевская речь»), «простогубые» («Пасхальный крестный ход») и т.д.
Иногда, заменив в слове корень, А. Солженицын достигает иронического эффекта, шаржирует называемый предмет или лицо, например, когда называет автора упоминавшегося выше эссе о Пушкине «язвеистом», а «трибунальцев» - «истолюбивыми» («Архипелаг Гулаг»). В других случаях этот же приём используется для противоположных целей - чтобы явление «облагородить»; сказать о любимом герое, что он «окрысился», конечно же, язык не повернётся даже и у А. Солженицына, хотя суть всё же в том, что «оклычился» действительно ближе к характеру и состоянию Костоглотова; «окрыситься» в соответствии с концепцией романа мог бы, пожалуй, Русанов («Раковый корпус»). Наконец, замена привычного корня или образование нового слова по аналогии с той или другой группой слов путём подстановки корня, нужного по смыслу, даёт писателю замечательную возможность экономно и ёмко выразить необходимую полноту содержания. Так, в выражении «повальное... выголаживание страны» («Архипелаг Гулаг») первое слово, образованное от исходного «голод» по типу существительных «выхолаживание», «вымораживание», «выстуживание» и др. подчёркивает масштабность и преднамеренность бедствия; безличное «разотмилось» (Там же), произведённое от существительного «тьма» по образцу глагола «распогодилось», должно уточнить, какая именно перемена произошла в природе; в предложении «Искусство растепляет даже захоложенную затемнённую душу» («Нобелевская речь») глагол, построенный по известному образцу, удачнее другого говорит о постепенности процесса.
Другой часто используемый А. Солженицыным приём обновления употребительной лексики заключается в замене приставок и суффиксов при сохранении корней, что порой, как в следующем тексте, сопровождается переводом привычного слова в другую часть речи: «Что ж обещателъней, чем лозунги комбеда? что ж угрозней, чем пулемёты ЧОНа...!» («Архипелаг Гулаг»). Но чаще подобные эксперименты касаются только приставок, которые или сокращаются или отбрасываются целиком: «...нудила меня к какому-то прорыву» («Бодался телёнок...»), «в запрошлом году» («Раковый корпус»), «мир тусторонний» «В круге первом»); или, наоборот, добавляются там, где вы их не ждёте: «обминул меня Бог творческими кризисами» («Бодался телёнок...»), / «необминуемый магический кристалл» («...Колеблет твой треножник»); \ Или меняются на другие, чтобы выразить оттенок, не содержащийся в « нейтральном варианте, либо «освежить» последний: так, основные линии, которые «уже промечаются» («Архипелаг Гулаг») - не те, что только ещё намечаются или планируются, но те, что уже проступают и становятся видны. Там, где многие сказали бы «нахлынуло», автор романа «В круге первом» пишет: «пятерых из них охлынуло горько-сладкое ощущение родины». Выбранное слово вернее и удачнее для данного контекста, ибо глагол с приставкой «на-» часто означает действие, направленное на одну сторону предмета, тогда как действия, обозначенные глаголами «омыло», «овеяло», «обволокло» и т.п., распространяются на весь предмет со всех сторон. Точно так же «изгасшие глаза» больше, чем угасшие или погасшие, скажут читателю о длительности перенесённых человеком «искорчинах болей» («Раковый корпус»).
Пожалуй, особенно много и, по большей части, продуктивно на смысловое «утяжеление» текста у А. Солженицына работает приставка «из-»: «издавнее всех старожилов» («Раковый корпус»), «написал изнехотя воспоминания» («Архипелаг Гулаг») и т.д. При этом художественная логика писателя часто оказывается убедительней грамматических или стилистических правил, апелляций к частотности употребления тех или других форм. Глагол «излюбить», воспринимаемый читателями в значении, которое он имеет, например, в стихотворении Сергея Есенина «Излюбили тебя, измызгали...», в миниатюре А. Солженицына «Озеро Сегден» приобретает совсем иной смысл: «...это местечко на земле излюбишь ты на весь свой век». Писатель как будто и не помнит того, есенинского, толкования и, не удовлетворившись привычным «полюбишь», за счёт изменения приставки нагружает слово дополнительным содержанием, идущим от форм «излюбленный», «излюблен», то есть «любимый», «любим» - из всех больше всего. Такова и логика употребления этого глагола в «Раковом корпусе»: «он излюбил и избрал простенок».
Не менее разнообразна и поучительна работа А. Солженицына с суффиксами, из которых он по обыкновению отбирает неизбитые и, кроме того, более экономные: «усовершился по коневодству» («Архипелаг Гулаг»), «кое-что и усовершил» («В круге первом»), «обнадёжные предвидения раздумчивых голов» («Пасхальный крестный ход»), «всклочила... волосы» («Раковый корпус») и т.д. Как правило, это помогает уйти от книжного или канцелярского слога к разговорному, иногда - сказово-былинному; такой эффект возникает, например, при замене существительного «воззвание» на «воззыв» («На возврате дыхания и сознания»), «восклицания» на «всклик» («Бодался телёнок...»). Думается, что употребление слов, созданных путём замены или сокращения тех или иных словообразовательных элементов - как корней, так и аффиксов - способствует приумножению лексических богатств современного русского языка и в некоторых случаях его омоложению.
Солженицынские тексты убеждают, что в языке уже есть всё: у глагола, воспринимаемого как одновидовой, оказывается, возможна пара, хотя бы и просторечная; сказав «стали «революционные идеалисты» очунаться» («...Колеблет твой треножник»), писатель употребил форму, вобравшую в себя содержательные оттенки и от одновидового «очнуться», и от парного просторечного «очухиваться - очухаться». То же произведение напоминает, что у глагола совершенного вида «приютить» в запасниках языка есть видовая, сегодня неупотребляемая пара - «приючать». Не останавливается писатель и перед использованием редких в прозе - в поэзии было - деепричастных авторских образований типа «плача или стоня» («Раковый корпус»). Убедительно, сообщая дополнительный экспрессивный оттенок, не содержащийся в нейтральных словах, работают в его текстах просторечные страдательные причастия: «Было угрожено, что его же и расстреляют» («В круге первом»), «успето и о Достоевском» («...Колеблет твой треножник»). При этом удивительной особенностью языка А. Солженицына является то, что вводимые им просторечия порой теряют в его произведениях сниженную окраску и воспринимаются едва ли не как литературные благодаря точному выбору слова для каждой конкретной ситуации.
Конечно, народность и «русскость» языка А. Солженицына - не только в том, что его герои говорят на живом наречии, подслушанном «в гуще народной», но и в том, что в своей языкотворческой работе он учитывает опыт разных пластов отечественной культуры - фольклора, реалистической прозы, поэзии «серебряного века» и, может быть, особенно - Марины Цветаевой и Владимира Маяковского. У Цветаевой тоже не «влюбляются», а «влюбливаются», не «впадают», а «впадывают в: память»; вместо «думайте» у неё - «думьте», вместо «нанизывай» - «нижи» и т.д. (см.: Зубова Л.В. Поэзия Марины Цветаевой: Лингвистический аспект. Л., 1989); и, наконец, в её стихах и поэмах тоже «сполошный колокол гремит...», как и у Маяковского с его «мечусь, оря», «приходится раздвоиться» («Прозаседавшиеся»), «еле расстались, развиделись еле», «приди, разотзовись на стих» («Люблю») и т.д. Иногда солженицынский синтаксис заставляет вспоминать резко своеобразный стиль Андрея Платонова. Вот примеры откровенных реминисценций: «должен домучиться ещё двадцать лет ради общего порядка в человечестве», «мысль не дошла до ясности» («В круге первом») и др.
По-видимому, одна из главных причин возвращения А. Солженицына на родину состоит в его намерении лично и «вблизи» участвовать в «обустройстве России». Ещё в семидесятые годы во время эмиграции он предупреждал об опасности, подстерегающей писателей, которые берут на себя роль обвинителей своего отечества и народа и, отрешившись от чувства совиновности, требуют покаяния лишь от других: «Эта их чужеродность, - считал он, - наказывает их и в языке, вовсе не русском, но в традиции поспешно-переводной западной философии» («Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни»). У писателя же, который не отгораживается от народной боли, по его мнению, гораздо больше возможностей стать «выразителем национального языка - главной скрепы нации, и самой земли, занимаемой народом, а в счастливом случае и национальной души» («Нобелевская речь»).
С А.И. Солженицыным можно и нужно спорить, но сначала - услышать и понять. И - да будет Слово Делом...
Л-ра: Русская речь. – 1996. – № 3. – С. 19-28.
Произведения
Критика