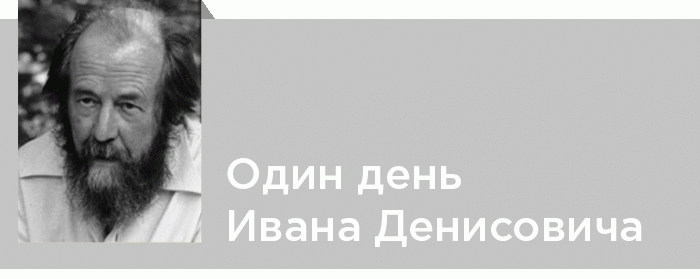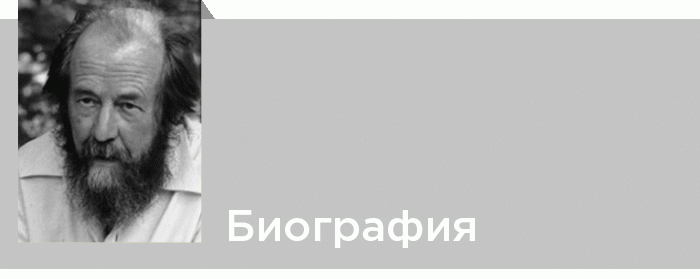Образность в «Архипелаге ГУЛаг» А.И. Солженицына
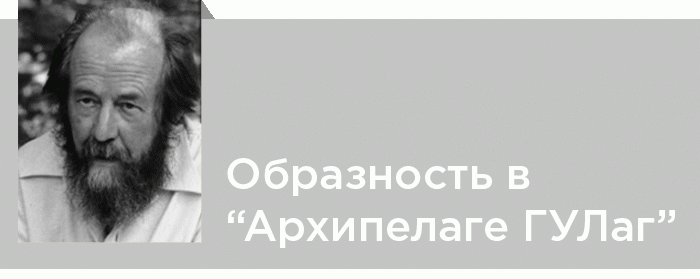
Т.В. Телицына
Внимание к образности в структуре «Архипелага ГУЛаг» обусловлено прежде всего авторским определением жанра этой книги — «опыт художественного исследования». А.И. Солженицын так его объясняет: «Это нечто иное, чем рациональное исследование. Для рационального исследования уничтожено почти все: свидетели погибли, документы уничтожены. То, что мне удалось сделать в “Архипелаге”, который, к счастью, имеет влияние во всем мире, выполнено методом качественно другим, нежели метод рациональный и интеллектуальный». «Там, где науке недостает статистических данных, таблиц и документов, художественный метод позволяет сделать обобщение на основе частных случаев. С этой точки зрения художественное исследование не только не подменяет собой научного, но и превосходит его по своим возможностям».
Автор сознательно использует метод, близкий к художественному в познании реальных событий, опирается на интуицию, творческие возможности художника, который в частном случае способен увидеть общее, типичное. «Художественное исследование — это такое использование фактического (не преображенного) жизненного материала, чтобы из отдельных фактов, фрагментов, соединенных, однако, возможностями художника, — общая мысль выступала бы с полной доказательностью, никак не слабей, чем в исследовании научном».
Художественное исследование, по мысли автора, внутренне не противоречиво. Взаимодействие двух различных методов познания действительности, исследовательского и художественного, предполагает, на первый взгляд, как бы разрушение одного из них. На самом же деле происходит взаимодополнение одного метода другим, а следовательно, одной системы элементов структуры, воплощающих этот метод, другой. Создается особый тип повествования, в котором художественное начало выступает продолжением исследовательского, а исследовательское вырастает из художественного. Поэтому особенно важно проанализировать образную систему «Архипелага ГУЛаг» — художественно-публицистического произведения, поскольку прежде всего на образном уровне его структуры реализуется художественный метод.
Главным фактором, формирующим структуру данного произведения, является публицистическая идея, доказательство которой и организует текст в единое целое. Эта публицистическая идея так глубока и многогранна, что автор нигде в произведении не выразил ее в законченной форме. На протяжении всей книги она получает свое развитие, уточняется, приобретает новые оттенки. Для того, чтобы читатель верно понял основную мысль, автор выстраивает сложную систему ее доказательства. В эту систему включается и образность. Она становится неотъемлемой составляющей структуры текста произведения. Это особенно хорошо видно при линейном его исследовании.
Уже во вступлении дается образный импульс всему дальнейшему повествованию, а в 1-й главе намечены основные виды образности.
Факт, сообщенный в заметке из журнала «Природа», о том, как на реке Колыме во время раскопок в линзе льда было найдено мясо рыбы или тритона, а затем съедено присутствующими, почти нейтрален по лексике. И не вызвал бы он особого читательского внимания, если бы в изложении не была выражена ироническая авторская модальность. Она играет особую роль и сосредоточена в зачине, комментарии и выводе.
«Году в тысяча девятьсот сорок девятом» — этот сказовый зачин контрастирует с последующим изложением содержания, нейтральным по модальности. В ходе повествования появляется ироническое авторское замечание — «свидетельствовал ученый корреспондент». Модальность лексики в следующем абзаце подчеркивает неверность читательских выводов после прочтения заметки, которые состояли в том, что журнал подивил читателей найденным рыбьим мясом.
Во фразе, завершающей сообщение, правильный логический акцент ставится благодаря именно авторской иронии: «Но мало кто из них мог внять истинному богатырскому смыслу неосторожной заметки».
Модальность заключительной фразы вызывает два вопроса у читателя: 1. В чем состоит истинный богатырский смысл заметки?
2. В чем неосторожность заметки? О чем она проговорилась?
Ироническое сообщение автора о заметке и ее содержании уже готовит читателя к противоположному, скрытому смыслу. Читатели не разгадали ее, так как подивились свежести рыбьего мяса, а, по мнению автора, внимание должны были привлечь те, кто съел рыбье мясо. Это — присутствующие на раскопках.
Чтобы сосредоточить внимание читателя на «присутствующих», автор в третьем абзаце создает картину поедания рыбьего мяса. Она утрированна, бремя действия убыстрено, как при замедленной съемке, модальность лексики ясно выражена:
«Мы — сразу поняли. Мы увидели всю сцену ярко до мелочей: как присутствующие с ожесточенной поспешностью кололи лед; как, попирая высокие интересы ихтиологии и отталкивая друг друга локтями, они отбивали куски тысячелетнего мяса, волокли его к костру, оттаивали и насыщались».
Ответ дается читателю в четвертом абзаце. Этими присутствующими было «единственное на земле могучее племя зэков, которое и вело раскопки на реке Колыме, и только зэки могли охотно съесть тритона.
Автор расставляет логические акценты в описанном эпизоде графическим выделением слов — присутствующие, зэки, охотно съели.
Сверхфразовое единство, состоящее из четырех абзацев в смысловом отношении завершено, сцеплено тематической лексикой. В трех абзацах повторяется слово присутствующие, а в четвертом на нем сделано логическое ударение. В первом и четвертом повторяются выражения: охотно съели их (1-й), охотно съесть тритона (4-й), как бы окаймляя сверхфразовое единство. (Повторы — знак особого авторского внимания.) Третье слово — зэки — выступает как ответ на вопрос: в чем «богатырский» смысл неосторожной заметки? В том, что она рассказала о зэках.
И Колыма уже стала не просто местом, где нашли замерзшее мясо тритона, а местом, где обитало «могучее племя зэков».
Пятый абзац посвящен Колыме, представленной следующими словесными образами: Колыма — «самый крупный и знаменитый остров», Колыма — «полюс лютости этой удивительной страны ГУЛАГ, географией разодранной в архипелаг, но психологией скованной в континент, — почти невидимой, почти неосязаемой страны, которую и населял народ зэков».
Образ Архипелага — как страны зэков — логически возникает из авторского рассуждения о заметке в газете. Он появляется не просто как метафора, а как логически объясненная метафора. То, что архипелаг становится действительно образным вариантом мысли о расположении лагерей в СССР, подтверждается дальнейшим раскрытием его сущности как цельного неделимого существа, обладающего своим характером, своей психологией, своим образом жизни.
В следующих абзацах — ответ на вопрос, в чем же неосторожность заметки. Она в том, что говорить о стране Архипелаг ГУЛаг было не принято. Исторические изменения в стране приоткрыли завесу тайны над Архипелагом, но выступило на свет «ничтожно малое». Автор понимает, что время уносит знаки Архипелага: «Иные острова за это время дрогнули, растеклись, полярное море забвения переплескивает над ними».
Образ Архипелага возник из логического рассуждения, документального материала и ассоциативного сопоставления. Эта черта характерна для публицистических произведений, где образность тесно связана с логикой рассуждения и часто возникает по мере развития мысли.
Уже вступление к книге дает понять, что это не просто исследование удивительной и жестокой страны Архипелаг — это публицистическое исследование. Последние два абзаца определяют задачу, стоящую перед автором: «Я не дерзну писать историю Архипелага: мне не досталось читать документов...», но «...может быть сумею я донести что-нибудь из косточек и мяса? — еще впрочем живого мяса, еще впрочем живого тритона».
Так, образом еще живого тритона завершается формулировка задачи исследования.
Смысловые куски этого текста, завершенные сами по себе, объединены между собой не только логикой мысли, но и развитием образного видения проблемы. В первом абзаце это просто факт — подземная линза льда с замерзшими представителями ископаемой фауны. В девятом абзаце — кости обитателей Архипелага, вмерзшие в линзу льда — это иносказание, а в последнем абзаце — косточки и мясо, еще впрочем живого мяса, еще впрочем живого тритона — это уже образ. Так вступление демонстрирует спаянность публицистической мысли автора с его образным видением темы рассуждения.
Образный тон, заданный в этой части текста книги, присутствует в дальнейшем повествовании. Обращение к художественной образности как бы пульсирует в зависимости от развития основной публицистической идеи, от поворотов мысли автора при рассуждении, от наличия или отсутствия документального материала, предоставляемого в качестве доказательства.
Для того чтобы наиболее верно проанализировать разновидности образов и организацию их в систему, необходимо определить параметр художественности.
Образ Архипелага, уже заданный во вступлении, проходит через всю книгу, обогащаясь в каждой главе за счет нового документального материала. Страстное публицистическое толкование и изложение материала насыщают его особым смыслом. Это единственный образ, который развивается во всей книге по мере исследования фактического материала. Становясь емким, образ Архипелага изменяет у читателя восприятие в дальнейшем повествовании документа, факта. Благодаря ему конкретные эпизоды, случаи, ситуации получают как бы единую образную точку преломления.
Логика рассуждения объясняет последовательность глав в книге, а внутри каждой главы — системную упорядоченность материала. Составляющей этой системы является образность, включенная в решение исследовательских задач.
Часть первая называется «Тюремная промышленность». Это название — метафора, охватывающая весь путь от ареста до тюремного заключения. Аналогия с промышленным производством выражает, безусловно, горькую иронию автора, подчеркивающую параллель между безликим производственным процессом и процессом переселения людей в страну зэков. Глава первая — «Арест» — это первый этап «тюремной промышленности». Начинается она вопросом, который определил логику дальнейшего повествования — «Как попадают на этот таинственный Архипелаг?» И почти сразу автор отвечает: «Те, кто идут Архипелагом управлять — попадают туда через училища МВД.
Те, кто едут Архипелаг охранять — призываются через военкоматы.
И далее автор, рассуждая об аресте, приводит метафорическое описание ощущения ареста. В риторических вопросах арест сравнивается с переломом всей вашей жизни, с ударом молнии в вас, с невмещаемым духовным сотрясением, с расколовшимся мирозданием. «Арест — это мгновенный разительный переброс, перекид, перепласт из одного состояния в другое».
Автор определяет арест именно как динамическое состояние, которое в данном и последующих примерах лексически выражено отглагольными существительными: хозяйничанье, взламывание, вспарывание, сброс, срыв, выброс, вытряхивание, рассыпание, разрывание, нахламление, хруст.
Обилие семантически близкой и образной лексики, передает оттенки этого состояния. Характеристика состояния ареста оформляется за счет деталей, которые органично вписываются в общую картину: «Это — бравый вход невытираемых сапог бодрствующих оперативников». Не входящие оперативники, а бравый вход сапог. И далее: «Это — ...напуганный прибитый понятой».
И опять в данном контексте понятой — не действующее лицо, а деталь картины ареста.
Картина состояния ареста передана через зрительные и слуховые знаки — нахламление, разрывание, стук, удар, звонок. Такой вариант образа можно назвать образ-тип состояния.
Образ-тип как разновидность публицистической образности в ряде работ изучает М.И. Стюфляева, но относит этот вид образности прежде всего к созданию обобщенного образа человека. Однако такое определение можно использовать и при анализе картины состояния. Образ-тип состояния близок к лирическому образу, но в нем проявляется в большей степени исследовательское начало, чем художественное.
По мере движения текста образный способ исследования ареста углубляется и предстает в новом варианте: «По долгой кривой улице нашей жизни мы счастливо неслись или несчастливо брели мимо каких-то заборов, заборов, заборов — гнилых деревянных, глинобитных дувалов, кирпичных, бетонных, чугунных оград. Мы не задумывались — что за ними? Ни глазом, ни разумением мы не пытались за них заглянуть — а там-то и начинается страна ГУЛАГ, совсем рядом, в двух метрах от нас. И еще мы не замечали в этих заборах несметного числа плотно подогнанных, хорошо замаскированных дверок, калиток. Все, все эти калитки были приготовлены для нас! — и вот распахнулась быстро роковая одна, и четыре белых мужских руки, не привыкших к труду, но схватчивых, уцепляют нас за ногу, за руку, за воротник, за шапку, за ухо — вволакивают как куль, а калитку за нами, калитку в нашу прошлую жизнь, захлопывают навсегда.
Все. Вы — арестованы!».
Этот вариант образности можно было бы назвать образом-моделью. Абстрагированность от реалий, конкретики, обращение к фантазии, условности позволяет сказать, что перед нами образное моделирование ситуации ареста. По мнению М.И. Стюфляевой, «Модельное представление неизбежно сопряжено с обеднением объекта, заведомой его примитивизацией; модель приобретает приблизительность за счет огрубления черт явления. Но именно эти, казалось бы, негативные с точки зрения эстетических законов свойства делают ее особенно ценной для использования в публицистическом творчестве».
Модель демонстрирует механизм движения в логически выверенной последовательности. Лексически этот механизм взаимодействия внутренних составляющих модели выражен в глаголах движения, так как именно они воплощают динамику ситуации: мы неслись, брели, не задумывались, не пытались, не замечали, нас уцепляют, вволакивают; за нами захлопывают. Все использованные глаголы несовершенного вида и создают впечатление протяженности, незавершенности, длительности процесса. Механизм в модели отчетливо выражен на уровне действующих лиц: мы — это обобщенное понятие, это и автор, и читатель, и те, кто «счастливо неслись», и те, кто «несчастливо брели». Мы включает всех, кто прошел через эту модель ситуации ареста, да и тех, кто мог столь же беспричинно пройти. Другие действующие лица — те, которые «уцепляли», «вволакивали», «захлопывали» — также представлены обобщенно: «четыре белых мужских руки, не привыкших к труду, но схватчивых...» Синекдоха в данном случае выступает как способ типизации, способ обобщения. Смоделированная ситуация предполагает четкое видение составляющих модели и механизма их взаимодействия: тех, кто «неслись» и «брели», хватают некие другие — «четыре белых мужских руки» — вволакивают, захлопывают.
Но эта модель не настолько оголена, чтобы стать схемой. Она предстала в образном варианте. Жизнь тех, кого арестовывают, представлена в виде долгой кривой улицы, за каждым забором которой «начинается страна ГУЛАГ». И еще в этих заборах несметное число хорошо замаскированных дверок, калиток, куда каждого могут вволочь, а калитку захлопнуть навсегда.
Двоякая природа этого образа-модели (с одной стороны — образ, с другой стороны — модель) тесно связана с его функциями в произведении. Их две: познавательная проявляется в модели, эстетическая — в образе. Эта сопряженность закрепляется и ролью автора, его позицией в произведении. С одной стороны, он публицист, который обращается к читателю, моделирует ситуацию, яснее представляя суть, а с другой стороны, он герой — один из тех, кто бредет или несется по долгой кривой улице жизни и за кем захлопывается калитка.
Как видим, образ-модель активно включается в повествование, вступает эквивалентом логического рассуждения.
Состояние — ключевое понятие на данном этапе исследования, только после образного раскрытия состояния ареста появляются документальные данные о нем. Повторы семантически близких слов тесно связывают документальные примеры с предшествующими образными определениями. Состояние ареста выглядит следующим образом:
«Это — взламывание, вспарывание, сброс и срыв со стен, выброс на пол из Шкафов и столов, вытряхивание, рассыпание» и далее читаем: «При аресте паровозного машиниста Иношина... Юристы выбросили ребенка из гробика, они искали и там. И вытряхивают больных из постели, и разбинтовывают повязки».
После такого описания автор как бы подводит итог: «Так представляем мы себе арест». Два ключевых слова — состояние и представляем — как бы окаймляют этот отрезок текста.
Далее идет разъяснение, что такое арест, иным способом. Рассуждение логически выстроено, фразы точны, лаконичны. Такое изложение представляет другой тип исследования. Вначале выдвинут тезис: «И верно, ночной арест описанного типа у нас излюблен, потому что в нем есть важные преимущества». Дальнейшее рассуждение об аресте вряд ли можно отнести к научному стилю изложения, это публицистическое исследование. При внешней чеканности фраз, точности объяснения, оно пропитано иронией автора, которая особенно заметна в наукообразной лексике: «Арестознание — это важный раздел курса общего тюрьмоведения, и под него подведена основательная общественная теория». Публицистичность рассуждения проявляется и в других формах: риторических восклицаниях, риторических обращениях, в обращениях к опыту читателя, в гипотетических выводах и т. д.
Задача, решаемая автором книги, предопределяет необходимость обращения к различным вариантам публицистической образности. Примером является образ-тип героя. Появляется он уже в первой главе. Это — арестуемый. Автор пишет: «Арестуемый вырван из тепла постели, он еще весь в полусонной беспомощности, рассудок его мутен». Это некий среднестатистический тип. По мнению исследователей, «среднестатистический человек» специфичен именно для публицистики, он является продуктом собственно публицистической типизации. Если художественный образ, обобщая действительность, «...раскрывает в единичном, преходящем, случайном — сущностное, неизменно пребывающее, вечное...», то образ-тип вбирает в себя то, что свойственно многим, в нем доминирует социологическое обобщение. Но именно благодаря этому он помогает точнее отражать социальный аспект анализируемой проблемы. С другой стороны, образ-тип потому становится образом, что воображением автора достроен, абстрагирован и уже существует самостоятельно как законченное целое. Его законченность проявляется в стремлении обобщить все оттенки героя этого типа. Так, тот же арестуемый может быть злоумен, он может предстать в виде какого-нибудь «безвестного смертного», замершего от повальных арестов или в виде «кролика». Существует даже «свеже-арестованный».
Но все: и злоумный арестуемый, и свеже-арестованный, и «кролик» входят в один образ-тип — арестуемый. тексте можно найти несобственно-прямую речь, принадлежащую некоему арестуемому: «Всеобщая невиновность порождает и всеобщее бездействие. Может, тебя еще и не возьмут? Может, обойдется?». «Большинство коснеет в мерцающей надежде. Раз ты невиновен — то за что же могут тебя брать? Это ошибка».
По мере исследования «племени зэков» образ-тип неоднократно появляется в книге А.И. Солженицына. Так, в следующих главах мы встречаемся с образами-типами: новичка зэка, интеллигентного зэка, человека чеховской и послечеховской России, доходяги. Появляются образы-типы других, обитателей страны ГУЛАГ: тюремщика, ОГПУшника. Образы-типы во многом определяют специфику образной системы книги.
Публицистическая часть исследования 1-й главы отличается наличием образа-типа героя (арестуемого) и словесными образами. Отдельно следует сказать об использовании поговорок в этой части повествования и в дальнейших главах книги.
Именно в части публицистического исследования мы впервые встречаем использование поговорки. Она завершает эпизод, где автор пишет об отсутствии сопротивления у арестуемых, потому что политические аресты «отличались у нас именно тем, что схватывались люди ни в чем не виновные, а потому и не подготовленные ни к какому сопротивлению». Эта бездейственность была удобна для ГПУ — НКВД. Абзац и заканчивается поговоркой «Смирная овца волку по зубам». В данном случае поговорка становится образным вариантом рассуждения о ситуации бездействия при политическом аресте. Модель отношений действующих лиц в поговорке (волк и овца) как бы накладывается на модель отношений «арестуемый — ГПУ — НКВД». Поговорка и пословица, попадая в контекст исследования, выполняют ту же функцию, что и образ-модель. Но если образ-модель создается фантазией автора, то пословица или поговорка заимствуется исследователем для своих публицистических целей на уровне речевой образности, как и тропы»
При анализе 1-й главы необходимо выделить еще одну особенность книги — ее мемуарное начало. И хотя автор неоднократно подчеркивает, что его книга — не мемуары, воспоминания — важная составляющая структуры текста. В этих частях книги по-иному проявилась ее художественность. В 1-й главе таких эпизодов три. Функцию первого эпизода можно было бы условно назвать мемуарным аргументом, так как эпизод из личного опыта приводится в качестве аргумента к тезису, почему арестуемые не сопротивлялись и не кричали. О своем молчании автор не просто сообщает, но анализирует причины его. Он как бы отделяется от себя, арестованного. Тот начинает существовать отдельно, становится одним из «большинства». Публицистическая заостренность анализа возможна потому, что арестованный удален от автора временем, жизненным опытом, мировоззрением. «Я молчал в польском городе Бродницы — но, может быть, там не понимают по-русски? Я ни слова не крикнул на улицах Белостока — но, может быть, поляков это все не касается? Я ни звука не проронил на станции Волковыск — но Она была малолюдна, так что ж я молчу??!..»
Мемуарный отрывок построен на рассуждении, лишен образных средств, он как бы продолжает предшествующее публицистическое изложение.
Второй мемуарный эпизод имеет описательный характер. В контексте всей главы он выглядит как иллюстрация, как художественный аргумент — картина ареста автора. Это частный случай в исследовании большого числа реальных событий, но прочувствованный, глубоко понятый, в деталях воспроизведенный и образно описанный.
В этом мемуарном отрывке обращает на себя внимание образ конкретного лица — комбрига. Все действующие лица ареста названы нарицательно: комбриг, офицерская свита, двое контрразведчиков, смершевцы. Даны как бы условные названия. Комбриг в общей массе, он один из них, но это не маска, не роль, а живой человек. И его человеческая суть раскрывается именно в кульминационном моменте ареста. «Немыслимые сказочные слова» комбрига становятся рубежом превращения просто комбрига в Захара Георгиевича Травкина.
Соответствует этому движению авторская характеристика. Ее можно поделить на две половины: одна — характеризует комбрига до ареста, другая — во время ареста. Арест автора для комбрига как момент самоочищения, когда скрытые человеческие качества вдруг «вырвались» наружу. На наших глазах как бы рождается новый человек: «Его лицо всегда выражало для меня приказ, команду, гнев. А сейчас оно задумчиво осветилось — стыдом ли за свое подневольное участие в грязном деле? порывом стать выше всежизненного жалкого подчинения?».
Все остальные участники ареста так и остаются безликими — «свита штабных в углу». Поступок же комбрига выделяет его на фоне других действующих лиц.
«И хоть на этом мог бы остановиться Захар Георгиевич Травкин!
Но нет! Продолжая очищаться и распрямляться перед самим собою, он поднялся из-за стола (он никогда не вставал навстречу мне в той прежней жизни!), через чумную черту протянул мне руку (вольному, он никогда мне ее не протягивал!) и, в рукопожатии, при немом ужасе свиты, с отепленностью всегда сурового лица сказал бесстрашно, раздельно:
— Желаю вам — счастья — капитан!».
Перед читателем, как бы очищаясь, рождается новый человек. Его душевное «распрямление» совпадает даже с движением тела — «поднялся из-за стола». Динамика образа видна в выделенной нами лексике: лицо всегда выражало приказ, команду, гнев — сейчас осветилось; никогда не вставал — поднялся из-за стола; никогда мне ее не протягивал — протянул мне руку; всегда суровое лицо — отепленность.
Образ закончен, вписан в эпизод, поэтому сведения о дальнейшей судьбе комбрига вынесены автором в сноску.
В создании образа конкретного лица можно выделить два основных варианта. Первый — тот, который проанализирован нами на примере образа как способ близкий к художественному, где представлен человек во всей своей глубине, многогранности, даже если он создан штрихами, кратко. (Такой вариант в книге А. Солженицына встречается в основном в мемуарных эпизодах.) Второй вариант — это публицистический способ создания образа конкретного человека, когда определяющей становится социальная роль личности. Человек предстает прежде всего в тех обстоятельствах, в которых он раскрывается как представитель той или иной партии, группы населения, среды. Например, образ Нафталия Френкеля, одного из «идеологов» Соловков. Для автора важна в этом варианте образа документальная основа. Он дает биографические данные Нафталия, отсылает читателя к фотографии. Все повествование о нем строится как доказательство бесчеловечной сути тех, кто помогал создавать лагеря. Если комбриг — это неповторимая человеческая личность на фоне безликой посредственности, то Нафгалий Френкель — лишь один из многих. «Он был из тех удачливых деятелей, которых История уже с голодом ждет и зазывает». К публицистическому варианту образа конкретного лица можно отнести образ инженера-силикатчика Ольги Петровны Матрониной. Образ конкретен, но для исследования автору важно другое: «Она — из тех непоколебимо-благонамеренных, которых я уже немного встречал в камерах...». Образ генерал-майора авиации Александра Ивановича Беляева — иной тип. Он представитель высшего офицерского состава, который особым образом видел мир зэков и себя в нем: «Вытянутый, он смотрел над толпой, как бы принимая совсем другой, не видимый нам парад».
Третий мемуарный эпизод первой главы сюжетно как бы продолжает второй — это описание того, что случилось с автором после ареста. И вместе с тем, он позволяет отключиться от личности автора, ввести в повествование рассказ о других арестованных на фронте. Этот эпизод завершает главу, создавая картину состояния ареста и первых минут жизни арестованных. Он заканчивается образным выражением: «Таковы были первые глотки моего тюремного дыхания».
Глава не только логически, но и образно завершена.
Сложность особого исследовательского типа повествования определила ее композиционную сложность. Начинается глава с образного изображения ареста, затем следует публицистическое рассуждение и завершается глава мемуарными эпизодами, художественно воссоздающими картину ареста. Другие главы строятся по-другому в зависимости от материала, цели и задач исследования. Соответственно этому складывается и образная система внутри каждой главы и книги в целом. Указанные варианты образности — лишь основные. В нашем анализе они могут показаться разрозненными, если мы не вернемся к сквозному, главному образу Архипелага.
Намеченный во вступлении к книге, этот образ продолжает развиваться. По мере повествования начинает «оживать», а к концу первой части «ненасытный Архипелаг» уже «разбросался до огромных размеров». Часто образ Архипелага открывает отдельную главу, как бы давая образный импульс для последующего документального материала (в главе 2-й, 4-й второй части, в главе 1-й, 3-й, 7-й третьей части) или заканчивает документальный материал главы (в 5-й, в 14-й главе третьей части).
Этот обобщающий образ становится символом. Он и связан с фактическим материалом и уже стоит над ним, живя какой-то своей жизнью. Образа Архипелага — символ беззакония, символ несправедливости и антигуманности. Он выражает идейную сущность произведения. А.Ф. Лосев пишет: «...символ вещи есть ее закон и в результате этого закона определенная ее упорядоченность, ее идейно-образное оформление».
«Архипелаг ГУЛаг» представляет собой художественно-публицистический тип произведения на документальной основе. В нем сосуществуют три начала: документальное, публицистическое и художественное. Соответственно этим началам организовалась и система образных средств. Она слагается из таких вариантов образности: образ-тип состояния, образ-тип человека, образ конкретного лица, образ-символ, образ-модель, словесные образы. Взаимодействие этих образных вариантов и организация их в систему обусловлена публицистической задачей каждой главы и книги в целом.
Л-ра: Филологические науки. – 1991. – № 5. – С. 14-24.
Произведения
Критика