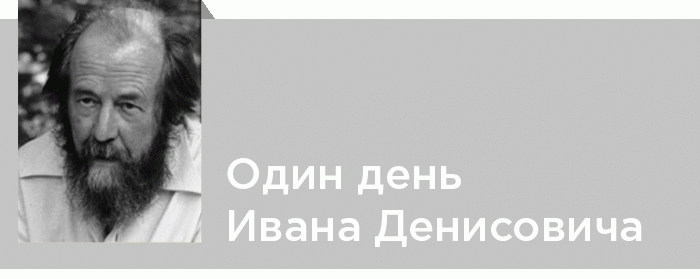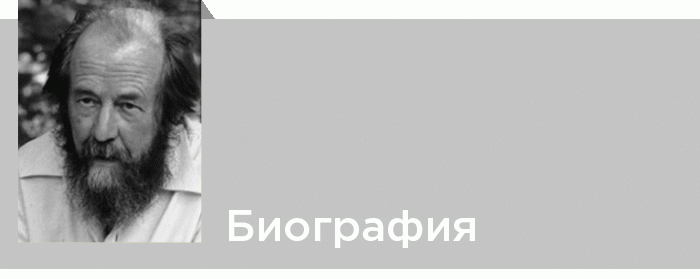Геометрия ада: поэтика пространства и времени в повести «Один день Ивана Денисовича»

Ричард Темпест
Действие многих произведений Солженицына разворачивается в замкнутом, искусственно созданном пространстве — тюрьме, крестьянской избе, лагере, больнице, — имеющем собственную топографию, историю, а иногда даже флору и фауну. Каждый из этих изолированных миров населен группой людей, маленькой моделью человечества, с собственной социальной иерархией и человеческими взаимоотношениями. Герои «Одного дня Ивана Денисовича», «Ракового корпуса» и «В круге первом» страдают, чувствуют, передвигаются, работают, разговаривают, спорят, вспоминают и размышляют, находясь в неизменно геометрически правильных пространствах — кубах, параллелепипедах, призмах, цилиндрах. Их бытие физически ограничено и определено пространством, являющимся функцией таких констант человеческого существования, как одиночество, бедность, болезнь, неволя.
За пределами этого ограниченного и ограничивающего пространства, населенного героями Солженицына, расположено еще одно — это поселок Торфопродукт в «Матренином дворе», город Москва «В круге первом», город Ташкент в «Раковом корпусе». Драматическое единство замкнутого пространства распадается, когда повествование прорывается в эту внешнюю, более открытую область. Заключенные в «Одном дне...» не могут попасть во внешний, окружающий лагерь мир. Город и деревня становятся для них лишь воспоминаниями, похожими больше на сон, как, например, у Ивана Шухова.
События, описанные в повести, происходят внутри нескольких замкнутых пространств: в Особлаге, на стройке и в других пространствах, в них заключенных, — бараках, санчасти, столовой и авторемонтной мастерской. Только когда колонна зэков идет на стройку и обратно, повествование охватывает открытую, ничем не ограниченную и не размеченную территорию. Но даже здесь зэки следуют установленному пути (по прямой), свернуть с которого в буквальном смысле слова означает смерть.
Иерархия и личные взаимоотношения заключенных Особлага представляют собой некое четвертое измерение, дополняющее трехмерное замкнутое пространство, в котором разворачивается действие. Я употребляю слово «измерение» сознательно, поскольку в описании социальной структуры лагерного сообщества и в постоянном подчеркивании геометрической структуры самого лагеря прослеживается единство авторского стиля, образности и художественной цели. Герои «Одного дня...» населяют не только определенное географическое и геометрическое пространство, но и особый тип пространства социального.
В одном из интервью 1966 года он заявил: «При художественном подходе всякое частное явление становится, если пользоваться математическим сравнением, «связкой плоскостей»: множество жизненных плоскостей неожиданно пересекаются в избранной точке».
Мудрец, портной, солдат, моряк, богач, воришка и бедняк — вся галерея социальных типов, перечисленных в этом детском стишке, обнаруживается на клочке степи, отгороженном от мира колючей проволокой. Лагерное сообщество в высшей степени иерархично. Оно, если говорить языком антропологии, поделено на разряды. В самом низу находятся подобные шакалу Фетюкову, опустившиеся до облизывания мисок в лагерной столовой; ниже не бывает. Это парии, у которых один конец — смерть. За ними следуют заключенные, выполняющие общие работы — тяжелый ручной труд на стройке за зоной. Эти люди, поделенные на бригады, образуют лагерное большинство. Затем идут помбригадиры, бригадиры, а за ними придурки, выполняющие различные работы внутри лагеря: повара, парикмахеры, художники, медицинский персонал. Далее следуют ненавидимые всеми стукачи и провокаторы, такие, как злющий Дэр или старший барака, уголовник, который «не боится никого. Наоборот, его все боятся. Кого надзору продаст, кого сам в морду стукнет». Затем идут надзиратели и охранники. И, наконец, на вершине этой социальной пирамиды стоит начальник лагеря, зловещая, одинокая и таинственная личность, чьего имени мы так никогда и не узнаем.
Особый лагерь можно рассматривать как мрачную пародию на идеальное государство Каллиполис, описанное в «Республике» Платона. Греческий философ разделил население своей утопии на три класса: стоящие во главе государства правители; стражи или воины, исполняющие их волю; работники, наиболее многочисленный и наименее привилегированный класс. Эти параллели с Платоном могут быть продолжены. Существующее в Особлаге искусство, как и в платоновском Каллиполисе, призвано служить государству: стены в клубе, расписанные, надо полагать, тремя художниками-зэками, являются, как нам кажется, примером кича эпохи соцреализма, пропагандой, зовущей трудящиеся массы к всемерному повышению производительности труда. Кроме того, те же три художника рисуют заключенным их номера (еще один вид полезной деятельности) и, работая на стороне, обеспечивают начальников подходящими слащавыми портретами, изображающими их самих и членов их семей, или же красивенькими пейзажами, приятными для начальственных глаз.
Шанс выжить у каждого заключенного впрямую зависит от типа пространства, в котором он работает. Обычные зэки трудятся в голой степи, где им приходится не только изнурять себя физически, но и терпеть непогоду: «Свистит над голой степью ветер — летом суховейный, зимой морозный». Придурки выполняют легкую работу в помещении, где тепло и довольно удобно, например в посылочной или столовой.
Кроме основной иерархии статусов или каст существуют и другие иерархи» этой маленькой модели человечества, основанные на многочисленных различиях лагерных обитателей — по возрасту, тюремному опыту, характеру, национальности, профессии, религии, образованию, политическим взглядам, благосостоянию, здоровью.
Есть и еще одно измерение в мире, описанном в этом рассказе, — творческое.
В предисловии к «Архипелагу ГУЛАГ» Солженицын называет систему советских лагерей «удивительной страной... почти невидимой, почти неосязаемой страной, которую и населял народ зэков». Как и трехтомное «художественное исследование» этой странной и ужасной страны, «Один день...» был призван сделать невидимое видимым, неощутимое ощутимым, а массы загнанных безымянных зэков превратить в конкретных живых и страдающих людей.
Впечатление, произведенное повестью на советских читателей, было таким сильным, что ее автора, неизвестного провинциального учителя, многие стали называть вторым Толстым. Вот как описывает современник свои чувства после прочтения солженицынской повести: «Но вот я начал читать саму повесть и почувствовал, что постепенно переношусь в другой мир. Но переношусь не так, как это бывает при свободном погружении в мир приятных впечатлений или когда сильные впечатления сами вторгаются в твой мир и заполняют его собой. В этот другой мир я входил сам, медленно и трудно, продираясь через непривычные языковые формы и стилистическую структуру, прорывая разделяющую наши миры духовную ткань, оплетенную колючей проволокой и покрытую ледяными наростами, преодолевая шок и растерянность, вызванные необычностью этого мира, его обитателей, их поступков и мыслей, их жизни (их не жизни!). <...> Это было так трудно, что через некоторое время я почувствовал физически — дальше не могу. Я поднял глаза от книги и огляделся: тут тоже вокруг меня были огни и люди — но не освещенная прожекторами зона со снующими по ней зеками, а светлый читальный зал с задумчиво-спокойными читателями. Я не мог оставаться на месте и вышел из зала. <...> Я снова углубился в чтение и снова был вынужден прервать его через некоторое время, чтобы перевести дыхание. Так повторялось несколько раз».
Читатель (или, если использовать современный термин, получатель информации) испытывает состояние, определенное Кольриджем в его «Литературной биографии» как «сознательный отказ от неверия». Это такое основанное на доверии восприятие, при котором человек, читающий литературное произведение, готов поверить в реальность описанных в нем персонажей, событий и обстановки. Но воздействие повести Солженицына на этого читателя было столь сильным, что «сознательный, отказ от неверия» стал для него слишком болезненным, почти невыносимым, хотя (а возможно, и потому что) он удобно устроился в специальном помещении — в читальном зале библиотеки, — созданном именно для того, чтобы способствовать возникновению у читателя такого восприятия.
Такой транслитературный опыт близок воздействию, которое оказывает на верующего художественное описание апокалипсиса или ада. Если в знаменитой патриотической песне 1935 года Советский Союз изображен земным раем, где «так вольно дышит человек», то в «Одном дне Ивана Денисовича» он становится местом, где каждый вздох может оказаться последним.
Ад как образ, метафора, тема часто возникает в русской и западноевропейской литературе: «У ада нет границ... где мы — там ад» (Марло); «Мое «я» есть ад» (Мильтон); «Ад — это город, так похожий на Лондон» (Шелли); «Ад — это ты сам» (Т. С. Элиот); «Ад — это другие» (Сартр). Грозовой перевал в одноименном романе Эмилии Бронте является жилищем дьявола; здесь чувствуется аллюзия на мильтоновский «Потерянный рай». У Гоголя в «Мертвых душах» вся Россия изображена как некая серая преисподняя, где путешествующий Чичиков выторговывает себе право владеть душами умерших крестьян у галереи сменяющих друг друга скотоподобных, в чем-то даже дьяволоподобных помещиков. Гоголя вдохновила «Божественная комедия», его поэма задумывалась как первая часть будущей трилогии, в которой Россию предполагалось изобразить в виде ада, чистилища и рая. Роман Солженицына «В круге первом» содержит огромное количество аллюзий на знаменитую поэму Данте, начиная с названия, хотя здесь ад возникает как видоизмененный литературный образ, в котором религиозная составляющая заменена художественной.
Если в романе Солженицына секретная лаборатория со штатом ученых-зэков является первым кругом советского ада, то Особлаг — одно из его низших колец, хотя и не самое низшее, ибо существуют и более ужасные места в ГУЛАГе, как, например, лагеря, описанные Варламом Шаламовым в «Колымских рассказах» (или лагерь в Усть-Ижме, где Иван Денисович провел первые годы заключения).
Из всех мучений, которые должны вытерпеть политические «грешники», главное — пытка холодом. Лед и снег, без сомнения, являются важным элементом в традиционных описаниях ада. Так, в «Апокалипсисе Павла», раннехристианском тексте, относящемся еще к римской эпохе, мучения грешников изображены не только в огненных ямах, но и в ямах снеговых. В «Видении Тандала» (1149) герой Тандал, ирландский рыцарь, сошедший в ад, видит «гору, с огнем на одной стороне, льдом и снегом на другой и бурями с градом между ними». В другой книге двенадцатого века «Экклезиасте» перечисляются девять мучений, которым подвергаются грешники, и одно из них — пытка невыносимым холодом. Эти и подобные им произведения сформировали определенную традицию, оказавшую влияние на Данте и позднее на Мильтона, чьи описания ада до сих пор остаются наиболее известными в западноевропейской литературе.
Особлаг в ледяных степях Казахстана напоминает области мильтоновского ада, описанные во второй книге «Потерянного рая». За четырьмя адскими реками — Стиксом, Ахероном, Коцитом и Флегетоном — по ту сторону Леты, реки забвения,
Простирается страна
Морозов лютых, — дикий мглистый край,
Терзаемый бичами вечных бурь И вихрей градоносных; этот град,
Не тая, собирается в холмы Огромные, — подобие руин Каких-то древних зданий. Толща льда И снега здесь бездонна, словно топь.
У Мильтона грешников терзают в аду огнем и льдом попеременно, «И воздух здесь/ Пронизывает стужей до костей/ И словно пламя жжет».
Самое страшное место в Особлаге — карцер: «...стены там каменные, пол цементный, окошка нет никакого, печку топят — только чтоб лед со стенки стаял и на полу лужей стоял. Спать — на досках голых, если в зуботряске улежишь, хлеба в день — триста грамм, а баланда — только на третий, шестой и девятый дни». Десять суток карцера означают на всю жизнь здоровья лишиться. А пятнадцать суток все равно что смерть. Вспоминаются слова Мильтона о мучениях грешников — «Из пламени бросают их на льды».
И все же если Особлаг — ад, то именно советский, со всей продажностью, абсурдом и неэффективностью советской системы в целом. Начальники растрачивают, зэки воруют; первые — чтобы разбогатеть, вторые — чтобы выжить. Качество работы в основном низкое, если не считать — что немаловажно — построенный на совесть карцер; заключенные, самые настоящие рабы, не имеют стимула к хорошей работе. Стройка с вялыми рабочими, полуразвалившимися сараями и брошенными материалами — картина, знакомая всем, кто хоть раз был в Советском Союзе.
Иногда абсурд лагерного режима носит интернациональный характер — он является одним из видов наказания. В особых лагерях, пишет Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ», надзиратели записывают номера заключенных, виновных в нарушениях правил, и требуют от них «объяснительных записок» — хотя ручка и чернила запрещены, а бумага не выдается. Именно такие записки должны предъявить Цезарь и Буйновский в конце дня, и именно так от имени зэков оправдывает перед надзирателем их отсутствие бригадир Тюрин.
«Кочевник постоянно находится в движении, ест и пьет, когда может, обязан выстоять в любую погоду, радуется мелким подаркам судьбы, все его вещи должны складываться за минуту, его пища следует вместе с ним». Правда, Шухов и другие заключенные не кочевники, хоть и живут в степи, традиционной среде обитания кочевых племен. Но подобно последним, они в постоянном движении, вечно в пути, всегда готовы встретить ярость природы или человека. Как бедуин или индеец прерий, Шухов может определить время дня по солнцу. Отправляясь на стройку, он надевает на себя всю одежду, несет запас еды (краюху хлеба, сэкономленную за завтраком) и все имеющиеся у него деньги, спрятанные в подкладке телогрейки.
Одежда для Шухова — как панцирь для черепахи. Словно этнограф, описывающий одеяния какого-нибудь неизвестного племени, Солженицын в мельчайших подробностях описывает покрой и назначение каждого куска ткани, покрывающего тело и даже лицо Шухова. Знающий читатель ощущает в описании этих истертых тряпок связь с реальной жизнью самого Солженицына. Когда мы впервые встречаемся с героем, он лежит на вагонке, с головой накрывшись одеялом и бушлатом, просунув обе ступни в подвернутый рукав телогрейки. Такая же тюремная телогрейка упоминается в рассказе «Матренин двор», когда Игнатич, alter ego автора, просто накрывает себе ноги этим ветхим одеянием: «Телогрейка эта была мне память, она грела меня в тяжелые годы». Изношенную телогрейку можно увидеть и на известной фотографии Солженицына в тюремной одежде — он сфотографировался после освобождения из особого лагеря в Экибастузе; в ней же он колол дрова для печки в Рязани, о чем рассказывается в очерках «Бодался теленок с дубом».
«Один день...» содержит полную космографию шуховского мира. История начинается с небольшого пассажа, «локализующего» действие в пространстве и времени: «В пять часов утра, как всегда, пробило подъем — молотком об рельс у штабного барака. Прерывистый звон слабо прошел сквозь стекла... За окном... была тьма и тьма, да попадало в окно три желтых фонаря, два — на зоне, один — внутри лагеря». Чтобы быть услышанным главным героем, звон молотка сначала проносится сквозь метры открытого пространства между штабным бараком и бараком Шухова. Затем проникает внутрь сквозь слой льда на окне. Резкий звук приглушает не расстояние, а оконная наледь. Упоминание льда на окне является первым свидетельством сурового климата и вводит одну из основных тем произведения — тему холода, снега и ветра, представляющих собой главную физическую угрозу здоровью и самой жизни заключенных.
Так устанавливается связь между пространством, временем, температурой воздуха и цветом — четырьмя физическими характеристиками, постоянно подчеркиваемыми в ходе повествования. По мере того как Иван Шухов выполняет необходимые дела внутри и вне зоны, автор определяет пространство, измеряет время, перечисляет цвета, отмечает воздействие холода и тепла на организм зэков.
Когда Шухов выходит из барака, перед нами возникает более широкая панорама лагеря: «Два больших прожектора били по зоне наперекрест с дальних угловых вышек. Светили фонари зоны и внутренние фонари. Так много их было натыкано, что они совсем засветляли звезды». Перекрещивающиеся лучи соединяют между собой противоположные углы квадратной или прямоугольной территории лагеря. Три стоящих по периметру фонаря, можно увидеть с места, которое занимает рассказчик у окна в бараке. Теперь мы понимаем, какой маленький участок зоны виден в это окно, и начинаем себе представлять местоположение шуховского барака.
Шухов все время чем-то занят. Утром и вечером он ходит по зоне, входит и выходит из разных помещений (при этом у него всегда есть на то определенная причина или цель). В колонне с другими зэками он идет на стройку и обратно. Там согревается в авторемонтных мастерских, ест в халабуде и кладет кирпич на морозе. Передвижения Шухова в течение дня соотнесены с геометрией пространства, ограниченного периметром зоны и стройплощадкой. У читателя возникает нечто вроде воображаемой координатной сетки, сквозь которую он наблюдает за действиями героя. Заборы, вышки, бараки, двери, окна — вот ее поверочные точки.
Лагерь расположен в голых степях центрального Казахстана. Равнинность — отличительная черта окружающего пейзажа. Она подчеркивается позой зэков: они съежились и пригнулись от холода, колонна идет на работу «руки держа сзади, а головы опустив». Пройдя мимо зданий, построенных ими ранее, заключенные выходят в открытую, заснеженную степь «прямо против ветра и против краснеющего восхода» (так нам становится известно, в каком направлении они движутся). Вспомним, каким видит ад Клавдио в шекспировской драме «Мера за меру»:
Но умереть... уйти — куда не знаешь...
Лежать и гнить в недвижности холодной...
Чтоб то, что было теплым и живым,
Вдруг превратилось в ком сырой земли...
Чтоб радостями жившая душа Вдруг погрузилась в огненные волны,
Иль утонула в ужасе бескрайнем Непроходимых льдов, или попала
В поток незримых вихрей и носилась,
Гонимая жестокой силой, вкруг Земного шара...
Когда колонна приходит на стройку, солнце уже поднялось, и мы можем рассмотреть местность: «Напересек через ворота проволочные, и через всю строительную зону, и через дальнюю проволоку, что по тот бок, — солнце встает большое, красное, как бы во мгле». Образ солнца, увиденного читателем через колючую проволоку, глубоко символичен и говорит о многом, учитывая, что автор предоставляет читателю самому закончить картину. Мысленно следя за тремя уходящими фигурами — двумя охранниками, отправляющимися каждый на свою вышку (вышки эти названы «дальними»), и начальником караула, идущим на вахту, — мы получаем представление о размерах и плане стройки.
Иногда разметка пространства происходит на очень небольшом участке — не в метрах, а в сантиметрах. В санчасти Шухов наблюдает за Колей Вдовушкиным, молодым фельдшером, который «писал ровными-ровными строчками и каждую строчку, отступя от краю, аккуратно одну под одной начинал с большой буквы. Шухову было, конечно, сразу понятно, что это — не работа, а по левой».
Ясно, что Коля пишет стихи. Догадливый читатель видит фельдшера глазами непонимающего Ивана Денисовича, и перед нами возникает пример толстовского тропа — остранения.
Временные параметры повествования заданы в самом названии. Хотя иногда сообщается о конкретном времени суток, в целом же время определяется распорядком лагерной жизни: подъем, вынос параши, завтрак, развод, уход колонны на стройплощадку, перерыв на обед, приход в лагерь, вечерний пересчет, ужин, вечерняя проверка, отбой. У Ивана Денисовича инстинкт —«какими-то часами там, в нутре своем», он чует этот неизменный тюремный ритм.
Чтобы определить время, Шухов вынужден полагаться на естественный хронометр своего желудка (или на солнце), потому что привилегия знать время принадлежит начальству — «заключенным часов не положено, время за них знает начальство». Зэки смотрят не на часы, а на градусник: когда температура опускается ниже сорока градусов, они освобождаются от общих работ.
Опустошенный организм Ивана Денисовича стал своего рода календарем. Он замечает, как дни сменяют друг друга, по растущей бороде: «Свободной рукой еще бороду опробовал на лице — здоровая выперла, с той бани еще растет, дней более десяти... Еще дня через три баня будет». (Так мы узнаем, что заключенным разрешено мыться два раза в месяц — пример характерной для Солженицына повествовательной экономии.) Тяжелые годы оставили след на лице и руках Шухова, челюсть была повреждена на реке Ловать, когда он сражался с немцами; немало зубов он потерял, болея цингой в 1943 году в усть-ижменском лагере; кожа на пальцах рук так огрубела, что он может держать сигаретный окурок за самый огонь, не обжигаясь; лицо у него «ко всему притерпевшееся».
В Особлаге время — ценный товар; не деньги, а время является в зоне разменной монетой. Полтора часа между подъемом и разводом Шухов использует, чтобы «подработать». Вечером он занимает очередь в посылочной, чтобы сэкономить Цезарю время. За что в благодарность Цезарь дает ему хлеба. А вот один из обитателей лагеря украл время у других. Опоздав, зэк задержал колонну, возвращавшуюся в лагерь: «Да ведь шутка сказать, больше полчаса времени у пятисот человек отнял!» Умножив тридцать минут на пятьсот, получим двести пятьдесят часов: несчастный молдаванин виновен в краже целых десяти дней у своих солагерников!
Лагерная космография включает также описание запахов, красок, животной и растительной жизни. Запахи в этом мире зависят от температуры воздуха. В мороз они едва ощутимы. Только когда в конце дня Шухов оказывается в относительно теплом бараке, он способен их различать: «быстрым взглядом и подтверждающим нюхом» он разведал, какую еду получил Цезарь в посылке; бурда в бочке лишь отдаленно напоминает чай и пахнет она «древесиной пропаренной и прелью». Отметим, что ни разу не говорится о зловонии параши, стоящей в бараке: человек привыкает к самому ужасному смраду, если вынужден дышать им достаточно долго.
В тексте упоминаются девять цветов: черный, желтый, белый, голубой, зеленый, красный, коричневый, розовый и серый. Картина зоны решена в основном в следующих цветах — черная ночь, белый снег, множество ярких желтых огней, испещривших лагерь. Других насыщенных цветов немного. Рассвет какой-то туманный, каша, которую Шухов ест на завтрак, «желтая», стекло на столе в санчасти «зеленоватое»; голубые петлицы на шинели Татарина «замусленные»; электростанция похожа на «скелет серый», а солнце «мглистое».
Фауна этого пустынного места ограничивается сторожевыми собаками, наводнившими шуховский барак клопами и больничной кошкой. Что касается растительности, то мы узнаем, что «хлеб растет в хлеборезке одной, овес колосится на продскладе». «И деревца во всей степи не было ни одного». Вышки, а не деревья возвышаются среди снежных равнин.
В этом голом, равнинном, холодном, бесцветном аду научился выживать Шухов. «Выживание... это умение отказываться и сопротивляться, а способность человека выдержать нечеловеческие трудности, его маленькие победы над мощной разрушающей силой являются видом жизнеутверждающего упорства», пишет Теренс де Пре. Исследователь подробно разбирает нравственную и человеческую ценность благородного долготерпения в экстремальных условиях, демонстрируемого Иваном Денисовичем и другими героями Солженицына. Можно добавить, что найденные Шуховым способы выживания, как почерпнутые им у других, так и придуманные своим умом и основанные на собственных талантах, являются проявлениями неукротимости его духа, свидетельством его неизменной человечности. Есть странная поэтичность в описании того, как заключенный Щ-854 использует свою скудную пайку и ветхую одежду, чтобы выстоять наперекор стихиям. В одной из самых трогательных сцен романа Иван Денисович испытывает почти восторг, поглощая миску баланды. В книге 9 своей «Республики» Платон описывает процесс, посредством которого человек возвращается к своему естественному состоянию: он ест, когда голоден; спит, когда устал; восстанавливает здоровье в случае болезни. Такие чувственные удовольствия, объявляет Платон, «всего лишь тени и картины истинного», последнее же есть «мудрость и добродетель». Сам того не ведая, Шухов опроверг древнего философа, ибо научился привносить в акт простого приема пищи (или выздоровления от болезни) «мудрость и добродетель».
Ивану Денисовичу не присущ ни нравственный самоанализ, ни богословские размышления. В его сознании нет места теодицее — объяснению того, как безграничную доброту всемогущего Бога можно примирить с реальностью и преобладанием зла. Он никогда не задает вопроса Ханны Арендт: «Где был Бог в Аушвице?» Он скептически относится к действенности молитвы: «Молитвы те, как заявления, или не доходят, или «в жалобе отказать», говорит он баптисту Алешке. Всем известно, что ад — это место вечного возмездия, где душа грешника не знает конца мучениям. Кажется, что, по крайней мере для Шухова, Особлаг и есть такое место, откуда молитвы не доходят до Бога.
На самом деле мировоззрение Шухова скорее иррационально и мифологично, он не похож на убежденно верующего человека. О Боге он говорит Буйновскому, атеисту сто четвертой бригады: «Как громыхнет — пойди не поверь!». А также сообщает своему ученому собеседнику, что крестьяне из его деревни уверены, что старый месяц Бог на звезды крошит. Похоже, что в споре о степени истинной религиозности русского народа, начатом склонявшимся к мистицизму Н.В. Гоголем и критиком-радикалом В. Г. Белинским еще в 1847 году, Солженицын солидаризируется с последним!
Андрей Прокофьевич Тюрин, сильный характером бригадир, верит в ветхозаветного Бога мщения, наказующего людей за содеянное ими зло. Командиры, изгнавшие его из армии за то, что он сын кулака, сами были расстреляны в годы террора. Тюрин вспоминает, как, узнав об этом, он перекрестился и сказал: «Все ж ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьешь». Хотя тут же говорит, что в 1937 году было совершенно неважно, «были они пролетарии или кулаки. Имели совесть или не имели...» Кроткая и смиренная вера Алешки резко отличается от суровости, присущей вере Тюрина. «Молиться надо о духовном, — говорит Алешка, — чтоб Господь с нашего сердца накипь злую снимал».
Шухов же не воспринимает ни Бога карающего, ни Бога спасающего: «Я ж не против Бога, понимаешь. В Бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад нам сулите?» Иван Денисович может жить в месте, созданном злодеями, где «закон — тайга», но он отказывается признать, что каждый человек получает либо вечное проклятие, либо вечное блаженство. Его тихий вопрос является выркением инстинктивного отрицания — не Бога, но Системы, объявившей его и других зэков политическими «грешниками» и отправившей их в эту ледяную преисподнюю.
«Земля, что сердце к чувству хоть одно пробудит,/ Вместит в себя и рай и вечный ад» (Эмилия Бронте). Сердце Ивана Денисовича никогда не бывает глухо к чувству. В этом созданном людьми аду он сохранил нравственную независимость и человеческое достоинство, а потому, несмотря ни на что, остался свободным человеком.
Л-ра: Звезда. – 1998. – № 12. – С. 128-134.
Произведения
Критика