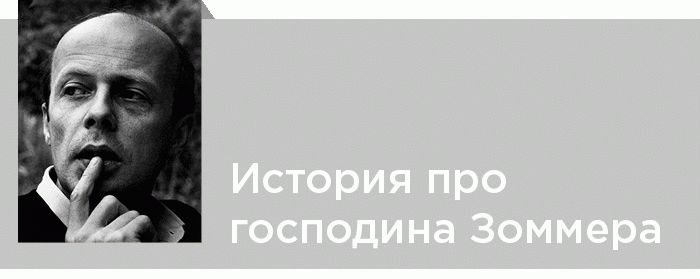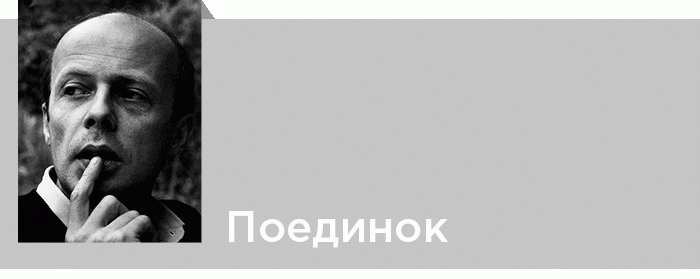Мифологические аналогии в романе П. Зюскинда «Парфюмер»

Станислав Николаевич Чумаков
В статье выявляются и комментируются имплицитные мифологические аналогии, формирующие образ главного героя в романе П. Зюскинда «Парфюмер». Сопоставление этого образа с персонажами библейских и древнегреческих легенд способствуют его типизации, повышают степень художественной убедительности, хотя в отдельных случаях порождают эффект идейной двусмысленности текста
Ключевые слова: аналогия, аллюзия, ассоциация, имплицитность, литературное моделирование, мифологический подтекст, постмодернистская литература, реминисценция, символика, типизация.
Разнообразные воздействия древних мифологических систем на художественное творчество последующих эпох — одна из тех констант мировой культуры, изучение которых никогда не утратит своей актуальности.
Объектом исследования в данной статье является роман современного немецкого писателя Патрика Зюскинда «Парфюмер». Это произведение в значительной мере основано на сознательном, в той или иной степени модифицированном использовании повествовательных элементов, заимствованных из других источников (интертекстуальность; цитатность). Реминисценции историко-литературного генеза в романе изучены на сегодняшний день достаточно полно [2; 12]. В меньшей степени исследована рецепция мифологических мотивов, прежде всего библейских и античных. Стремление восполнить этот пробел определяет цель и новизну работы.
Основные положения статьи апробированы в процессе чтения магистерского курса «Античный миф в литературах XX-XXI веков». Научно-практическая значимость работы определяется
Перспективами ее использования в процессе вузовского преподавания литературы (лекции, практические занятия, курсовые, дипломные работы).
При написании статьи автор руководствовался синтезом мифологических, сравнительно-типологических, культурологических и лингвистических методологических принципов.
«Мегабестселлер» конца ХХ века, роман Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы» (“Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders”, 1985) продолжает вызывать живой интерес читателей и литературоведов. Он оказался одним из знаковых текстов постмодернистской литературы и, несмотря на большое число критических интерпретаций и специальных исследований, по сей день хранит в себе неявные смыслы и скрытые значения. Основанное в своих узловых моментах на условностях и фикциях, произведение немецкого писателя может показаться своеобразным литературным «гомункулом», однако это искусственное создание сотворено и весьма искусно. Оно насыщено фабульно-семантической энергетикой, притягательно для рецептора, вызывает ощущение глубинной метафорической достоверности.
Художественная убедительность романа во многом основана на солидном подтекстуальном фундаменте, представляющем собой сложную комбинацию мифологических, религиозных и литературных протомоделей, выработанных мировой духовной культурой. Особенно глубока мифологическая часть зюскиндовского смыслового «айсберга», представляющая собой сплав ряда античных и библейско-христианских мифологем и по-своему подтверждающая мысль Томаса Манна: «Миф — это легитимизация жизни» [5, 205].
«Парфюмер» - в нашем восприятии — образец имплицитного сюжетно-образного моделирования. Это достаточно сложный тип отношения к мифологическому материалу, основанный не на открыто заявленном аналогическом соответствии между изображаемой реальностью и мифом (такая заявка чаще всего реализуется в заголовке: «Улисс» Джойса, «Кентавр» Апдайка, «Траур - участь Электры» О Нила), но на неявных, часто достаточно далеких ассоциациях и параллелях, иногда на едва заметном «мерцании мифологического смысла», что требует известной подготовки и определенных интеллектуальных усилий для обнаружения и оценки глубинных смысловых связей. Писатели, не отвергающие контакта с широкой читательской аудиторией (Зюскинд, безусловно, относится к их числу), используют в таких случаях своеобразные авторские подсказки или «сигналы», в той или иной степени подводящие к пониманию скрытой символики.
Фантастическая, хотя изложенная в форме достоверной хроники история зловеще гениального, наделенного феноменальным обонянием, но нравственно пустого и преступного «парфюмера» опирается прежде всего на мощный пласт библейских ассоциаций. Эти имплицитно выраженные дополнительные смысловые связи существенно поднимают философский «тонус» романа, превращая его в притчу о природе зла, о гении и злодействе, о сущности и видимости, а также позволяя ставить такие актуальные социальные проблемы, как механика тоталитаризма и техника манипулирования людьми.
Подразумеваемые в повествовании библейские мотивы служат для создания резкого, зачастую беспощадно язвительного контраста с обстоятельствами жизни героя. Произведение пронизано оборотностью аналогических связей; мифологические парадигмы, проецируемые на ничтожную и жуткую личность парфюмера, как бы выворачиваются наизнанку; в романе господствует атмосфера иронической дистанции и пародии на Зло, стремящееся к власти над миром.
Пародийны и символичны уже имя и фамилия главного персонажа, хотя внешне они звучат как классически заурядные для «среднего» француза: Жан-Батист Гренуй. Но «гренуй» (grenouille) по-французски - «лягушка», и эта своеобразная авторская подсказка-сигнал сразу вызывает целый ряд ассоциаций и аналогий с сущностью героя.
Чисто внешние, обиходно воспринимаемые свойства лягушки (холодная, скользкая, уродливая, не имеющая собственного запаха) вполне соответствуют его внешности и характеру.
В фольклоре лягушка олицетворяет связь с нижним миром. Характерно, что тварная символика, связанная в романе с Гренуем, представлена также мухами, червями, клещами, бактериями, летучими мышами, ящерицами, саламандрами, раками, гадюками и мертвыми птицами. Набор весьма показательный...
Среди прочих фольклорных значений лягушки — ложная мудрость (в данном случае - преступная гениальность героя); символика превращений и метаморфоз (Гренуй как вочеловеченный дьявол); символика хаоса, грязи, из которой возник мир [8, 84-85].
В Библии лягушки, жабы фигурируют в эпизоде 2-й Казни Египетской, посланной в наказание фараону за ожесточение и упорство. (Гренуя также резонно рассматривать как наказание людям за грехи). В том же эпизоде жабы связываются с разложением и вонью: «Жабы вымерли в домах, на дворах и на полях. И собрали их в груды, и воссмердела земля» [Исх.: 8, 13-14]. В аналогичной, пропитанной трупной вонью атмосфере появляется на свет Гренуй.
Что касается звучного двойного имени героя, то в контексте романа оно также приобретает особую значимость. «Жан-Батист» в переводе с французского — «Иоанн Креститель». Пародийная символика основана в данном случае на контрастных аналогиях. Библейский Иоанн предрекал Царствие Божие. Иоанн Гренуй предвещает царствие сатаны. Библейский Иоанн вершил обряд крещения как символ покаяния и приобщения к истинной вере. Жан-Батист Гренуй также совершает в романе своеобразное массовое «крещение» народа в волнах приготовленного ценой многих убийств волшебного аромата, но сей акт есть приобщение к сатанизму и завершается он разнузданной оргией околдованных дьявольскими чарами жителей городка. Библейский Иоанн вошел в историю как великий аскет и отшельник, «ангел пустыни», в сосредоточении и одиночестве готовивший себя для великой и благой цели. Иоанн Гренуй тоже «отшельничает» в течение ряда лет, но в своем уединении сосредотачивается лишь во зле, созревая для большинства своих преступлений и проявляя себя как «дьявол пустыни».
Значимые имя и фамилия героя («Иоанн Креститель Лягушка») получают в своей совокупности еще один смысловой оттенок, близкий к популярному в средние века определению сатаны как «обезьяны Бога». Гренуй — «лягушка Бога», лишенная запаха, холодная и бесчувственная. (Полное отсутствие у этого гения запахов собственного «человеческого» запаха и чувствительности к телесной боли — верные меты дьявола). Как и обезьяна, эта лягушка пытается имитировать святость и божественную власть. Имитация — форма бытия Гренуя, на самом деле не имеющего ничего «кроме присвоенной ауры, кроме ароматической маски, краденого благоухания...» [4, 327].
Дьявольское начало героя подчеркивается в романе целым рядом гротесково формальных, пародийно оборотных аналогий с биографией Христа.
Рождение Гренуя — мрачная травестия Рождества Христова. Иисус появляется на свет в яслях, где приходят в земную жизнь агнцы, невинные существа. Гренуй рождается на «Кладбище невинных». Его родительница — пародийная «анти-Мария», которая «... еще сохранила почти все зубы во рту и еще немного волос на голове, и кроме подагры, и сифилиса, и легких головокружений ничем серьезным не болела.» [4, 9-10]. «Успение» этой своеобразной «богородицы» произойдет на Гревской площади, где ей отрубят голову, признав виновной «в многократном детоубийстве».
Для понимания контрастных аналогий между героем романа и Христом важна символика Рыбы, пронизывающая начальную часть произведения.
Известно, что схематическое изображение рыбы является давним символом Христа, а слово «рыба», написанное по-гречески, воспринимается как аббревиатура его имени и статуса. И конечно же не случайно Антихрист Гренуй рождается у рыбной лавки (идея продажи Христа), его окружают рыбьи головы и запах гниющей рыбы (идея расчленения и извращения учения Христа), кровь на юбке его матери - «рыбная» (кровь Христова), первое слово, которое он произнес, - «рыбы», а когда Гренуй подрос и стал осознавать свой необычный дар абсолютного обоняния, то, анализируя запахи, он «стоял., закрыв глаза, полуоткрыв рот и раздувая ноздри, неподвижный, как хищная рыба в глубокой, темной, медленно текущей воде» [4, 48]. Показательны для романа имплицитные аналогии между чудесами, совершаемыми Христом в период его активного проповедничества, и «чудесами» парфюмера Гренуя, идущего по пути «профессионального совершенствования».
Принципиальны различия самой природы, характера этих чудес. Христос всегда оперирует сущностью претворяемого им материального мира; Гренуй оперирует видимостью (точнее — обоняемостью) этого мира. Стремясь имитировать Христа, он, как и положено дьяволу, совершает что-то «не так», с маленькими сатанинскими ошибками. К примеру, аналогом чуду Христа в Кане Галилейской (претворение воды в вино) является превращение Гренуем воспоминаний о запахах в вино, разлитое в воображаемые бутылки. Но всё же это не настоящее вино, как у Христа, а лишь видимость (обоняемость) вина.
Сходной можно считать аналогию между тем, как Христос воскрешает Лазаря Четверодневного, и как Гренуй «воскрешает» кожевенника (двухмесячного!): «Результат был кошмарный: под носом Гренуя из раствора винного спирта кожевенник восстал из мертвых, и его индивидуальный обонятельный портрет проступил в воздухе помещения» [4, 256]. И вновь то же различие: Христос действительно оживил мертвого человека, Гренуй на какое-то время вызвал лишь ауру, обонятельный призрак покойного. Феноменальная, но «голая» техника Гренуя не может соревноваться с истинной одухотворенностью и человечностью Христа.
Если указанные различия можно все-таки объяснить специфической профессиональной сферой Гренуя, то обоих чудотворцев разделяет и нечто более принципиальное. Это — их отношение к людям. Иисус Христос несет своими чудесами благо и жизнь; Гренуй — зло и смерть. Воскрешению Христом дочери Иаира контрастно соответствует убийство Гренуем двадцати пяти девушек. Христос возвращает зрение слепым — Гренуй в финале романа лишает истинного зрения зрячих, наделяя их ложным, фантомным видением. Иисус исцеляет бесноватых — Гренуй заражает беснованием толпы людей. Кто сталкивается с Христом — возрождается к новой жизни; кто сталкивается с Гренуем — уходит из жизни. Большинство людей, с которыми герой романа вступал в более-менее длительные отношения, погибают. Их словно буквально «уносит черт»: они тонут в Сене (кожевник Грималь, парфюмер Бальдини), они исчезают в горах, будто растворяясь в воздухе (экстравагантный просветитель маркиз де ля Тайад-Эспинасс), они возносятся в воздух не без помощи веревки (казнь парфюмера Дрюо из Граса). Уцелела одна лишь мадам Гайар, в пансионе которой воспитывался Гренуй, да и она выжила, видимо, лишь потому, что была столь же бездушной, как и ее воспитанник.
В библейский контекст, призванный углубить и типизировать условно-фантастический образ героя, П.Зюскинд вводит и другие символические детали, связанные с Христом и функционирующие по принципу «внешнее сходство» - «сущностная оппозиция».
Слова «Христос» (греч.), «Мессия» (арамейск.) означают «Помазанник». Помазание совершалось особыми благовониями (мирром), производилось пророками, служило знаком освящения и «указанием того, что известное лицо ... долженствует со временем занять царский престол» [1, 73].
В заключительной части романа Гренуй использует особые духи, которые он создал технически гениальным, но преступным путем, - своеобразное «мирро сатаны». Герой выступает как «самопомазанник», что отражает его сатанинскую гордыню, и, благодаря исходящему отнего волшебному аромату, не только избегает заслуженной казни, но и вводит людей в состояние гипнотического транса, наваждения, дьявольского обольщения, провоцируя отвратительную оргию, «величайшую вакханалию, которую видел мир со второго века от Рождества Христова» [4, 324].
Мотив помазания становится, таким образом, очередным авторским сигналом, указывающим на истинную суть героя: он Антипомазанник = Анти-Мессия = Анти-Христос. Следует учесть и тот факт, что в демонологии важным элементом подготовки к шабашу издавна считалось «натирание особенною мазью» [7, 30].
Эпизоды с волшебными духами Гренуя, позволяющими ему принимать различные личины, контрастно перекликаются и с таким важным эпизодом мифологии Христа, как его чудесное преображение на горе Фавор. Христос преображается воистину; что же касается горбатого, хромого, безобразного, ненавидящего людей Гренуя, то его «преображение» - вновь мнимое, фантомное. Он становится идеальным красавцем, воплощением любви не на самом деле, а лишь в помутнённом сознании околдованных людей. Кроме того, Преображение Христа имело духовный характер: оно проявилось не в изменении черт его лица, но в сиянии, свете, свете истины, тогда как при иллюзорном преображении Гренуя народ оказывается охваченным «чувственным опьянением» [4, 323]. И, наконец, эпизод преображения Гренуя сознательно снижается писателем путем введения пародийных элементов. Рядом с Христом в соответствующий момент находились его верные ученики, апостолы Петр, Иаков, Иоанн. Рядом с Гренуем оказываются лейтенант полиции, офицер охраны и ливрейный лакей, да и само «преображение» происходит перед эшафотом.
По мере развития действия романа возрастает роль аналогий, символов, авторских указаний на то, что Гренуй является не только воплощением анти-мессии, Антихриста, но в известной степени и самим Сатаной, антиподом Бога-Творца. Во всяком случае герой явно претендует на эту роль. Свою конечную цель он видит в обретении божественной власти, мечтает перехватить у Бога Любовь, присвоить ее, самого себя возводит в «двойной сан — Мстителя и Производителя миров» [4, 175], да и в глазах народа «он, конечно, состоял в союзе с дьяволом, если не был самим дьяволом». Еще в пансионе м-м Гайар другим детям казалось, «что он как бы отбирает у них дыхание», что от него «в комнате становилось холоднее» и что «уничтожить его невозможно» [4,33].
Поистине сатанинская гордыня руководит Парфюмером. Он «. в самом деле был своим собственным богом и богом более великолепным, чем тот, воняющий ладаном Бог, который ютился в церквах. Ему достаточно кивнуть, и все отрекутся от Бога и будут молиться на него, Великого Гренуя» [4, 325-326]. Подчеркивая непомерные претензии героя, Зюскинд вводит в его внутренние монологи прямые парафразы из Библии: «И Великий Гренуй видел, что это хорошо, весьма, весьма хорошо» [4, 173].
Сатанинская сущность Парфюмера подчеркивается в романе и неявными намёками на библейские пророчества. Так, в Апокалипсисе об известном Звере, число которого 666, сказано: «И даны были ему уста,
говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца» (Апок.: 13, 5). А поскольку Зюскинд, имитируя свой роман под хронику, тщательно фиксирует в нем даты, нетрудно подсчитать, что период наиболее активной и целенаправленной «творческой» и преступной деятельности героя (после семилетнего отшельничества) продолжается с конца 1763 по июнь 1767 года, т.е. 42 месяца.
Сатана-Гренуй заканчивает свою романную жизнь своеобразным самоуничтожением. Вылив на себя весь флакон дьявольских духов, он предстает перед своими последними «почитателями» («апостолами»?), которыми символично оказываются представители парижского дна (воры, убийцы, бандиты, проститутки) и которые в патологическом упоении иллюзивной «любви» буквально разрывают героя на части и пожирают его. Зло, пытавшееся присвоить любовь, не может избавиться от собственной природы и фактически уничтожает самоё себя, но при этом переходит в иные формы. «То, чего он всегда так страстно желал, а именно чтобы его любили другие люди, в момент успеха стало ему невыносимо, ибо сам он не любил их, он их ненавидел. И внезапно понял, что никогда не найдет удовлетворения в любви, но лишь в ненависти своей к людям и людей — к себе» [4, 326].
Символическая многозначность концовки романа позволяет связать ее с самыми разными мифологическими моделями и мотивами. Прежде всего возникает ассоциация с мрачно трансформированным мотивом «причастия». Это, конечно, сатанинское причастие плотью и кровью дьявола, символизирующее преемственность зла в мире, которое перманентно возрождается в «причастившихся» даже под личиной любви. Последняя фраза романа — «Они впервые совершили нечто из любви» [4, 344] — по сути дела означает лишь то, что фантомная любовь, вкушенная клошарами, скоро выветрится, а вот людоедами они могут оказаться уже навсегда.
В финале романа просматриваются и совсем иные, языческие аналогии.
Весьма существенна для произведения Зюскинда античная мифологема Диониса-Вакха, причем разрабатывается она не просто как классический историко-культурный мотив, но в своем изначальном, глубинном, стихийно-оргиастическом плане. Дионисийство предстает в романе не в маске добродушно-веселого пьяницы Вакха или Пана, но как мрачная, испепеляющая космическая сила.
Антихрист-Гренуй — в то же время и языческий «бес» Дионис. Плотская, чувственная дионисийская линия пронизывает, собственно, всё произведение, а не только его финал, то сплетаясь с библейскими аналогиями, то развиваясь параллельно с ними.
Гренуй — гений запахов; запах — один из наиболее мощных чувственных элементов, будучи в то же время «самым примитивным, самым низменным из чувств» [4, 22]; Дионис — олицетворение плотского, чувственного начала, - суть смысловых связей, конечно, в этом. С аффектированной чувственной ноты роман Зюскинда начинается (см. по- своему блестящее натуралистическое описание запахов Парижа: 4, 7-8), по нарастающему оргиастическому вектору он развивается («хроническое» упоение героя различными ароматами и стремление дойти до предела наслаждений), откровенными вакханалиями он и завершается. Стихийный оргиазм закономерно сочетается с атмосферой распада, тления, насилия, смерти, зла: «накопленная ненависть с оргиастической мощью прорывалась наружу» [4, 170].
Помимо указанной общей атмосферы имплицитно выраженная дионисийская линия определяет и отдельные фабульные части произведения, играя сюжетооформляющую роль. Так, одно из наиболее «темных» мест романа — долгий период добровольного отшельничества героя на вершине пустынной горы — наряду с библейскими ассоциациями может навеять и аналогию с таким известным античным мифологическим мотивом, как пребывание Диониса в Индии, откуда он возвращается полным новых сил и вершит свои триумфы. (Нечто подобное происходит после добровольной изоляции и с Гренуем).
Однако наиболее явная сюжетная дионисийская аналогия связана все-таки с финалом романа. Имеется в виду орфическая версия гибели Диониса-Загрея, разорванного на части титанами, которые сожрали сердце витального божества. Обычная для Зюскинда логика игрового аналогизирования превращает античных титанов в омерзительных уголовников, но ведь и Гренуй соответствует Дионису лишь на уровне сюжетной параллели.
Помимо тех мифологических соответствий, о которых мы упомянули, в романе можно отметить и ряд других.
Явно просматривается в произведении библейская линия Иова. (Гренуй — по крайней мере в первой половине жизни испытавший и немало лишений, страданий, болезней, — выступает как анти-Иов, через испытания приходящий не к Богу, а к сатане). Нельзя не отметить пародийную аналогию между Гренуем и Прометеем [4, 325], а также аллюзию на библейский мотив борьбы Иакова с ангелом как с неким невидимым. (В период отшельничества Гренуй с ужасом замечает, что начинает пахнуть человеком, и борется с этим отвратительным для него «невидимым»).
Среди мотивов «общемифологического» типа следует выделить инициацию как древнюю форму испытания, подготовки к жизни взрослых,своего рода новое рождение. Но прежде чем «родиться заново», необходимо ритуально, символически «умереть». Мирча Элиаде, уделивший много внимания этому древнейшему обряду, отмечал, что «во всех контекстах инициации смерть означает, что человек ликвидирует прошлое и ставит точку на одном существовании, чтобы начать снова, возродившись в другом» [11, 261]. Не в этом ли подлинный смысл таинственного ухода Гренуя из мира и его долгой самоизоляции в горной пещере? «Возвращение к материнскому лону обозначается через затворничество неофита в шалаше, или через проникновение на священную территорию», а многие мифы содержат в себе «связанный с инициацией спуск в грот, расщелину, ассоциируемую со ртом или входом во чрево Матери-земли» [10, 79-80].
Несложно заметить в романе немецкого писателя и общеритуальную иронически переосмысленную мифологему умирающего и воскресающего богочеловека, а также то, что некоторые фольклористы называют «мономифом», то есть «универсализированную историю героя в виде единой цепи событий, начиная с ухода из дому, через приобретение сверхъестественной мощи, посвятительные испытания, овладение магической силой, и кончая возвращением» [6, 69].
Итак, важную роль в сплочении художественной ткани рассмотренного нами произведения играют мифологические символы и аналогии. Они мотивируют и обогащают сюжет, способствуют оформлению центрального образа, поднимают его до архетипического уровня, создают эффект глубинной перспективы и являются немаловажным фактором поддержания читательского интереса, маня многозначностью значений и загадками.
Повествование Зюскинда корреспондирует с мифами отнюдь не по законам жестких связей. Автор создает обширный и разнообразный мифологический субстрат, предоставляя читателю свободу интерпретации, иногда ненавязчиво подсказывая, намекая, но внешне не настаивая на каком-либо определенном варианте.
Однако такой подход порождает и впечатление идейной двусмысленности суммарного смыслового эффекта текста. Речь идет не об отсутствии четкой итоговой морали, но о некой общей этической расплывчатости, что является оборотной стороной постмодернистской игры с мифологическими (особенно — христианскими) понятиями.
В лице парфюмера Гренуя Зло как будто самоуничтожается, но в то же время переходит в новые тела и формы. Пародируя христианских святых, Гренуй своим ничтожеством бросает отраженный отблеск пародии и на святость. (Так у Джойса: Блум и Улисс взаимно шаржируют и снижают друг друга). Число соответствий между деталями истории героя романа и жизнью Христа тяготеет к накоплению критической массы и в определенный момент начинает настораживать. Предчувствия смысловой двойственности «Парфюмера» укрепляются после ознакомления с опубликованным в 2006 году эссе Зюскинда «О любви и смерти» [3, 339-379], в котором автор позволяет себе откровенно грубую трактовку личности Иисуса из Назарета.
Имплицитная литературная аналогика — прием непростой и обоюдоострый по своим эффектам. Произведение немецкого писателя подтверждает это, давая материал для размышлений о природе художественного мифологизирования в целом.
Список литературы:
- Библейская энциклопедия. М.: Терра, 1990. 904 с.
- Гладилин Н.В. Роман П. Зюскинда «Парфюмер» как гипертекст // Вопросы филологии, 2001, № 1 (7). С. 108-118.
- Зюскинд П. О любви и смерти // Зюскинд П., Дитль Х. О поисках любви: Киносценарии / Пер. с нем. Р. Эйвадиса. СПб.: Издательская группа «Азбука-классика», 2010. С. 339-379.
- Зюскинд П. Парфюмер. История одного убийцы / Пер. с нем. Э. Венгеровой. СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2007. 345 с.
- Манн Т. Фрейд и будущее // Иностранная литература, 1996, № 6. С.195-207.
- Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.: Наука, 1976. 407 с.
- Орлов М. А. История сношений человека с дьяволом. М.: Республика, 1992. 352 с.
- Топоров В.Н. Лягушка // Мифы народов мира: Энциклопедия в двух томах. Т. 2. М.: Сов. энциклопедия, 1988. С. 84-85.
- Цвейг С. Фридрих Ницше. Зигмунд Фрейд. СПб.: «Азбука-классика», 2001. 219 с.
- Элиаде М. Аспекты мифа. М.: Академический проект, 2000. 496 с.
- Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. М.: REFL-book; Киев: Ваклер, 1996. 288 с.
- Blödorn Andreas, Hummel Christine. Psychogramme der Postmoderne. Neue Untersuchungen zum Werk Patrick Süskinds. Trier: WVT Wissenschaftlicher Verlag, 2008. 120 s.
Л-ра: Научный журнал КубГАУ, 2014, № 102 (08), с. 1-15.
Произведения
Критика