Особенности лирического повествования в очерках Чарльза Лема
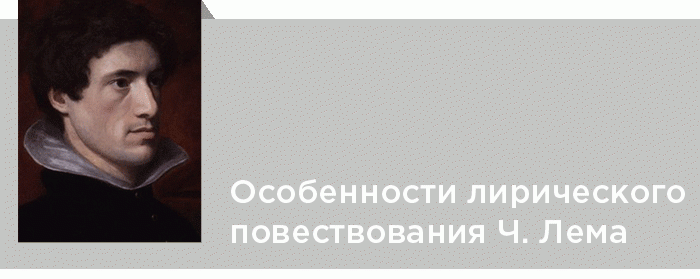
Л.И. Скуратовская
Эссе Чарльза Лема выделяются своей оригинальностью даже на фоне раннего английского XIX века, столь богатого яркими талантами и сознательным новаторством. Его роль в современной ему литературе и отношение к традиции, его позиция в идейно-художественной борьбе романтиков, выбор жанра и судьба его литературного наследия, сама его личность отмечены парадоксальностью. Писатель, почти неизвестный за пределами круга знатоков, обрел громкую посмертную славу; журнальный очеркист стал классиком; поэт, казавшийся сугубо изысканным — таким же любимцем демократического читателя, как Диккенс. Тихий лондонский клерк, проживший незаметную и печальную жизнь, был душой блестящего литературного кружка (Вордсворт, Колридж, Хэзлитт, Ли Хант), прославленным остроумцем и интеллектуалом, в полной мере знавшим счастье мысли и общения с близкими по духу. Этот человек, чей голос был негромок в годы политических бурь и разочарований, отнюдь не мирившийся с недостатками собственной страны, как определяют его старые и новые биографы — был демократическим писателем, «трудившимся ради обыкновенных людей», он одним из первых в английской литературе поставил и демократически решил проблему «маленького человека». Чрезвычайно суровый к современному романтизму, он был самым ярким романтиком среди английских прозаиков этой поры. Наконец, его эссе, возродившие жанр интимного очерка — необходимое звено на пути к большому английскому социальному роману XIX века.
Перевес биографических исследований среди работ о Леме объясняется не только необычностью этой фигуры, но и «персональностью самого жанра». В последние годы интерес ученых переместился в сторону историко- и теоретико-литературных исследований. В российской англистике «белое пятно», каким было творчество Лема, начало лишь недавно заполняться благодаря интересной и тонкой работе Н.Я. Дьяконовой — первому у нас большому исследованию творчества писателя.
Автор его проникновенно и полно охарактеризовал идейно-художественное своеобразие творчества Лема в целом. Поэтому показалось возможным в данной статье пойти по другому пути: выделить некоторые свойства его художественного стиля, представляющиеся и индивидуально-своеобразными, и типичными для эстетики английского романтизма, и перспективными; сначала — за невозможностью полного обзора — доказать их характерность для Лема на нескольких произведениях, взятых почти наугад, разных по времени, жанру, теме; затем подробно проанализировать с этой точки зрения два очерка Лема, принадлежащие к числу лучших — «Канун Нового года» и «Старый фарфор».
Два томика «Эссеев Элии» составлены из журнальных очерков, публиковавшихся в 1820-1833 гг. Очерки написаны от лица некоего клерка, скромно живущего со своей кузиной Бриджет трудами своего пера, коренного и убежденного лондонца, знатока старинных книг, поэзии и театра. Элии приданы черты личности, биографии самого поэта. Трудами многочисленных биографов и комментаторов установлено: Элия — скорее псевдоним, чем персонаж. Предмет очерков — размышления, воспоминания, чувства Элии — Лема.
Часто характеристику этих книг начинают с тематического обзора очерков: интересы, привязанности и пристрастия Элии, лица, то любимые, то мелькнувшие на улице, то всплывающие в памяти; книги, обычаи, праздники, уголки Лондона; чиновники, театр, актеры, трубочисты, городские бедняки, «общепринятые заблуждения» но всем этим поводам (так названы серии очерков Лема) и их парадоксальное опровержение. В данном случае такой перечень — больше, чем прием характеристики тематического разнообразия произведений: в нем отражается своеобразное художественное качество, присущее и композиции, и даже стилю Лема. Это - калейдоскопичность, мелькание мыслей и образов, объединенных интроспективным анализом.
«Я провел всю жизнь в Лондоне, и у меня сложились столь же многочисленные и сильные местные привязанности, какие у вас, любителей гор, вызывает мертвая природа», — пишет он Вордсворту в
Очевидно с каким совершенством это обнаженное — никаких тропов — перечисление с его особым нагнетающимся ритмом создает образ большого города как «пантомимы и маскарада».
Но этот принцип сохраняется и там, где не панорама большого города — тема художника. Вот начало очерка «Бедные родственники»:
«Бедный родственник — это самое чуждое вам существо на земле — страница неприятнейшей переписки — отвратительное подобие — упрек совести — нелепая тень, которая удлиняется в зените вашего процветания —...дырка в вашем кошельке —... прореха на вашей одежде — череп на вашем пиру — горшок Агафокла — Мордехай у ворот — Лазарь у дверей — лев, на дороге — лягушка в комнате — бельмо в глазу —... единое, в чем нет нужды — гром среди ясного неба — ложка дегтя в бочке меда».
Эти два потока перечислений, взятые из разных произведений, разнотипны, даже контрастны: первый по-современному антиметафоричен; второй состоит из неожиданных, подчеркнутых метафор. Но и там, и здесь — мелькание, прерывистая смена образов (подчеркнутые даже синтаксисом), повышенная выразительность ритма, смена убыстрения и неожиданного торможения.
Конечно, смысл и цель этого приема в обоих случаях разные. В очерке он создает сложный, тройной эффект: перед нами — бедный родственник в восприятии богатого, и сам богатый — в восприятии Лема, и неравное отношение к ним обоим. Сначала очерк принимает форму монолога богатого выскочки; Лем имитирует сочувствие к нему. Но необычность эпитеов, нагнетание гипербол (лев на дороге), библейский колорит тих гипербол (Мордехай у ворот — Лазарь у дверей) доводят жалобы до абсурда. Самая изысканность метафор, тщательность обработки здесь намеренно на виду, содержательны: ни приоткрывают лицо автора за надетой им маской. Ирония под видом сочувствия — и сочувствие, спрятанное за фантастическими преувеличениями, соединяются здесь.
Называние, создающее иллюзию душевной непосредстенности, потока мыслей и образов, зафиксированных так, как ни рождены — играет в этой передаче личного начала такую же важную роль, как и в письме к Вордсворту.
Дальше в очерке ирония Лема задевает и бедняка — его униженностъ, его мелкую месть (он все время напоминает богатым родственникам об их былом ничтожестве, отсюда ряд комических моментов). Но ирония все время смешивается с сочувствием, и в смеси этой — привкус горечи: ведь сам Лем был скорее бедным родственником. В лемовском соединении «сочувствия и насмешки — шаг к диккенсовскому трагикомизму, когда он рисует мир Кенуигсов и Лиливиков. В сущности, речь идет о трагифарсе снобизма, и Лем воспринимает его очень остро и лично.
Это личное начало выходит далее на поверхность в простом и серьезном рассказе о судьбе школьного товарища, погубленного жалким положением и жалким снобизмом «бедного родственника» (уже в широком социальном смысле этого слова). Можно увидеть здесь знаменитую лемовскую неожианность в соединении юмора и трагического. Сам Лем, даже некоторой долей наивности, как бы удивлен тем, как внезапно прорвалось личное и грустное: не знаю, как это я, начав полусерьезно, вдруг заговорил о столь печальных вещах, говорит он. На самом деле — не «вдруг»: личная тема в ее прямом трагическом звучании индуцирована тем подтекстом личного отношения, который создан был уже «называнием» в начале очерка.
Случаи, когда названный принцип организует большую часть текста, у Лема сравнительно редки. Чаще пунктир «называния» пронизывает традиционно оформленную, порой стилизованно-архаическую речь. Но есть условия, когда он появляется обязательно.
В очерке «Капитан Джексон» Элия внезапно узнает о смерти полузабытого друга, трогательного чудака, который воображением победил бедность. В первом абзаце преобладает, несмотря на «увы» и риторические восклицания, нейтральный повествовательный тон: «Увы, как быстро хорошие люди и их хорошие поступки исчезают из нашей памяти...» В следующем абзаце, казалось бы, продолжается та же повествовательная нить — но как внутренне изменился тон, наполнившись тем теплом, которое вначале было лишь провозглашено: «Неужели я мог забыть его? — его веселые ужины, его благородное радушие — стоило лишь вам переступить порог его «хижины» — заботливые хлопоты о вас, когда (бог свидетель!) не с чем было особенно хлопотать — рог Алтеи над бедной тарелкой...».
Во всех трех отрывках, при всей их тематической разности, конструкция, синтаксис, ритм «называния» ломают устоявшуюся очерковую описательность; появляется индивидуальная интонация: непосредственная, то взволнованная, то небрежная речь воспроизводит индивидуальное восприятие и связанные с ним мысли и чувства. Называние появляется там, где интимный очерк становится особенно интимным и взволнованным. Значение этого принципа становится особенно очевидным при анализе одного из самых задушевных и самых знаменитых очерков Лема — «Канун Нового года».
«Канун Нового года» появился в январе
«У каждого человека есть два дня рождения; по меньшей мере два дня в каждом году возвращают его к мысли о беге времени, сокращающем сроки смертного. Один из этих дней рождения — тот, который он, в свойственной ему манере, называет своим. Теперь, при постепенном упадке старых обрядов, обычай праздновать собственный день рождения почти исчез... Но новый год представляет интерес слишком широкий, чтоб им пренебрегли... Никто никогда не встречал января равнодушно. Ведь с этой даты все отсчитывают свое время, ревниво проверяя, что осталось. Ведь это — рождение нашего общего Адама».
Таковы общие контуры темы Нового года у Лема. Но уже в следующем абзаце «каждый», «все» сжимается и концентрируется в одной точке. Появляется «я».
«Из всех звуков всех колоколов... самый торжественный и трогательный тот звон, что провожает Старый год. Всякий раз, когда я его слышу, я не могу не собрать воедино в своем соображении все образы, что были рассеяны по прошедшим 12 месяцам; все, что я сделал и что претерпел, что исполнил и чем пренебрег в это навсегда утраченное время. Я узнаю ему цену — как когда человек умирает».
Так впервые возникает тема смерти — сквозная тема, раскрытая в очерке с интимностью дневниковой записи. Страх смерти — его осознание — его преодоление — вот движение мысли-чувства очерка.
Однако сразу же после появления мотивов «утраченного времени», «умирающего года» возникает типично лемовская игра. Фраза «В нем (времени) появляется что-то личное» служит мостком для лукавого литературного каламбура.
Нарочито высокопарная фраза, вводящая цитату, с ее архаической риторической конструкцией, с ее поэтической терминологией контрастирует с подчеркнуто прозаической переделкой строки из кольриджевской «Оды уходящему году». В этой строке Лем подставил сугубо прозаичное подол, полы, юбка на место кольриджевского торжественного. Среди многих значений последнего наряду с тем, которое имел в виду Кольридж (свита, череда, след) есть и значение, дающее Лему право на насмешливую игру (трен, шлейф). Кольриджевскую высокую строку — «Я видел свиту уходящего года», — которая несколько позже даст Лему сходный образ, он прочел здесь как смешную — «Я видел шлейф уходящего года» — и сделал это смешное еще более явным, действуя типичным приемом пародиста: «Я видел полы уходящего года».
Казалось бы, эта неожиданно ворвавшаяся юмористическая нотка, эта пародия не соответствует всему тону развития темы. Однако при всей неожиданности — она не нелогична. Сигнал к тому, чтобы появилась шутка, идет из глубины самого текста. Сначала — вполне серьезное и грустное «Я узнаю ему (времени) цену — как будто человек умирает». Но что-то привносит в эту фразу неожиданный фамильярный обертон: это «что-то» заставляет счесть совершенно свежей старую, хрестоматийную персонификацию «время — человек». Создает ли такой эффект ее небрежная краткость — после пространных объяснений предыдущего, по-школьному законченного периода? Эта пауза, явственно дающая почувствовать читателю на ходу найденное, только что рожденное сравнение? Наконец, разговорность самого «знать ему цену» в контрасте с книжностью предыдущего текста? Это «время», с которым Лем так накоротке, вызывает дальнейшую интимность: в нем и в самом деле что-то от личности.
Перед нами — жизнь сознания в ее интимной полноте: легкая улыбка, зацепившаяся за край серьезной темы — не отсекается; профессиональная работа мысли литератора, сказавшаяся в этой пародии, продолжается при самом взволнованном анализе сердца, и это зафиксировано. «Живость ума, играющего своей темой, делает из очерка Лема «эссе» в настоящем смысле слова, то-есть «опыт» — выявления, раскрытия истины — и собственной души». Многослойность, одновременная разноплановость движения сознания, полнота ассоциаций — вот что вносит Лем в эссе.
В следующем пассаже Лем возвращается к мотиву утраченного, оплаканного времени. «Я высказал не больше того, что, думается мне, каждый из нас ощущает в минуты трезвой печали в это устрашающее время прощания-встречи. Я уверен, прошлой ночью я чувствовал это и все остальные чувствовали это: хотя некоторые мои товарищи и притворялись, что больше радуются рождению нового, чем грустят о кончине старого года. Но я не из тех, кто — приветствует нового и торопит уходящего гостя».
Своеобразие этого отрывка — в сочетании непринужденности с книжностью, индивидуальности выражений и интонации — с легким налетом некоего общего стиля XVIII века, скорее в кадансе, чем в словах (так что цитата из Александра Поупа вполне гармонирует с авторским текстом).
Далее стиль письма все больше одерживает верх над книжным стилем: «Прежде всего, я по природе боюсь нового; новых книг; новых лиц; нового года, — какой-то умственный вывих мешает мне стать лицом к перспективе. Я почти перестал надеяться и оживляюсь только когда ухожу в иные (былые) годы. Я погружаюсь в глубь ушедших видений и мыслей. Я наугад бросаюсь навстречу любому из прошлых разочарований Я поднимаю щит против былой подавленности... Я переигрываю заново — теперь уже «ради удовольствия», как говорят игроки, — те игры, в которых когда-то так дорого платил. Я не хотел бы, чтоб исчезло какое-нибудь из несчастий или случайностей моей жизни. Я не хотел бы изменить их, как не хочу менять события какого-нибудь хорошо написанного романа».
Энергичная анафора, параллельные синтаксические конструкции выносят на первое место «я» — увлеченный самоанализ выдвигается на первое место, оттесняя обобщающий мотив «каждого человека», звучавший ранее. Глаголы, выражающие энергичное действие, эмоционально окрашенное, метафорическое; изменившиеся синтаксис и интонация (короткие, отрывистые фразы, одинаково построенные, с повторами) передают нагнетание, напор мысли, бьющейся вокруг одной темы, мысли, синхронной со словом. Самые метафоры в этом контексте звучат необычайно свежо еще и потому, что воспринимаются как метафоры в обыкновенной, а не в книжной речи; иллюзия интимного письма меняет жанр, эту систему условий эстетического восприятия, как определяет его В. Шкловский.
Дальше — новый поворот темы; да, я рассматриваю себя, но не любуюсь собой: моя слабость — смотреть в свое прошлое, но я не влюблен в свою нынешнюю суть. Как мы уже можем ожидать, новая мысль возникает не внезапно: на нее наводит Лема вся цепочка предшествующих мыслей-образов. Эту цепочку (от слов «боюсь новшеств») можно представить так: погружение в прошлое рождает апологию прошлого (и любовь к Алисе, и даже потеря наследства были не напрасны, они дали душевный опыт); восхваление прошлого ведет к самооправданию (я все же не влюблен в нынешнего Элию), к явлению образа прежнего Элии-ребенка и к горькому мотиву утраты детского совершенства: «Помоги тебе боже, Элия, как ты изменился! Каких только падений я не узнал — если только ребенок, которого я помню, это действительно я».
Лем создает, как он сам называет это тут же, картину «интроспективного сознания», спонтанного, полного ассоциаций движения мысли. В этом — целостность очерка: при всей дробности композиции (каждый абзац — новый мотив) он не цепь фрагментов.
Лем спрашивает себя, отчего же он так занят самоанализом — и находит объяснение, по существу, трагическое: из-за одиночества. Однако здесь об этом одиночестве говорится легко, почти шутливо: «Просто, не имея жены и детей, я не умею переноситься в существа вне меня: и так как у меня нет отпрысков, с которыми я мог бы носиться, я мысленно возвращаюсь вспять и усыновляю мой собственный детский образ как своего наследника и любимца... Если эти соображения кажутся фантастичными тебе, читатель (ты деловой человек, быть может), если я сошел с пути твоего благоволения... — я отступлю, недоступный для насмешек, под призрачную сеть Элии».
Парадоксальная игра понятиями, возведение грустного к абсурду, как искони возводилось смешное (я сам себе сын — почти как у Твена); пародийность традиционного «обращения к читателю», где у Лема сочетаются торжественный тон, архаизмы, вычурный эвфуистический «сошел с пути твоего благоволения» — и прозаическое; и легкая разговорная интонация, перебивающая условность «обращения к читателю» — все это создает ту антиномичность стиля, которая характерна для Лема — и по-разному сказывается в роэтике романтизма в целом. Соединение несоединимого, единство, основанное на противоречиях, контрасте, сведение в одну точку противоположных начал — характерная черта метода, стиля, образа у романтиков. Такая же антиномичность — сочетание архаизмов, условно-поэтических олицетворений, примененных почти пародийно — и живой, современной повествовательной интонации создает своеобразый тон байроновркого «Чайльд-Гарольда». Как у Лема, старые формы одновременно и унаследованы и разрушены, и сквозь их осколки пробивается новое. Это новое у Байрона — как и у Лема — сложное лирическое отношение к теме, одновременно — улыбка и горечь, ирония и тревожное внимание к Чайльду. Задача этих художников — прежде всего передать внутреннюю противоречивость явления.
Подобным же образом образ женщины — это образ светлой ночи, ясной тьмы, кроткой победы. Такова же трактовка Западного ветра, Облака у Шелли.
Характер образов у этих художников близок, что особенно знаменательно при разнотемности. Сумерки для Байрона — текучий миг, неустойчивое равновесие света и тьмы; облако, ветер у Шелли — единство разрушения и созидания, возникновения и распада; все это — состояния, неуловимо переходящие во что-то другое. Сходным образом изображает Лем душевное состояние, убеждая, что реальность мысли, чувства — это единство разноименного.
Так, внешне причудливо, но следуя логике ассоциаций, Лем подходит к самому нерву очерка. Разматывая клубок причин отчего я думаю о прошлом? чем оно было? что значил для меня в юности Новый год? — Лем вновь, углубленно, возвращается к теме смерти, личного отношения к смерти. «Я» — и смерть, личность, так полно мною ощущаемая — и необходимость исчезнуть — вот суть конфликта. «Не только ребенок, но даже молодой человек до 30 лет практически не чувствует, что он смертен. Он это знает, конечно, и при случае может посетовать на бренность всего сущего; но он не чувствует этого — так в жарком июне мы не можем живо вообразить холодные дни декабря... Но теперь, признаться ли? — я предчувствую надвигающуюся ревизию слишком явственно. Я стал подсчитывать свои шансы на долголетие, я жалею тратить минуты и краткие миги, как нищий — фартинги... я с удовольствием положил бы свой беспомощный палец на спицу великого колеса. Я не хочу «исчезнуть как челнок ткача». Эти метафоры меня не утешают, ими не подсластишь неприятного вкуса смертности». Неожиданное появление «бухгалтерской» терминологии; материализация стертой метафоры (великое колесо); ироническое применение старой сентенции, восходящей к Библии, — весь арсенал лемовского юмора не снимает здесь серьезного звучания темы, а лишь психологически приближает Элию к читателю: так издревле понятен и привлекателен человек, который острит, сознавая смертельную опасность. В этой способности с юмором говорить обо всем сказалась английская художественная традиция (исследователи вспоминают в этой связи Бартона, Брауна, других старых авторов) — но юмор Лема психологически насыщеннее, богаче. Этот юмор — совершенно непосредственный взрыв возмущения, негодования против смерти; самый стиль здесь выражает то, что дальше сказано словами: «Я сопротивляюсь неизбежной судьбе».
И Лем переходит к утверждению — к тому, во имя чего совершалось его «сопротивление».
«Я люблю эту зеленую землю; вид городов и деревень; несказанное сельское уединение и милую надежность улиц. Я бы раскинул здесь свой шатер. Я согласен всегда оставаться в том возрасте, которого уже достиг; и я, и мои друзья: не быть ни моложе, ни богаче, ни красивей. Любые изменения, на этой моей земле,... тревожат меня... Мои домашние боги вросли в землю устрашающе прочно, их нельзя вырвать без крови».
Это скромная программа. Если Вильям Хэзлитт в очерке, близком по теме к лемовскому, включает в свои требования к жизни общественные изменения, возможность политического действия или хотя бы надежду «пережить Бурбонов» и с горечью говорит о своем гражданском разочаровании, у Лема это разочарование давно ушло в подтекст: самая сосредоточенность на интимных ценностях косвенно свидетельствует о нем. Но эта программа имеет и положительный социальный смысл: в ней выражена мораль, противоположная общепринятой. В его отказе утешиться «обычными метафорами» был вызов английскому ханжеству; в его упоении «зеленой землей», убеждении, что счастье человека возможно только на ней — вызов идеологии официально-религиозного оттенка. Недаром Саути нашел, что очерк Лема оскорбляет христианские чувства. В маленьком бунте Лема — отголосок бунтарского века Байрона и Шелли.
Смиренный маленький клерк говорит о своем идеале счастья так, что одно это уже имеет гражданский смысл. Демократическим идеалом счастья оказывается вовсе не маленький мирок у камина: обыкновенному человеку нужна вся земля, нужно свободное общение с людьми, дружба, мысль, смех — физическая и духовная полнота жизни:
«Солнце, и небо, и ветер, и одинокие прогулки, и летние полдни, и зелень полей, и тонкий вкус мяса и рыбы, и общество, и веселье, стаканы, и пламя свечей, и разговоры у камина, и невинная суета, и шутки, и сама ирония — неужели все это исчезнет вместе с жизнью?».
Это — не только идейная, но и эмоциальная вершина очерка. Голос Лема достигает здесь наибольшего волнения, и тогда неизбежно появляется называние — как бы хлынувший из глубины души поток образов; интонация повествования с полными предложениями должна отступить перед ним.
Глубоко выразительно самое двухчастное, «противительное» строение отрывка. Пауза (тире) делит его на две части, противоположные по смыслу, противопоставленные по форме (синтаксис, интонация, величина, ритм). Назывная конструкция первого предложения вызвана и тем, что никакое сказуемое, кроме взволнованно-утверждающего «есть», здесь не мыслится. Самоценность жизни — вот образ, который, благодаря этому называнию, выдвигается здесь крупным планом.
В начале очерка Лем пространно и подчеркнуто говорит о своей страсти к фарфору. Он изображает чайную чашку, как мог бы это сделать сказочник или ребенок — как особый мирок, с ожившими фигурками китайцев, с развертывающимся от чашки к блюдцу — сюжетом.
«Я и раньше не испытывал отвращения — тем более теперь! — к этим маленьким, непропорциональным, окрашенным лазурью уродцам, которые, назвавшись мужчинами и женщинами, кружатся, не зная преград, в мире без перспективы, в мире чайной чашки. Я люблю смотреть, как мои старые друзья — которых не может уменьшить расстояние — вырисовываются в воздухе (как кажется глазу), но все же на тверди — мы должны из вежливости назвать так то пятнышко более темной синевы, которое художник, чтобы избежать абсурда, бросил им под сандалии...».
Хрупкость и старинное изящество фарфора воссозданы не только словами, но самым стилем в духе XVII века.
Однако дальнейшее — контраст к этому зачину. Передается разговор Элии и кузины Бриджет за чаем; и тут оказывается, что любимый, столь тщательно изображенный, вынесенный в заглавие фарфор — вовсе не главный предмет очерка. Бриджет говорит: «— Я хотела бы, чтоб вернулись добрые старые времена, когда мы не были так богаты... Теперь, когда у нас достаточно денег, покупка — это только покупка. Тогда — она была триумфом...» Долгие обсуждения, споры, попытки экономить, размышления — то, что вещь долго обдумывалась и переживалась, придавало ей ценность. Вещь - это психология, утверждает Лем. Томики Бомонта и Флетчера, гравюра по Леонардо, прогулки, дорогой фарфор и дешевые лакомства — все это имело смысл, обеспеченный тем душевным зарядом, который был в них вложен. Тогда мы были бедны и потому счастливы — думает Бриджет.
И тут мотив незаметно меняется. Счастье было не в бедности, а в молодости и надеждах. Длинные прогулки пешком там, где мы теперь ездим — это была молодость; праздники, развлечения, радости, которые теперь ушли — это оттого, что были надежды. Что же произошло с нами теперь? — вот внутренний смысл речи Бриджет. Кажется, как далеко остался фарфор, с которого все начиналось так подчеркнуто, что введенный в заблуждение читатель мог ожидать описательного очерка.
Мотив снова меняется. Оказывается, что богатства, на которое можно было бы сетовать, вовсе нет, это «призрак, созванный ее милым воображением из скромного дохода бедняков — сотни фунтов в год». Ретроспективно возвращаясь теперь к китайской чайной чашке, читатель понимает: она была символом молодости, беззаботности, счастья, подобно тому как нынешнее «богатство» — это старость, утрата надежд, сожаления.
Элия возражает: мы были бедны и боролись — тем более дорого нам то, чего мы достигли. Без этой борьбы мы не стали бы друг для друга тем, чем стали. Если бы можно было вернуть те дни — дешевые места на галерке, молодых актеров и нас, молодых зрителей, неудобную лестницу и то, как мы вскрикивала, когда ушибалась — я отдал бы все золото, чтобы купить это... Тональность этого «называния», грустную и светлую, можно бы определить как чеховское «сквозь слезы».
«А теперь посмотри-ка на этого веселого слугу-китайчонка, как он держит зонтик величиной с кроватный балдахин над головой этой прелестной крошки-леди с лицом мадонны, в том очень синем чайном домике».
Снова чайная чашка, изображенная с такой же причудливой конкретностью, как в самом начале, возникает как психологический образ, как итог, обогащенный новыми оттенками. Это — поворот к новому настроению (подчеркнутый и интонацией, и словами «А теперь...»): примирение с настоящим, не лишенное ни грусти, ни юмора, ни жизнелюбия.
Н.Я. Дьяконова утверждает, что во многих очерках Лема главное — движение чувства, а не мысли. Представляется, что в лучших его очерках основным всегда остается — движение образа с его многомерностью, сплетением мысли и чувства, внутренней сложностью.
Пафос очерков Лема — это самоутверждение и самораскрытие индивидуальности. Если позволено прибегнуть к сравнению, можно сказать, что он исследует не неисчерпаемость космоса, а неисчерпаемость атома — что не менее важно. И этот безгранично интересный атом, эта индивидуальность — обыкновенный «маленький человек». Социальный и эстетический смысл, демократизм и художественная новизна очерков Лема — именно в этом.
Л-ра: Проблемы метода, жанра и стиля. Зарубежная литература 17-20 вв. – Днепропетровск, 1970. – С. 46-64.
Произведения
Критика
- «Poor relation» Ч. Лэма: опыт филологической интерпретации
- Особенности лирического повествования в очерках Чарльза Лема
- Проза английского романтизма (Чарльз Лэм)










Поделиться