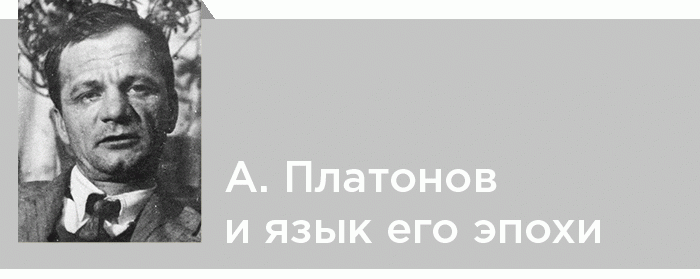«Русская душа» в творчестве А. Платонова

Кеба А.
«Умом Россию не понять...»
Ф.И. Тютчев
«Русский человек — это человек двухстороннего действия...»
А. Платонов, «Чевенгур».
Паровоз революции и «Колымага России»
Безусловно, творчество Платонова невозможно свести собственно к исследованию русской души как таковой. Вот что пишет, к примеру, о Платонове немецкая исследовательница П.-С. Бергер-Бюгель: «Он в своих произведениях — как лишь немногие авторы до него — обратился к фундаментальной философии, в которой отражены все явления современности и человеческого существования».
Эволюция Платонова-художника протекала сложно и неоднолинейно, в ней были обретения и потери, резкие прорывы и возвращения. Он довольно быстро оправился от первого эйфорического восприятия революции. Если публицистические сочинения 1918-1920-х годов пронизывает безоглядный пафос вселенского преобразования, то уже в 1921 году действительность резко оборвала полет утопической фантазии: вместо чаемого рая революции - страшный голод. «Засуха
Мысля революцию бессильной в борьбе с «настоящим России», Платонов в начале 20-х годов обращает свои надежды к науке, сознанию, которые единственно в состоянии преодолеть косность и отсталость российской жизни. Герои таких его произведений первой половины 20-х годов, как «Потомки солнца», «Маркун», «Лунная бомба», «Эфирный тракт», — ученые-изобретатели, преобразователи Земли и вселенной, «забывшие» обо всем, что не вписывается в мир их научных проектов. В этих произведениях еще нет внимания к русской душе как таковой. Герои крайне слабо выражены в своем национальном начале, здесь скорее не русская, но вселенская душа. Однако знаменательно то, что все эти герои устремлены вдаль, их общей чертой оказывается странничество. Так Платонов уже в раннем творчестве обозначает то главное, странническое, начало русской души, которое во многом определяет ее судьбу. Несмотря на то, что есть коренная противоположность между двумя типами платоновских героев — инженером и странником (соответственно: замкнутость и открытость в самом широком смысле слов), писатель пытается провести между ними некую возможную нить соединения-превращения. Так, все герои-преобразователи в названных произведениях гибнут, но перед смертью те из них, кто инстинктивно желает для себя спасения души, превращаются в странников. Типичными в этом отношении представляются отец и сын Кирпичниковы, герои повести «Эфирный тракт», в судьбе которых наступает момент «ухода», когда они отказываются от своей прежней жизни и отправляются «вдаль». И даже те, кому истина движения так и не открывается (Фаддей Попов, Исаак Матиссен), с приближением смерти открывают для себя иные ценности, нежели рационалистическое постижение мира. Причем образ, который скрашивает последние мгновения их жизни, — это образ матери, возникающий как знак возвращения человека к естественному и лучшему в себе.
В поисках «сокровенного человека»
Молодой Платонов был убежден, что «сознание, интеллект — вот душа будущего человека, которая похоронит под собой душу теперешнего человека — сумму инстинктов, интуиции и ощущений...». Будущее человечества — «царство сознания». Теперь же человек стоит у начала этого царства, и ему следует в первую очередь ликвидировать колоссальный разрыв между чувством и мыслью. Эта проблема в разных ее аспектах осмысляется в целом ряде произведений середины 20-х годов. Так, в сюжете повести «Ямская слобода» (1926) основную роль играет преодоление ее главным героем, Филатом, своей «безъязыкости», односторонней, «чувственной» природы души, оторванной от сознания и оттого мешающей человеку обрести смысл своей жизни: Филат «...сначала что-нибудь чувствовал, а потом его чувство забиралось в голову, громя и изменяя её нежное устройство. И на первых порах чувство так грубо встряхивало мысль, что она рождалась чудовищем и ее нельзя было гладко выговорить. Голова все еще не отвечала на смутное чувство, от этого Филат терял равновесие жизни».
Как видим, в «Ямской слободе» русская душа, по преимуществу «чувствующая душа» мыслится пока как ущербная, недостаточная. Во многом иной предстанет она в повести «Сокровенный человек» (1927). Начинается повесть как раз отрицанием чувственности ее героя: «Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки». Однако по мере развития сюжета повести мы видим, что именно широкий, трезвый и вместе с тем проникновенный взгляд Фомы Пухова на мир, устремленность к правде и тайне жизни делают его выразителем и душевной истины, и истинной душевности. В основе нравственной философии героя лежит идея сопричастности всему живому (ср.: «он с домовитой нежностью оглядывал все принадлежности природы и находил все уместным и живущим по существу»). И с этой его способностью, по-видимому, связано название повести, заключившее в себе одно из излюбленнейших платоновских определений, указывающее на евангельского «сокровенного сердца человека». Достаточно определенно заявлена в повести и мысль о противоположности национального и всечеловеческого: «Тоска по родному месту взяла его [Пухова. — А.К.] за живое, и он не понимал, как можно среди людей учинить Интернационал, раз родина — сердечное дело и не вся земля».
«Сокровенный человек» продолжает и значительно углубляет наметившуюся линию платоновских героев-странников. В душе Пухова живет неистребимая «охота к перемене мест», и мы видим, как герой стремится в постоянном движении, в поиске обрести истину мира, смысл жизни и душевное равновесие: «Ветер тормошил Пухова, как живые руки большого неизвестного человека, открывающего страннику свою девственность и не дающего ее, и Пухов шумел своей кровью от такого счастья». В те же моменты, когда Пухов оказывается в замкнутом пространстве, он испытывает непреодолимую тяжесть души (ср.: «со злобой степного человека поглядел на дикие горы, очертенело загромоздившие пешеходную землю»).
Фоме Пухову свойственно исключительно остро переживаемое чувство собственного достоинства, он требует к себе внимания и уважения как к самоценной личности, и поэтому ему «казалось странным, что никто на него внимания не обращал: звали только по служебному делу». Сам же он исполнен искреннего сочувствия к людям: «нечаянное сочувствие к людям, одиноко работавшим против вещества всего мира, прояснялось в заросшей жизнью душе Пухова». Фома Егорыч прекрасно понимает природу русского человека, его жажду найти применение своим душевным потребностям. Он прозревает главную опасность революции, рождающей «пустоту душ»: «в религию люди сердце помещать привыкли, а в революции такого места не нашли... народу в пустоте трудно будет: он вам дров наворочает от своего неуместного сердца».
В художественной концепции «Сокровенного человека» важную роль играет пространство и время. Сама сущность революции обнаруживается в связанных с этими категориями емких и многозначных фразах-формулах: «история бежала в те годы, как паровоз, таща за собой на подъем всемирный груз нищеты, отчаяния и смиренной косности»; «Время шло без тормозов»; «время вокруг него стояло как светопреставление»; «поездной состав неизвестного маршрута и назначения». Платонов в этой повести еще верит в возможность согласования «души» и «революции», поэтому пространство открывается здесь для человека как открытое и невраждебное, зовущее и обещающее лучшее будущее (ср.: «дали на резком горизонте были чисты, прозрачны и привлекательны»). Оно требует активно-преобразовательной деятельности человека: «Ветер, нечаянно зашедший с гор, говорил о смелости, с которой он воюет над беззащитными пространствами. Свое дело он и людям советовал — и те слышали». Принципиально иным содержанием, как увидим в дальнейшем, будет наполнено пространство и время в произведениях конца 20-х годов — в «Чевенгуре» и «Котловане».
Россия и Европа: пространственно-культурные отличия
Напряженно вглядываясь в исторические судьбы России, Платонов предложил в середине 20-х годов особый взгляд на нее со стороны, заставил увидеть ее глазами иностранца. Речь идет о повести «Епифанские шлюзы» (1927). Ее главный герой, английский инженер Бертран Перри, приезжает в Россию по приглашению Петра Первого «создать сплошной водный тракт меж Балтикой и Черным и Каспийским морем, дабы превозмочь обширные пространства континента в Индию, в Средиземные царства и в Еуропу». Платонов здесь вовсе не ставит своей целью противопоставить Россию Западу, как считает, например, В. Васильев. Об этом говорит хотя бы то, что автор вводит в повесть двух братьев Перри, разделяя их отношение к России. В начале повести читателю предлагается письмо Вильяма к брату, в котором он говорит о своей «тоске пустынножительства» в России, о том, что «россы дики и мрачны в невежестве своем». Однако Вильям Перри остается внесюжетным персонажем произведения, Бертрану же отводится роль открывателя неведомой для себя земли. И в его открытиях доминируют вовсе не отрицательные впечатления. (Ср.: «Он с обожанием наблюдал эту природу, такую богатую и такую сдержанную и скупую...»; «особо восхитил Перри храм Василия Блаженного — это страшное усилие души грубого художника постигнуть тонкость и — вместе — круглую пышность мира, данного человеку задаром»).
Известно, что в первой половине 20-х годов Платонов был увлечен идеями немецкого мыслителя О. Шпенглера, одного из создателей концепции локальных цивилизаций. В основе этой концепции лежит взгляд на культуру как совокупность замкнутых в себе, специфических организмов, проходящих в процессе своего развития сходные этапы возникновения, становления, развития, расцвета и гибели. В книге «Закат Европы» Шпенглер из восьми «ставших», по его определению, культур наибольшее внимание уделяет западноевропейской, определяя ее душу как «фаустовскую». Прасимволом этой души он считает «чистое беспредельное пространство», а ведущим предметным образом готический собор — «превратившееся в камень выражение». Основные качества фаустовской души — воля, сила, деятельность, а главные желания — стремление к славе, завоеванию, преодолению пространств.
Главный герой «Епифанских шлюзов», кажется, вполне соответствует представлениям о фаустовской душе. Вместе с тем в его восприятии России и ее культуры угадывается то, что отличает, по Шпенглеру, арабско-византийскую культуру, которую во многом наследует становящаяся русская культура, а именно - ее магическую душу. Одной из наиболее привлекательных идей Шпенглера для Платонова была мысль о том, что душа каждой культуры имеет своим важнейшим фактором характер пространства, в котором она формируется и пребывает. Так, если для фаустовской души, то есть западноевропейского человека, отношение к пространству всегда было сопряжено со страхом («Существует таинственная связь между пространством и смертью», - пишет Шпенглер), то в той же мере этот человек отмечен «страстным стремлением проникнуть в бесконечные дали пространства». В соответствии именно с таким, как теперь говорят, амбивалентным (т. е. противоречиво-целостным) восприятием предстают перед Бертраном Перри пространства России. Они — «таинственны, великолепны и грандиозны», над ними — «страшная высота неба». Очарование Петром и желание «стать его соучастником в цивилизации дикой и таинственной страны» соединяется у англичанина со страхом: «ужаснулся затее Петра: так велика оказалась земля, так знаменита обширная природа, сквозь которую надо устроить водный ход кораблям». Показательно, что в ответ на удивление и страх иностранцев перед безмерностью русского пространства ямщики только ухмыляются: «оно так видней и просторней! Степь в глаза — веселья слеза!».
В «Епифанских шлюзах» русская душа не стоит в центре художественного исследования, но знаменательно то, что автор соотносит ее сущность именно с пространством. История епифанцев (читай: русских) дается отдельными вкраплениями в текст, но всякий раз подчеркивается роль пространства в их судьбе: как бежали когда-то они сюда от прежних царских воевод, так бегут теперь дальше, на Урал и в калмыцкие степи. По Платонову, именно родственная связь с пространством обусловила многие черты русского национального характера, в частности, его способность органически устраивать свою жизнь на любом месте. С точки зрения иностранцев, жизнь в Епифани несносна, но русские вполне ею довольны: «Казалось, что люди здесь живут с великою скорбию и мучительной скукой. А на самом деле — ничего себе. Ходили друг к другу на многие праздники, пили самодельное вино, ели квашеную капусту и по разу женились». Пространство всегда обеспечивало для русского человека возможность жить, сохраняя относительную независимость от государства. Русских в «Епифанских шлюзах» как раз и отличает неприятие над собой государства. Один из стражников, сопровождавших Перри в Москву на царскую казнь (за то, что идея водного тракта так и осталась нереализованной), говорит ему: «И куды мы тебя ведем? Может, на мертвую казнь! Нонешний царь горазд на всякую лютость... Я б убег на глазах! Пра! А ты идешь цыплаком! Кровя у тебя, брат, дохлые — я б залютовал во как и в порку не дался, тем более в казнь!..»
Именно народу дает Платонов сокровенное знание того, что неведомо инженерам и чиновникам с их проектами и расчетами: «А что воды мало будет и плавать будет нельзя, про то все бабы в Епифани еще год назад знали. Поэтому и на работу все жители глядели как на царскую игру и иноземную затею, а сказать — к чему народ мучают — не осмеливались».
Так, с помощью «остраненного» взгляда Платонов приоткрыл важную страницу исторического бытия русского народа с тем, чтобы после этого снова окунуться в современность, посвятив новой переломной эпохе в истории России свое самое значительное произведение — роман «Чевенгур».
«Чевенгур»: русская душа в коммунизме
«Чевенгур» - едва ли не самое сложное произведение Платонова. Здесь воспроизводится одна из наиболее драматических страниц истории русской души: ее попытка в революции реализовать вековечную мечту об устройстве счастливой и благополучной жизни, организации на начетах равенства и справедливости богочеловеческого царства на земле. Следует отметить, что в конце 20-х годов мировосприятие Платонова во многом изменилось даже по сравнению со временем создания «Сокровенного человека» и «Епифанских шлюзов». Тогда Платонов, сомневаясь и постепенно освобождаясь от утопических идей, еще надеялся на преодоление разрыва между революционными идеалами и практикой революционного разрушения жизни. Теперь разворачивающиеся в стране кампании индустриализации и коллективизации все больше убеждали его в бесперспективности и антинародности «новой» жизни. Писателем все больше овладевало депрессивное, смятенное состояние духа. Очевидно, именно это вызвало к жизни трагедийную доминанту и «Чевенгура», и «Котлована», художественный мир которых отмечен явными чертами гротеска и абсурда. В «Чевенгуре» русская душа предстает во всей многогранности и парадоксальности своих проявлений. Читая роман, словно обнаруживаешь исключительно выразительное подтверждение мыслям Н. Бердяева, много и убедительно писавшего о русском национальном характере. Сравнивая русскую душу с западной, философ, в частности, отмечал: «Западная душа гораздо более рационализована, упорядочена, организована разумом цивилизации, чем русская душа, в которой всегда остается иррациональный, неорганизованный и неупорядоченный элемент...». По-видимому, именно эти стороны русской души главным образом привлекают внимание автора «Чевенгура». Не случайно, когда Платонов попытался в
В основной сюжетной части романа Платонов моделирует условную художественную ситуацию, когда в отдельно взятом городе учреждается коммунизм. Именно здесь русская душа пытается реализовать сокровенный смысл своего существования и обрести чаемый идеал свободы, равенства и братства; Однако действия чевенгурцев оборачиваются полной противоположностью их целям — разочарованием, насилием, смертью. Попытки «справедливого» социального устройства жизни наталкиваются и на не поддающуюся тотальной организации природу человека, и на оторванность теории от реальной жизни, и на преступное забвение отдельной человеческой личности в ходе утверждения общего счастья.
Но при всем при том, что методы установления коммунизма коренным образом противоречат элементарным нормам гуманности (достаточно вспомнить «второе пришествие», которое чевенгурцы устраивают для местных «буржуев», дважды расстреливая каждого из них - тело и душу, чтобы «Даже загробная жизнь их не могла порадовать»), есть нечто такое в этих людях, что заставляет и смеяться над ними, и сочувствовать им. Они искренни и возвышенны в своих надеждах и заблуждениях, наивны и простодушны в словах и поступках. Они остро переживают чувство дружбы и товарищества (ср. у Н. Бердяева: «русские — народ не столько семейственный, сколько коммюнотарный», то есть склонный к общению и объединению в разного рода сообщества-товарищества). Поэтому сам коммунизм для чевенгурцев и есть товарищество. Когда возникает вопрос, чем же будут заниматься люди в новоустроенном городе, где упразднен труд, имущество и все, что может хоть как-то указывать на неравенство людей, Чепурный, лидер чевенгурских коммунистов, говорит: «А душа-то человека — она и есть основная профессия. А продукт ее — дружба и товарищество!». В отношениях между собой им свойственны душевность и отзывчивость, они трогательно заботятся друг о друге. С. Семенова справедливо замечает, что в «Чевенгуре» находит воплощение «глубочайшее чаяние русской души» — чаяние «всеобщего равенства и полного душевного товарищества», и «коммунизм» здесь совершенно особый, это юродивый коммунизм русской народной души...».
Определяющим фактором поведения чевенгурцев является, безусловно, революция. При этом восприятие ее идей и целей носит подчеркнуто религиозный характер. Автор «Чевенгура», будучи, по-видимому, солидарным с мыслью Н. Бердяева о том, что «русский народ — религиозный по своему типу и по своей душевной структуре», показывает, как религиозное чувство окрашивает все действия и стремления чевенгурцев. Интересно, что об этом же Платонов говорил еще в «Сокровенном человеке», где Пухов иронически заявляет: «...ты его хочешь от бывшего бога отучить, а он тебе Собор Революции построит...», а в сатирической повести «Город Градов» (1926) современная идеология открыто объявляется аналогичной религии: «Религия пошла у нас новая и посерьёзней православной».
В религиозности русского человека особое место занимает апокалиптическое видение мира — представления о втором пришествии Иисуса Христа, о конце света и наступлении Царства Божьего на земле. Подобные идеи обильно представлены в «Ч». Они проявляются и в пассивном ожидании своей участи «старых чевенгурцев», и в убежденности устроителей новой жизни в наступлении конца истории и времени вместе с наступлением коммунизма. «У нас всему конец, - говорит Чепурный. - ...всей всемирной истории». Поэтому учреждается новое летоисчисление («Летом 5 ком.»), и ожидается «любое благо», о котором Чепурный говорит: «тут тебе и звезды полетят к нам, и товарищи оттуда спустятся, и птицы могут заговорить, как отживевшие дети, - коммунизм дело нешуточное, он же светопреставление!».
Эсхатологическое восприятие жизни в конечном итоге приводит чевенгурцев к подлинной трагедии. Потому что, остановив время и оказавшись тем самым в пустом пространстве, они впадают в неразрешимое противоречие, когда «идти больше некуда», но по-прежнейу «в человеке стоит тоска». По закону травестии чевенгурский коммунизм из рая превращается в ад, где нет места отдельному человеку, свободе и гуманизму.
Говоря о религиозности русского народа, следует также иметь в виду то, что именно в русском православии наиболее последовательно реализовалась идея богочеловечества. В романе Платонова видим целый ряд вариантов реализации этой идеи. Здесь есть персонаж, прямо объявляющий себя богом, поступки же героев нередко уподобляются (чаще всего пародийно-травестированно) действиям Творца. Особенно наглядно это предстает в попытках Чепурного оживить умершего мальчика. В самом характере взаимоотношений между чевенгурцами угадывается подмена Бога человеком. На это указывает в своем анализе романа С. Семенова. Исследователь подчеркивает, что Платонов, идя вслед за Достоевским, давшим в «Подростке» видение будущего мира, отказавшегося от Бога, говорит о «самоуправстве человека, пытающегося предлагать свою систему ценностей в мире, лишенном обоснования...». Неизбежным следствием этого оказывается «тревога неуверенности», «беззащитная печаль», «бессмысленный срам» и, в конечном итоге, — «великое сиротство».
Со всей определенностью встает в «Чевенгуре» чувственно-впечатлительная сторона души русского человека. Но если в «Ямской слободе» мы видели резкое противоречие-разрыв сознания и чувства, то в «Чевенгуре» оно осмысляется как своеобразная синкретическая форма постижения мира, поэтому столь часты здесь выражения «чувствовал свой ум»; «чувство сознания»; «в тебе слабое чувство ума»; «чувство истины»; «сообрази своим умом вслух»; «почувствуй сам». В своей приверженности чувству чевенгурцы в массе своей отрицательно относятся к разуму, «умным людям» и науке (ср. мнения Захара Павловича: «у власти опять умнейшие люди дежурят — добра не будет»; Копенкина: «Грамотный умом колдует, а неграмотный на него рукой работает»; а также в авторских характеристиках Чепурного: «при напряжении мысли ничего не мог выдумать»; Саши Дванова: «зря горела лампа в юности Александра Дванова, освещая раздражающие душу страницы книг, которым он позднее все равно не последовал...». Здесь, очевидно, сказалось своеобразно интерпретируемое Платоновым мнение о приверженности русского человека стихийному началу жизни. В соответствии с этим герои «Чевенгура» исполняют жизнь «вперед разума и пользы» и действуют «без плана и маршрута». Нередко они впадают в крайности противопоставления истории и «текущего момента», техники и человека, природы и цивилизации. Так, Александр Дванов «в душе любил неведение больше культуры: невежество — чистое поле, где еще может вырасти растение всякого знания, но культура уже заросшее поле, где соли почвы взяты растениями и где ничего больше не вырастет». Знаменательно, что чевенгурский коммунизм принципиально не согласуется его устроителями с научно-теоретической его версией: «Чепурный взял в руки сочинение Карла Маркса и с уважением перетрогал густонапечатанные страницы: писал-писал человек, сожалел Чепурный, а мы все сделали, а потом прочитали, - лучше бы и не писал» (ср. также: «Карл Маркс смотрел со стен, как чуждый Саваоф...»).
Довлеющая над чевенгурцами идея жизни в ее крайних, противоречиво-несовместимых проявлениях изживает себя, ибо вступает в противоречие с принципиальной многосторонностью и многокрасочностью мира. Не случайно Копенкин угадывает в Чевенгуре несоответствие реальной жизни: «Уж дюже хорошо у тебя в Чевенгуре, - говорит он Чепурному. - Как бы не пришлось горя организовать: коммунизм должен быть едок, малость отравы — это для вкуса хорошо». Парадоксально то, что чевенгурцы, создавая город, замкнутый в самом себе, остановленный в пространстве и времени, на самом деле не в состоянии жить без движения. Наступает момент, когда каждый из них «устает от постоя» и собирается покинуть город. Один чевенгурец, по имени Луй, вообще «убедился, что коммунизм должен быть непрерывным движением людей в даль земли. Он сколько раз говорил Чепурному, чтобы тот объявил коммунизм странствием и снял Чевенгур с вечной оседлости». Здесь уместно вспомнить то, что «сняться с места», «уйти» для русского человека всегда было некой органической потребностью, резко активизировавшейся в моменты кризисные, судьбоносные (ср. «уход» Л. Толстого). В конечном итоге, именно движение и открытое пространство — главная страсть русской души — остаются ее последним прибежищем в «Чевенгуре». Воистину, «Россия осуществляется как бесконечный диалог Петербурга и Руси, города и дороги. Прочтите «город» наоборот — выйдет «дорога»: они антиподы. Петербург есть «место», точка, а Русь — путь-дорога». И бесконечность, и истина, таким образом, мыслятся осуществимыми, достижимыми не в определенной точке, но в вечном пребывании в пути.
Как не существует психологических типов в чистом виде, так и национальная душа не может быть воплощена в отдельном человеке или художественном образе. Поэтому, говоря о русской душе у Платонова, все время следует иметь в виду, что мы до известной степени упрощаем и огрубляем явление. Так, в «Чевенгуре» суммарно-обобщенный взгляд на специфику русской идеи и русского человека требует конкретного рассмотрения в отдельных образах романа. И здесь видим, что каждый из них словно представляет ту или иную ипостась русской души. В главном герое романа, Александре Дванове, выделяется мягкость, впечатлительность и открытость миру (ср.: «сочувствовал любой жизни...»;, «не имел брони над сердцем»; «он до теплокровности мог ощутить чужую отдаленную жизнь». Копенкин в своем неустанном движении и готовности выражает в первую очередь стихийную силу революции, в нем живет фанатическая приверженность идее равенства и самоотверженности (ср.: «всю жизнь не сделавший себе никакого блага»; «жил не хлебом и благосостоянием, а безотчетной надеждой»). В отличие от Дванова и Копенкина, Чепурный лишен каких бы то ни было сомнений в правоте своего дела; создавая обособленный и никому не подчиняющийся Чевенгур по своему образу и подобию (ср. «глядел на Чевенгур, заключивший в себе его идею»), он с максимальной полнотой выражает социальный утопизм русского человека. Представлены в романе и два принципиально отличных типа русского человека-интеллигента — Полюбезьев и Сербинов. Если в образе Полюбезьева акцентирована кротость и подлинная религиозность, доведенные до известной крайности (отсюда авторская ирония в повествовании о нем), то образ Сербинова воплощает тип русского полуинтеллигента, живущего «голым сознанием», в остром переживании своей бесплодности, замкнутости на самом себе и своем разуме (ср.: «Сербинов ... почти не желал существовать, очевидно, он действительно и глубоко разлагался...»). Как видим, платоновская русская душа в «Чевенгуре» отличается исключительным многообразием и богатством своих проявлений.
«Котлован»: душа, взыскующая истины
Если в «Чевенгуре» Платонов обращает преимущественное внимание на такие важнейшие черты русской души, как ее жажда идеала социальной жизни, обостренное чувство братства и товарищества, устремленность к будущему, то в «Котловане» основным объектом художественного интереса писателя становится душа в напряженных поисках истины, взыскующая, как любил говорить Платонов, смысла жизни. Центральной темой этого произведения, в известной степени скрытой за его внешнесобытийным сюжетом, связанным с событиями индустриализации и коллективизации, является именно поиск истины. Здесь опять уместно вспомнить Н. Бердяева, утверждавшего, что «всякий истинно русский человек интересуется вопросом о смысле жизни и ищет общения с другими в искании смысла». При этом он ставит и стремится решить «крайние» вопросы не «чистым» разумом, но как бы всем своим существом, стоя перед загадкой мира, перед самой жизнью, остро переживая невозможность обрести ее окончательный смысл и назначение. Отсутствие истины — главная причина утраты душевного равновесия трех основных героев повести - Вощева, Прушевского, Чиклина. «У меня без истины тело слабнет», - говорит Вощев. Ему вторит Прушевский, который «уже с 25 лет почувствовал стеснение своей жизни, будто темная стена предстала в упор перед его ощущающим умом...». Чиклин, вроде бы наоборот, старается работой избавить себя от мыслей о смысле жизни: он «без спуску и промежутка громил ломом плиту самородного камня, не останавливаясь для мысли или настроения; он не знал, для чего ему жить иначе — еще вором станешь или тронешь революцию». Но показателен сам по себе отказ Чиклина от «мысли». Характерна и своеобразная оговорка в его последних словах: он как будто сам предвидит, что в случае если задумается, то нужно будет отказать революции в правде и истине.
В «Чевенгуре» мы видели, что стремление людей к единению, товариществу (хотя бы между «своими»), находит известную реализацию. В «Котловане» же общую трагедийную атмосферу порождает прежде всего всеобщее отчуждение. Здесь человек отчужден от других людей, от мира, от самого себя. Мысль о бесприютности и потерянности людей в мире неоднократно напрямую выражается в «Котловане» (ср.: «Как заочно живущий, Вощев гулял мимо людей, чувствуя нарастающую силу горюющего ума и все более уединяясь в своей печали»; «Устало длилось терпенье на свете, точно все живущее находилось где-то посредине времени и своего движения: начало его всеми забыто и конец неизвестен, осталось лишь направление»), но находит также опосредованное воплощение в особенностях художественной формы. Как всегда, у Платонова исключительно значима пространственно-временная организация повествования. В отличие от «Чевенгура», где мы видим как бы растянутость всего действия в пространстве (статикой отмечена только отдельная часть повествования, где речь идет собственно о Чевенгуре), мир «Котлована» представляет собой, скорее, замкнутую структуру. Во многом именно замкнутость пространства, в котором пребывают герои «Котлована», обуславливает их тоску. Преодолеть эту замкнутость они стараются постоянным, не имеющим строгой направленности хождением с места на место. Эти хождения больше напоминают блуждания, круговые движения, в которых исчезает цель и смысл существования людей. «Котлованность», таким образом, оказывается несовместимой с природой русской души. «Общепролетарский дом счастья», под который роется котлован в повести, становится могилой девочки Насти и того светлого будущего, которое она олицетворяет в повести.
***
Хороша или плоха русская душа по Андрею Платонову? Вопрос праздный. Она разная, сложная и трудно уловимая, определенная разве что в своей неопределенности, противоречивой целостности и устремленности в даль пространственную и духовную. Будучи писателем глубоко национальным, Платонов выразил самые сокровенные стороны русской души, став тем самым в ряд ее выдающихся художников.
Л-ра: Всесвітня література та культура в навчальних закладах. – 2000. – № 6. – С. 51-56.
Произведения
Критика