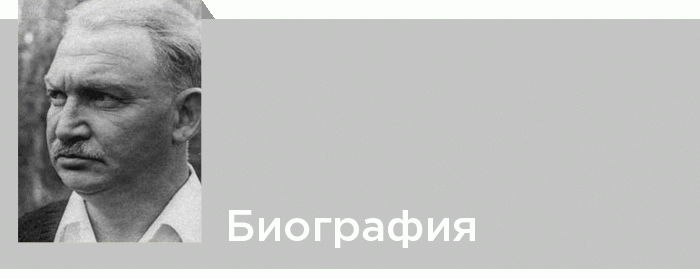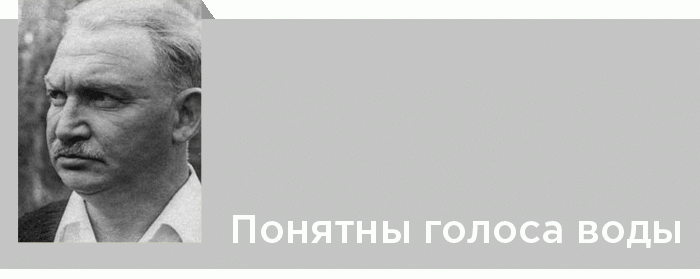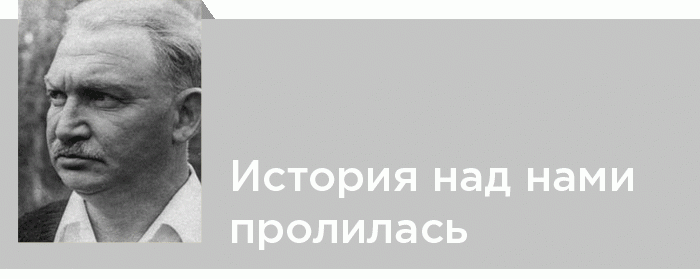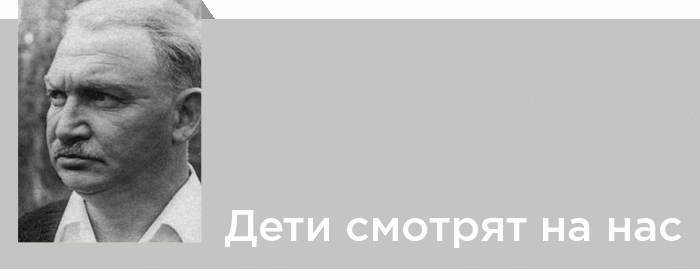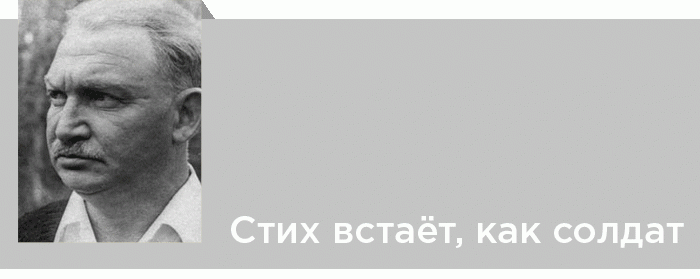«Ночной таксист»

Наталья Камышникова
Публикации в журналах и газетах: «Знамя», «Новый мир» «Дружба народов», «Юность», «Аврора», «Сельская молодежь», «Нева», «Огонек», «Вопросы литературы», «Крокодил», «Крестьянка», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Неделя», «Книжное обозрение», альманахе «Поэзия», 1986—1988.
Никогда не видела его. Хотя всякий раз, поднимаясь по ступенькам грузного старого дома за Белорусским вокзалом — в гости к писательнице, которую до сих пор не отпускает война, — думала, что Слуцкий бывал здесь еще в конце тридцатых. И Коган, и Самойлов. Что в комнатке за кухней, где я буду чинно пить чай, в «навечно прокуренной» комнатке, похожей на пенал, они засиживались допоздна, шумели, спорили, острили, читали стихи, а потом была война, и Коган с нее не вернулся.
Слуцкий с войны возвращался сорок лет. Наверно, все-таки надо было попросить о знакомстве: стихи его были во мне, давно уже вслушивалась в их строгую правду. Но — эта сухость в горле: что я могу ему сказать? И наивная уверенность, что вокруг него и так много народу. И самолюбивое нежелание числиться среди поклонниц...
Он был тогда болен и одинок.
Современником быть трудно. У многих не получается. В солидных монографиях о современной поэзии для Слуцкого не находилось места. Критики ломали копья вокруг «черепа отца» и, бог ты мой, на кого только не делали ставку в своих обзорах. Сборник «Сроки» появился в самый разгар разговоров о «новой волне» и прошел почти незамеченным. Помню высокую стопку непроданных экземпляров этой последней, лучшей книги Слуцкого в столичном магазине «Поэзия»...
Слуцкий никогда не был в моде.
Усилиями Юрия Болдырева из рабочих тетрадей, из ящиков стола выходят на свет все новые и новые стихи Слуцкого. Впрочем, конечно же, не новые. Иные ждали своего часа двадцать лет, иные — тридцать... иные ждут и сегодня. Поэт был готов к этому. И писал с усмешкой и болью:
Хорошо бы, жив пока, после смерти можно тоже, чтобы каждая строка вышла, жизнь мою итожа.
Хорошо бы самому лично прочитать все это, ничему и никому не передоверив это.
Можно передоверять — лишь бы люди прочитали, лишь бы все прошло в печать: мелочи и все детали.
Мелочи и детали были его строительным материалом. Свой демократичнейший стих добывал он из прозы, из разлада, из шелухи повседневного житья — равнодушные к поэзии люди медленно улыбались, читая: это оказывалось про них! Поэтов издавна называют жрецами прекрасного, пророками, бойцами, борцами... Слуцкий называл себя ночным таксистом.
Я ночной таксист. По любому знаку, крику я торможу, открываю дверцу любому и любого я отвожу.
...Кто он, этот читатель ночной, для чего я ему понадобился, может быть, он просто полакомился занимательной строчкой одной?
Может быть, того не планируя, я своею глухою лирою дал ответ на глухой вопрос, до которого он дорос?
Слуцкий любил точные эпитеты. «Глухая лира» — это стоит многих наших страниц о нем. Жесткость его самооценок поразительна, в «Сроках» прехладнокровно заявлено: «Я, как писатель, — средний»; но, кажется, тут другое. И блоковское «в года глухие» кое-что может прояснить. Писатели ведь не решают вопросов, они их ставят. В 1937-м Слуцкому было восемнадцать, на войну он ушел двадцатидвухлетним, первую книгу издал после Двадцатого съезда, творческая зрелость совпала с началом общественного застоя, — словом, ему было о чем спросить свою эпоху. Но, ставя вопросы, он не уклонялся ни от прямого ответа («самые сильные и бравые» стихи, правда, так и не пробились в печать), ни от ощущения собственной вины. «Всем лозунгам я верил до конца и молчаливо следовал за ними, как шли в огонь во Сына, во Отца, во голубя Святого Духа имя. И ежели рассыпалась скала, и бездна разверзается, немая, и ежели ошибочка была — вину и на себя я принимаю».
О жизни напишут знавшие его. О стихах же, о «глухой лире», хорошо сказал Л. Аннинский: «Это простота, прошедшая долгий искус сложностью».
На войне он был политработником. Рискну предположить, что «вся его демонстративная очерковость, газетность, вся агитационная прямота» его «хриплого» (Аннинский) стиха — оттуда, из четырех запомнившихся по дням лет, когда в цене был единственно поступок и собственный пример. В извечном мировом споре: польза или красота? правда или красота? — Слуцкий без колебаний бы выбрал пользу и правду. А красота для него была — следствием устроенного миропорядка. Все тот же Аннинский называл его певцом структуры (и значит, стереотипа, значит, закона равновесия), его стихи об уюте быта, об элементарных житейских ценностях зачислял по ведомству «собесовских», пенял ему за самоудовлетворение вписавшегося винтика — но в том-то все и дело, что Слуцкий винтиком себя не ощущал. Скорее — «заводом, вырабатывающим счастье».
В самый раз сказать здесь о традиции. С Маяковским его роднит не только предельно прозаизированный стих. Не только мощное эпическое начало. (Самый внимательный его читатель и исследователь Ю. Болдырев пишет о лирическом эпосе, оставленном Слуцким, — «эпосе нашей жизни со всеми ее радостями и страданиями, достижениями и прорехами, болью и счастьем, пафосом и враньем, реальностью и идеалами».) Не только угловатый, неровный, «говорной» ритм, как бы не знающий о классической норме. Роднит прежде всего — воспользуюсь тыняновской формулировкой — борьба за гражданский строй поэзии, борьба и внешняя, и глухая, внутри стиха, когда поэт «наступает на горло собственной песне».
Утверждают, впрочем, что Маяковский испытывал непреодолимое чувство неловкости, неполноценности даже, что вот занят таким несерьезным, таким немужским вроде делом, как поэзия (Б. Сарнов). В посмертных публикациях Слуцкого поражает достоинство, с каким поэт размышляет о своей профессии.
Все правила — неправильны, законы — незаконны, пока в стихи не вправлены и в ямбы — не закованы.
Период станет эрой, столетье — веком будет, когда его поэмой прославят и рассудят.
Пока на лист не ляжет
«Добро!» поэта,
пока поэт не скажет,
что он — за это,
до этих пор — не кончен спор.
Сказать, что стихи «рассудят» время, так же органично для Слуцкого, как выстроить, констатируя упадок поэзии, следующий ряд: «Не могут дать поэты мира народам мира чувств, идей и лозунгов и формул тоже». Кого-то смутит этот прикладной взгляд на священную миссию поэта. Но, как немногие, Слуцкий сознавал тяжесть и доблесть таланта. Сколько веры в несуетности слова нужно было иметь — и в скольких словах обмануться, — чтобы написать:
Поэтом быть уже не страшно.
Профессия слишком легка.
Стагнация души, самое горькое последствие нашей общественной апатии в 6равурные смутные времена Слуцкого никоим образом не коснулась. Стихи, пришедшие к нам после его смерти, кажутся написанными не вчера и даже не сегодня — завтра. Впечатление усиливается тем, что дат он не ставил: не любил.
Ссылки получают имя ссыльных.
Книги издаются без поправок.
В общем, я не верю в право сильных.
Верю в силу правых.
Восстанавливается справедливость, как промышленность, то есть не скоро.
Все-таки, хотя и не без спора, восстанавливается — справедливость.
Трудный, упорный ход стиха - «вос-ста-на-вли-ва-ет-ся справедливость», — заставляющий ощутить яростное сопротивление; неповторимо «слуцкая» интонация с ее энергией размышления; дыхание истории и войны в сравнении, сопрягающем экономику с этикой, политику с правдой, — и как тяжелеет, весомеет слово «справедливость» благодаря этому невероятному до Слуцкого сравнению. Но даже не оно, не такое слово, оказалось ключевым в посмертных публикациях. В эпическом дневнике Слуцкого (в лирической летописи?), где тема «личности», тема культа, тема Медного всадника и оставленного в «глине человеческой» отпечатка «державных копыт» была неизбежна, как военная тема — неизбывна, — в этом дневнике есть запись:
У меня было право жизни и смерти.
Я использовал наполовину, злоупотребляя правом жизни,
не применяя право смерти.
Это — моральный образ действий в эпоху войн и резолюций.
Не убий, даже немца,
если есть малейшая возможность.
Даже немца, даже фашиста, если есть малейшая возможность.
Если враг не сдается, его не уничтожают.
Его пленяют.
Его сажают
в большой и чистый лагерь.
Его заставляют работать восемь часов в день — не больше.
Его кормят. Его обучают — врага обучают на друга.
Военнопленные рано или поздно возвращаются до дому.
Послевоенный период рано или поздно становится предвоенным.
Судьба шестой мировой зависит от того, как обращались с пленными предшествующей, пятой.
Милосердие. Милость к падшим. Прошедший все круги войны, битый и пытанный жизнью, влившийся «в общий хор, общий гул, общий стон, общий шепот», — Слуцкий напоминает нам, уже из другого измерения, что добро должно быть добрым, и никаким иным. «Если, кроме права свободы печати, совести и собраний, вы получите большее право: жизни и смерти — милуйте чаще, чем карайте. Злоупотребляйте правом жизни...» И снова о том же: «Вы решаете судьбу людей? Спрашивайте про детей, узнавайте про детей — нет ли сыновей у негодяя». И опять: «Кто они, мои четыре пуда мяса, чтобы судить чужое мясо. Больше никого судить не буду. Хорошо быть не вождем, а массой. Опыт мой особенный и скверный — как забыть его себя заставить? Этот стих — ошибочный, неверный. Я неправ. Пускай меня поправят».
Дат под стихами, повторяю, нет (известно только: он оставил поэзию в 1977 году), но, надо думать, — Слуцкий не был одинок в этих трудных своих размышлениях. Вячеслав Кондратьев написал «Сашку», Давид Самойлов, на самой заре шестидесятых доказывавший что «гуманизм» — не просто термин», десятилетие спустя вздохнул: «Мы уже дошли до буколик, ибо путь наш был слишком горек и ужасен с временем спор...» «Железное поколение» Слуцкого не было ни железным, ни суровым — но было цельным.
«Покуда руки мои хватают, покуда мысли мои витают, пока в родимой стороне еще прислушиваются ко мне, я буду вмешиваться, я буду мешать добивать, а потом добавлять, бойцов окровавленную груду призывами к милости забавлять».
Но было бы нелепо представить его благообразным праведником, составителем воскресных проповедей. Истинное добро по своей сути, вероятно, трагично. Вот, например, прочувствованная строка С. Куняева (которого Лев Аннинский очень ошибочно назвал учеником школы Слуцкого): «И нищим надо подавать, покуда есть они на свете». В заведомо беспроигрышной душевности этой фразы, в ее рациональном, рассчитанном пафосе, в ее долженствовании — надо! — мне слышится прописная привычная модель. Естественно (и кстати, так приятно) согласиться: да-да, надо. Этическая концепция стихотворения Слуцкого «Мост нищих», опубликованного в составе книги — книги! — стихов журналом «Знамя» (случай, кажется, беспрецедентный), потребует от читателя, любящего счастливые концы, определенных усилий. Скажу больше: вызовет сопротивление. Я приведу его целиком, потому что «железный» Слуцкий (это навязчивое определение проходит чуть ли не через все статьи о нем) и Слуцкий как он есть, орган чужой боли, поэт высокого трагизма, чья «глухая лира» резонировала с чуткостью чрезвычайной, ведут здесь напряженный диалог, решая для нас один из самых неподъемных вопросов.
Вот он — мост, к базару ведущий,
Загребущий и завидущий,
Руки тянущий, горло дерущий!
Вот он в сорок шестом году.
Снова я через мост иду.
Всюду нищие, всюду убогие.
Обойти их — я не могу.
Беды бедные, язвы многие
Разложили они на снегу.
Вот иду я, голубоглазый,
Непонятно, каких кровей;
И ко мне обращаются сразу
Кто горбатей, а кто кривей —
Все: чернявые и белобрысые,
Даже рыжие, даже лысые —
Все кричат, но кричат по-своему,
На пяти языках кричат:
Подавай, как воин — воину,
Помогай, как солдату — солдат.
Приглядись-ка к моим изъянам!
Осмотри мою беду!
[…]
При всей жесткой конкретике описания, при кинематографической цепкости авторского взгляда, думаю, это-все же притча, восходящая к старой истории о Вавилонском столпотворении и разобщении человечества, к античным трагедиям с их неотвратимостью выбора между чувством и долгом. Это притча о человеческом достоинстве. Поступок рассказчика тягостен, выглядит отталкивающе — подавать нищим, что ни говори, надо, и коли ты не в силах помочь всем, пожалей хоть одного — не об этом ли «романы из школьной программы», нежно Слуцким воспетые? Но жалко всех и вся. Но «не за то сидели мы в окопах», чтобы после Победы забыть о всечеловеческом равенстве и о том, с чего начинался фашизм, не за то шли под пули — русский, армянин, татарин, еврей, чтобы потом разделиться на касты, озлобившись в борьбе за хлеб насущный. Слуцкий понимает трагедию этих людей: «Когда мы вернулись с войны, я понял, что мы не нужны», — как и в предыдущей цитате, слово МЫ здесь так не случайно! Но — добренький жест или принцип социальной справедливости? сострадание «своему» или сострадание каждому из этих несчастных? — для Слуцкого не может быть двух ответов. Ты можешь больше, чем подать скудную милостыню, ты можешь и обязан охранить в ожесточившихся людях человеческое достоинство. Высшую ценность, которая одна только и спасает.
Но этот поэт не был бы Слуцким, если бы, высказав свое нравственное кредо, не услышал, как, «словно пораненный, мост кричит на пяти языках», если бы не увидел одинаково мучительного страдания на всех этих отчужденных лицах... Слуцкий не был бесстрастным летописцем. Он был нервом своего времени и болезненно отзывался на всякое злокачественное изменение социального организма.
Одна из любимых его мыслей — о тяжком труде, который нужно принять на себя, чтобы вырастить в себе интеллигентность; одно из любимых его слов — «духоподъемный». Мне кажется, Слуцкий, этот чеховский человек с молоточком, неустанно напоминавший людям об их обязанности оставаться людьми, еще попросту нами не услышан. Красноречивая иллюстрация: при том, что минувший поэтический год можно без преувеличения назвать годом Слуцкого (его печатали почти все «толстые» журналы, его отменного качества подборки активно появлялись в самых разных изданиях — от «Вопросов литературы» до «Крокодила») ни один из читателей — и критиков! — отвечая в «Литературной газете» на вопрос, что запомнилось особенно, не упомянул его имени. Да и вообще поэзия, а она была насущнейшей, оказалась не в чести. Причина, наверное, все та же: «мы ленивы и нелюбопытны»...
Что ж, огромное наследие Слуцкого еще не собрано в книги — будем надеяться, что он придет к нам весь, и будем надеяться, что ждать придется не очень долго; но уже сейчас, думая об этом поэте, можно повторить вслед за О.М. Нотманом, что литература жива единством атмосферы, наличием определенных неоспоримых ценностей и что создается эта атмосфера лишь ценой величайших личных усилий. Личных.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1988. – № 6. – С. 56-59.
Произведения
Критика