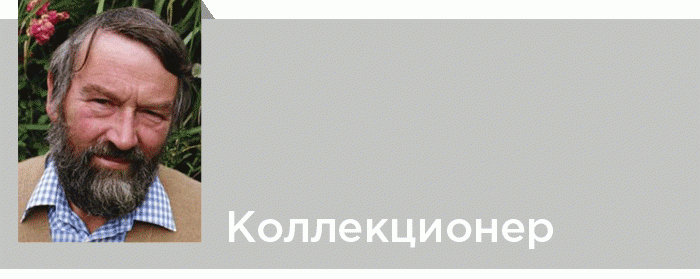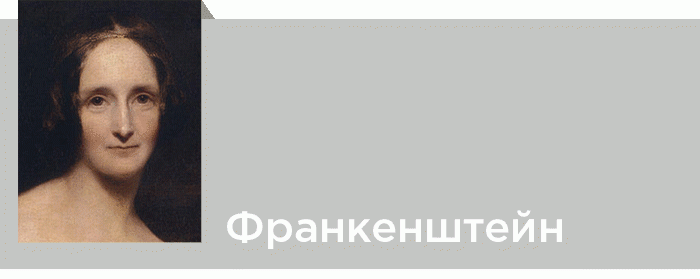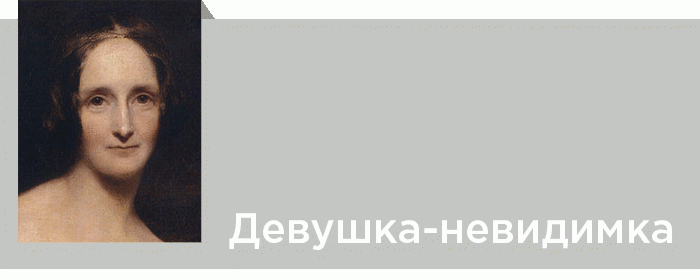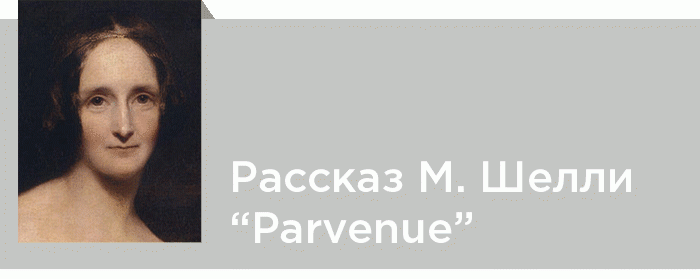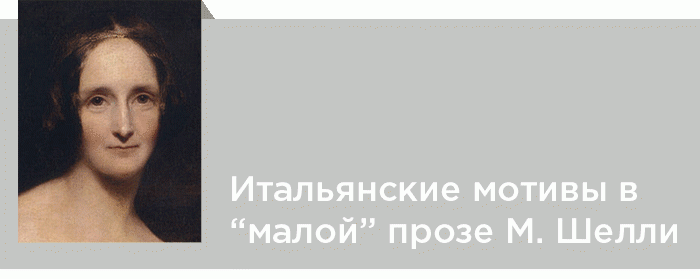Мэри Шелли. Наследник Мондольфо

(Отрывок)
В прекрасном и диком краю близ Сорренто, в королевстве Неаполитанском, во времена правления монархов из Анжуйской династии жил один дворянин, богатством и могуществом превосходивший всех своих соседей. Его замок, настоящая твердыня, был построен на скалистом уступе, нависавшем над прелестной синевой Средиземного моря. Окрестные холмы были покрыты падубом или использовались для выращивания олив и винограда. Нигде в целом свете не сыскалось бы места, щедрее оделенного природой.
Если бы ввечеру вам довелось проплывать по безмятежным волнам мимо этого замка, носившего имя Мондольфо, вы могли бы вообразить, что счастье и блаженство наверняка обитают внутри его стен, которые, пребывая в средоточии красоты, возвышаются над местностью, исполненной такой необычайной прелести; но если бы вам случилось увидеть, как его владетель выходит из главных ворот, вы содрогнулись бы от его сурового облика, вы задались бы вопросом, отчего на его изможденном лице запечатлелись такие борения страстей. Более жалостный вид являла его кроткая супруга – всецело подчиненная его невоздержанному нраву, терпеливо сносившая многочисленные обиды, она, казалось, уже почти достигла того единственного упокоения, в котором «беззаконные перестают наводить страх и отдыхают истощившиеся в силах». Князь Мондольфо в раннем возрасте сочетался браком с принцессой из сицилийской королевской фамилии. Она умерла при рождении сына. Много лет спустя он вернулся в свой замок из путешествия по государствам Северной Италии, во время которого женился во второй раз. Речь его молодой супруги выдавала в ней уроженку Флоренции. Говорили, будто он женился по любви, а потом возненавидел супругу, ставшую помехой его честолюбивым стремлениям. Она сносила все ради своего единственного ребенка – ребенка, с самого рождения вызывавшего неприязнь у отца; мальчика, исполненного душевного благородства и смелого до безрассудства. Став старше, он с гневом взирал на то, как обращается надменный князь с его матерью. Он дерзнул выступить ее заступником, дерзнул противопоставить свою мальчишескую отвагу отцовской ярости; итог был естественным – отец возненавидел его. На юношу обрушились всевозможные унижения; вассалам было велено выказывать ему неповиновение, слугам – насмешничать над ним и даже его брату – гнушаться им, словно более низким по крови и рождению. Однако в его жилах текла кровь Мондольфо; и хотя доброта, наследие кроткой Изабель, отчасти смиряла ее, она вскипала из-за несправедливости, жертвой которой он стал. Тысячу раз в красноречивых жалобах изливал он матери свою уязвленную душу. Когда ее здоровье ухудшилось, он замыслил в случае ее смерти бежать из отцовского замка и податься в наемники. Ему было уже тринадцать. Вскоре благодаря материнской проницательности госпожа Изабель открыла его тайну и, лежа на смертном одре, заставила сына поклясться, что он не откажется от покровительства отца, пока не достигнет двадцатилетнего возраста. Ее сердце обливалось кровью при мысли о том, какой скорбный удел его ожидает; но с еще большим ужасом она провидела нарисованные ее живым воображением картины того, как ее юный сын, одинокий и беспомощный, в отчаянии скитается, подвергаясь всем тяготам голода и нищеты – или, того хуже, поддаваясь искушениям, которые возникнут перед ним, если такое случится. Она добилась от него требуемой клятвы и умерла в уверенности, что он сдержит слово. Во всем мире одна она знала цену своему Лудовико – ибо, проникнув сквозь грубую оболочку, сумела убедиться, сколь богатый запас добродетели и нежности, подобно неизведанной руде, таится в его чувствительном сердце.
Фернандо ненавидел сына. С первых лет жизни мальчика князь питал к нему неприязнь и, не пытаясь подавить в себе это чувство, позволил ему укорениться столь глубоко, что самый невинный поступок Лудовико становился в его глазах преступлением, а запреты и притеснения составили целую систему, из-за чего пробудилось все дурное, что было в характере юноши, а в душе отца зародилось отвращение. Так подрастал Лудовико, ненавидимый и ненавидящий; соединенные силой обстоятельств, они были неразрывно связаны друг с другом – отец и сын, властелин и вассал, притеснитель и притесняемый; один всегда был готов употребить свою власть, чтобы причинить зло, другой постоянно был настороже, дабы противостать даже тени тирании.
После смерти матери характер Лудовико сильно изменился: улыбка, которая прежде, подобно солнцу, озаряла его лицо, не сияла более; казалось, главными его чувствами стали мнительность, раздражительность и упрямая решимость. Он вынуждал отца чинить ему самые жестокие обиды, сносил эти обиды и, удерживаемый от бегства клятвой, которую свято соблюдал, пестовал в себе злобные и даже мстительные чувства, пока чаша его гнева не наполнилась почти до краев. Его не любил никто, и лучшие чувства в нем угасли или крепко заснули, чтобы никогда более не пробудиться.
Отец предназначил его Церкви, и до шестнадцати лет Лудовико носил монашескую рясу. Когда этот срок миновал, он сменил ее на подобающий дворянину наряд, явился к отцу и коротко объявил, что отказывается покориться его желаниям и хочет посвятить себя военному ремеслу. Он вытерпел все, что последовало за этим, – угрозы, заточение и даже бесчестье, – но остался тверд; и надменному Фернандо пришлось подчинить свою грозную волю еще более непреклонной воле юноши. И теперь, когда гнев разрывал сердце князя, он впервые ощутил сильнейшую ненависть; он выразил свои чувства, обрушив на Лудовико слова презрения и безграничного отвращения; юноша ответил ему, и присутствовавшие боялись, что дело закончится поединком. Когда Фернандо положил руку на меч, Лудовико отступил и принял стойку, словно готовясь прыгнуть и схватить руку, которая могла подняться на него. Фернандо устрашился, увидев во взгляде сына безумную ярость. Во всех подобных столкновениях победа остается не за сильнейшим, но за более бесстрашным. Фернандо не желал ставить под удар свою жизнь или собственной рукой пролить сыновнюю кровь. Лудовико, который не нападал, а защищался, не заботился о последствиях – он решился стоять насмерть; и эта неустрашимость давала ему преимущество, которое его отец ощущал и не мог простить.
С той поры обхождение Фернандо с сыном переменилось. Он больше не наказывал его, не сажал в темницу, не угрожал. Все это годилось для мальчишки, а князь чувствовал, что здесь сошлись двое мужчин, и действовал соответственно. От этой перемены он выиграл; ведь он вскоре осознал все преимущества, каковые опытность, хитроумие и придворное воспитание неизбежно давали ему перед вспыльчивым юношей, который, сопротивляясь изо всех сил, не видел и не понимал, что действовать можно более скрытно. Фернандо рассчитывал довести сына до отчаяния. Он приставил к нему соглядатаев, нанимал людей, подбивавших его на преступления, и при помощи постоянных ограничений и противодействий надеялся ввергнуть юношу в такую безысходность, которая побудила бы его переменить свое поведение каким угодно образом, лишь бы избавиться от столь тягостной и унизительной неволи. Юношу спасала верность клятве, а ясность цели давала ему время, чтобы распознавать скрытые побуждения своих искусителей. За всем он видел руку отца, и его сердце терзалось этим открытием.
Ему исполнилось восемнадцать лет. Обращение, которому он подвергался и которое постоянно требовало от него стойкости и решимости, придало ему возмужалый вид. Он был высок, хорошо сложен и развит физически. В его наружности и поведении было больше энергии, нежели изящества, а держался он горделиво и сдержанно. Он обладал не слишком многими умениями, ибо отец не озаботился образованием сына; все они состояли в искусстве верховой езды и владении оружием. Он ненавидел книги, считая их непременной принадлежностью священников; он избегал любых занятий, которые держали бы его тело в праздности. Лицо его было смугло, от перенесенных невзгод даже тронуто желтизной; взор, некогда кроткий, ныне сверкал свирепостью; уста, созданные для нежных слов, теперь презрительно кривились; черные кудри, густо вившиеся вдоль шеи, довершали его диковатую, но величественную и примечательную наружность.
Была зима, лучшее время для охоты. Каждое утро охотники отправлялись травить вепрей и оленей, которых гончие вспугивали среди горных твердынь Апеннин. Это было единственное, что доставляло удовольствие Лудовико. Во время этих походов он чувствовал себя свободным. Верхом на благородном коне он мчался во весь опор, и кровь играла у него в жилах, а глаза горели восторгом, когда он устремлял орлиный взор в небеса; с невыразимо презрительной усмешкой он обгонял своих ложных друзей и явных мучителей и один стяжал первенство в ловле.
Зима обнажила долину у подножия Везувия и окрестные холмы; полноводный ручей стремительно несся с холмов, и его шум смешивался с лаем гончих и окликами охотников; море, темневшее под низким небом, со скорбными рыданиями разбивало волны о берег; Везувий гулко ворчал, и птицы вторили ему жалобными криками; задувал тяжелый сирокко, неся с собой сырость и холод. Этот ветер словно бы одновременно будоражит и угнетает рассудок: он пробуждает мысли, но окрашивает их в те же мрачные цвета, что и небо. Лудовико ощущал это, но силился перебороть естественные чувства, которые внушала ему окружающая атмосфера.
Температура воздуха изменилась в течение дня. Небо, затянутое тучами, прояснилось после обильного снегопада; ударил мороз. Облик мира переменился. Снег покрывал землю и лежал на оголенных деревьях, искристый, белый, нетронутый. Оленя вспугнули рано утром; он побежал через долину, огибавшую холмы, а ловчие устремились ему вслед. Погоня продлилась целый день. Наконец олень, который с самого начала устремился к всхолмью, стал взбираться по склону, и при помощи различных затейливых поворотов и скачков ему почти удалось сбить гончих со следа. День близился к закату, когда Лудовико в одиночку преследовал оленя, который направлялся к горному плато, соединенному с холмами узким перешейком, а другими тремя сторонами круто нависавшему над долиной. Лудовико занес копье, собаки приостановились, ожидая, что загнанное животное будет защищаться. Олень в один прыжок оказался на самом краю обрыва; еще прыжок – и он скрылся из виду. Он ринулся вниз, ожидая больше жалости от скал, чем от человека. Лудовико был утомлен преследованием и досадовал, что добыча ушла. Он соскочил с коня, привязал его к дереву и принялся искать тропинку, по которой мог бы безопасно сойти в долину. Снег, покрывавший землю, замел следы, которые обычно оставляли коровьи и козьи стада, спускавшиеся с горных пастбищ в низлежащие селения. Но Лудовико провел в горах все детство: покуда его охотничье копье находило твердую опору или пока можно было ухватиться за какую-нибудь ветку, он не боялся и уверенно шел вперед; но спуск был крутым, и необходимая осторожность заставила его двигаться медленно. Солнце достигло горизонта, и его закатный свет скрывали стремительно набегавшие тучи, которые ветер пригнал с моря – холодный ветер, взвихрявший снег и стряхивавший его с деревьев. Наконец Лудовико достиг подножия утеса. На снегу, в блеске которого сумерки казались еще более темными, он увидел четыре глубоких следа, должно быть, оставленных оленем. Обрыв был высоким, и олень спасся только чудом. Он наверняка спасся, но никаких других следов не оставил. Рядом простирались падубовые заросли, окруженные густым мелколесьем, и казалось невозможным, чтобы такое крупное животное, как олень, могло пробраться сквозь столь очевидно непреодолимую преграду. Страстное желание выследить добычу овладело сердцем Лудовико. Побродив некоторое время по окрестностям, он в конце концов обнаружил узкую тропинку, ведущую через лес, и несколько легких следов, указывавших, что олень искал убежища в долине. С быстротой, достойной его добычи, Лудовико ринулся по этой тропинке и не думал, далеко ли забежал, пока, задыхаясь, не очутился перед домиком, преградившим ему путь. Он остановился и огляделся. Окружающая местность имела необычайно унылый вид. Еще не успело стемнеть, но вечерние тени уже, казалось, спускались с туч, которые широкой пеленой медленно надвигались с запада. Черные блестящие листья падубов, лавра и мирта резко выделялись на фоне покрывавшего их снега. Порой ветерок, пробегая по веткам, стряхивал снежные хлопья и нарушал окрестную тишину; иногда какая-нибудь птица чирикала или, печально хлопая крыльями, летела через лес к себе в гнездо, укрытое в дупле. Домик выглядел необитаемым: в окнах не было стекол, к порогу намело сугробы, а на тропинке, что вела к двери, не виднелось ничьих следов. Однако из трубы время от времени поднимался легкий дымок, а прислушавшись, Лудовико как будто уловил чей-то голос. Он крикнул, но ответа не получил. Юноша надавил на щеколду, та подалась, и он вошел внутрь. На полу, усыпанном листьями, лежала женщина; она была больна и готовилась испустить последний вздох – слабое движение ее глаз говорило о том, что жизнь еще не покинула свой престол, однако смерть уже разливала бледность по ее лицу. Женщина была пожилой, и ее седые волосы свидетельствовали, что она сходит в могилу не безвременно. Но рядом с ней преклонила колени юная девушка, которую можно было бы принять за небесного ангела, готовившегося принять и препроводить отходящую душу к вечному покою, если бы не жестокое страдание, запечатлевшееся на ее чертах, и остановившийся, хотя и исполненный чувства взор. Она была молода и прекрасна, словно вечерняя звезда. Она явно обделила себя, чтобы обогреть умиравшую подругу, ибо шея и руки ее были голыми и только темные волосы густыми волнами спускались ей на плечи. Она была поглощена наблюдением за переменами, происходившими с больной. Ее щеки и даже губы были бледны; а глаза глядели столь пристально, словно в них сосредоточилась вся ее жизнь. Она не слышала, как вошел Лудовико, или, по крайней мере, не подала виду. Больная что-то пробормотала; склонив голову, чтобы лучше расслышать, девушка с отчаянием в голосе ответила:
– Я не могу достать еще листьев, потому что землю замело снегом; и у меня больше нет теплых вещей, чтобы укрыть тебя.
– Ей холодно? – спросил Лудовико, подойдя ближе и наклонившись к убитой горем девушке.
– Да, очень холодно! – ответила та. – И нечем помочь.
Лудовико выехал на охоту в шелковой накидке, отороченной дорогим мехом; перед спуском он сбросил ее и оставил рядом со своим конем, чтобы она не стала для него помехой. Выскочив из домика, он кинулся по тропинке и, идя по собственным следам, достиг того места, где ждал его скакун. Обратно юноша спускался другим путем: рассудив, что ему следует поискать помощи для умирающей, он направил коня окольной тропой, и хотя гнал его во весь опор, ночь уже наступила и только сверкание снега позволяло ему видеть дорогу. Когда он добрался до знакомой тропинки, то увидел, что домик, прежде погруженный во тьму, теперь ярко освещен, а подъехав ближе, услышал торжественный заупокойный гимн, который пели находившиеся внутри монахи. Произошла перемена, душа покинула свою бренную обитель, и заброшенной руине оказывали больше почтения, чем удостоилась предсмертная борьба. Лудовико незаметно примкнул к толпе монахов и огляделся, ища прелестную девушку, которую оставил здесь. Она сидела отдельно ото всех на груде листьев в углу домика. Ее руки были сложены на коленях, голова опущена, а сама она то и дело утирала собственными волосами катившиеся по лицу слезы. Лудовико накинул ей на плечи свой плащ. Она подняла взгляд и плотнее закуталась в плащ, скорее из желания спрятаться, нежели согреться, а затем, отвернувшись, вновь погрузилась в свои печальные мысли.
Лудовико с жалостью взглянул на нее. Впервые после смерти матери глаза его увлажнились, а лицо озарилось нежным сочувствием. Он молча смотрел на нее, а в душе его рождалось желание осушить слезы, которые одна за другой капали из потупленных очей несчастной девушки. Предаваясь таким думам, он услышал, как его позвал по имени один из замковых слуг; бросив в подол страдалице несколько золотых монет, что оказались при нем, Лудовико поспешно вышел из домика, оседлал коня и в сопровождении слуги, посланного на его поиски, стремительно поскакал в сторону дома.
За время пути жалость, которую он ощутил поначалу, понемногу перестала бередить его душу и, смешавшись с привычными для него мыслями, придала им новое направление.
– Сколь жалок я! – вскричал он. – Я, одетый и сытый, и эта прекрасная крестьянка, измученная голодом, которая снимает с себя последнее, чтобы укрыть коченеющие члены своей единственной подруги! Я тоже потерял единственную, кто был мне дорог, и в этом мое истинное несчастье, причина моих нынешних страданий; льстецы зовут себя моими друзьями, шпионы и предатели навязывают мне свое общество. Я оттолкнул их, стряхнул их с себя, как вон та ветка стряхивает наземь лежащий на ней снег, не столь холодный, как их ледяные сердца, – но я одинок, одиночество гложет мне сердце и делает меня грубым, жалким, никчемным.
Но хотя он и предавался подобным мыслям, душа Лудовико смягчилась от увиденного недавно, и чувства более кроткие овладевали им. Он проникся сочувствием к той, которой оно было потребно; он совершил благодеяние для нуждающейся; уста его тронула нежная улыбка, а сознание собственной полезности наполнило гордостью и достоинством его пламенный взор. Окружающие заметили это и, не встретив в его обхождении привычной надменности, также смягчились, и казалось, что превращение, заметное в его характере, может повлечь за собой огромные перемены во всех его жизненных обстоятельствах. Но время, когда это превращение сделалось бы необратимым, еще не наступило.
На другой день после этой охоты князь Фернандо отправился в Неаполь и велел сыну сопровождать его. Пребывание в Неаполе было для Лудовико особенно тягостным. В поместье он пользовался относительной свободой: отец его довольствовался тем, что сын находится в замке, и порой забывал про него на несколько дней кряду; но здесь все было иначе. Опасаясь, что юноша заведет с кем-нибудь дружбу или связи, и зная, что его властный облик и своеобычные манеры способны привлечь внимание и даже вызвать любопытство, Фернандо не спускал с него глаз; расставаясь с сыном хотя бы на мгновение, он прежде удостоверялся, что Лудовико окружен людьми, и оставлял при нем своих приближенных, чье присутствие было для Лудовико горше всякой отравы. Кроме того, князю Мондольфо нравилось прилюдно осыпать сына оскорблениями и угрозами и даже, зная о недостатке у него изысканных манер, выставлять на посмешище перед своими приятелями. Пробыв два месяца в Неаполе, они вернулись в Мондольфо.
Стояла весна, задувал теплый и упоительный ветерок. Белые цветы миндаля и розовые цветы персиков едва начали выделяться на фоне распускавшейся зеленой листвы. Лудовико слабо ощущал бодрящее воздействие весны. Уязвленный в самое сердце, он вопрошал Природу, зачем она так разукрасила гробницу; он вопрошал ветерки, зачем они овевают скорбящих и мертвых. Он бесцельно скитался в одиночестве. Спустившись по тропинке, что вела к морю, он сидел на берегу и наблюдал за однообразным движением волн, прядавших и сверкавших; в его мрачные думы не проникала радость, которую излучали морские воды и солнце.
Рядом с ним показалась какая-то фигура; то была крестьянская девушка, которая несла на голове похожий на погребальную урну кувшин; одета она была бедно, однако привлекла внимание Лудовико, и, когда, подойдя к роднику, она принялась наполнять кувшин, он узнал в ней ту самую обитательницу домика, знакомую ему по минувшей зиме. Она тоже признала его и, оставив свое занятие, приблизилась и поцеловала ему руку с тем неотразимым изяществом, которым южные страны наделяют даже скромнейших своих детей. Поначалу она смутилась и принялась сбивчиво благодарить его, но вскоре обрела уверенность, и Лудовико услышал от нее красноречивое изъявление признательности – первое в его жизни. Радостная улыбка разлилась на его лице – и улыбка эта глубоко запала в сердце девушки. Минуту спустя они присели возле родника, и Виола поведала о своей бедной юности, о сиротской доле, о смерти своей лучшей подруги; лишь благодаря мягкому климату, уменьшающему людские потребности, она выглядела теперь менее несчастной, чем прежде. Она была одна в целом свете, жила в том заброшенном домике и перебивалась со дня на день чем придется. Ее бледные щеки, болезненная слабость, заметная в каждом движении, придавали правдивости ее словам; но она не плакала, говорила бодро, и, только когда она упомянула о благодеянии Лудовико, ее темные глаза подернулись слезами.
Произведения
Критика